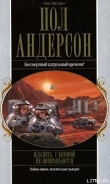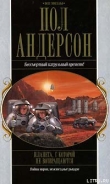Текст книги "Берлин и его окрестности (сборник)"
Автор книги: Йозеф Рот
Соавторы: Михаил Рудницкий
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Часть 3
Город и судьбы
Каково искать работу
Кто хоть раз в жизни вместо милостыни давал инвалиду-попрошайке совет «Иди работай!» или все еще злится на непомерно высокие пособия безработным, пусть выкроит дня три свободного времени и попытается найти работу сам. Поверьте, искать место куда менее приятно, чем, сидя в кафе, сносить приставания нищего инвалида.
Я ищу работу в центре города, потом в достопочтенных районах «старого Запада» и вблизи Александерплац, посвящая этому занятию по три часа три дня подряд. Три дня длятся мои поиски. Подводя итоги, я вынужден признать: посетив пятнадцать мест – в их числе большие магазины, экспортные и оптовые фирмы, а также заведения не столь солидные – я только в трех случаях удостоился хоть каких-то, – весьма, впрочем, проблематичных, – видов на будущее: в магазине мужской одежды меня пригласили зайти еще раз, в точильной мастерской пообещали мне написать, а заведующий складом известной угольной компании, с большим знанием дела оценив мои небогатые физические возможности и отказав мне по причине моей очевидной немощи, пообещал, однако, справиться в канцелярии, нет ли там для меня чего подходящего.
Я начал на Бюловштрассе с лавки скобяных изделий, где вдобавок есть и своя точильная мастерская. В этой лавке я когда-то отдавал точить ножницы, и хозяин, равно как и белокурая продавщица, отнеслись тогда ко мне на удивление душевно. На сей раз я явился часов в пять пополудни в своей уже порядком потрепанной шинели, головной убор снял в дверях и почтительно замер в трех шагах от прилавка. Блондинка-продавщица – о, как мне запомнилась ее лучистая, весенняя приветливость по отношению к «клиенту», который примерно полгода назад зашел в магазин в перчатках и отменном, с иголочки, штатском платье, – недоверчиво глянула на меня из-за плеча солидного покупателя, пристально изучавшего пилку для ногтей. Она уже выдвинула ящичек кассы, очевидно, намереваясь дать мне мелочи. Но тут из двери за прилавком показался мужчина, вероятно, хозяин, в светло-серой жилетке и пенсне на черном шелковом шнурке. Седые волосы подстрижены ежиком, а черные усики напомажены так, что аромат доносился даже до меня. На его светлой жилетке, словно нарисованная слеза, застыла капля машинного масла.
– Мне денег не надо. Я безработный и хотел бы у вас работать.
Хозяин склонил голову набок, наморщил лоб, уронил с носа пенсне – оно еще какое-то время нервно болталось на шнурке – и глянул на меня искоса. По-моему, это называется «испытующим взглядом».
– С металлом приходилось работать?
– Нет. Я бухгалтер по профессии.
– Бухгалтер! Клиентов обслуживать можете?
– Могу!
– Как будете обслуживать?
– У меня учтивые манеры.
– Ладно, Фрида, запишите его адрес. Мы вам напишем, – бросил господин, снова нацепил пенсне и проследил, как Фрида записывает мой адрес.
Уходя, я изобразил неловкий поклон. Фрида только глянула мне вслед и ничего не сказала, а хозяин несколько раз энергично кивнул головой, словно только что надел ее на шею и пожелал удостовериться, прочно ли она держится.
В прачечной на Потсдамской я своим вопросом насчет работы произвел маленький переполох. Хозяйка, толстая дама в белом переднике с шуршащими накрахмаленными рюшами, попросту схватила меня за рукав и повернула к двери, а потом еще долго осматривала свою руку – не испачкалась ли.
В магазинчике «Перчатки» очень милая хозяйка проникновенно сказала: «К сожалению, ничего нет» – и смотрела на меня жалостливо.
Мужчина с ручной тачкой напротив Потсдамского вокзала продавал апельсины и сказал мне, чтобы я приходил к восьми, а там видно будет:
– Если старуха моя не придет, вы мне поможете.
И дал мне, после долгих поисков и тщательного отбора, апельсин с пятнышком зеленой плесени.
Угольщик, вообще-то заведующий угольным складом в районе железнодорожного треугольника, долго осматривал меня цепким взглядом. На нем была коричневая спортивная кепочка с огромной эмблемой, из под которой поблескивали черные пуговки глаз. Крепкий коротышка, он даже слегка подпрыгнул, чтобы пощупать мой бицепс, после чего протянул:
– Не-е-е-а. Когда я уже с порога сказал «спасибо», он вдруг окликнул:
– Эй! Я остановился.
– А писать как следует умеете?
– Для наглядности он даже изобразил рукой процесс писания.
– Умею.
– Я спрошу в канцелярии. Вы заходите. Разумеется, он имел в виду «приходите снова».
– Но мне точно нужно знать, – сказал я.
– Не наверняка, но почти, – уверил он меня. – Так что вы заходите. И приветливо помахал мне рукой, словно я уже в поезде, а он провожающий на перроне.
Отделение банка неподалеку от станции Фридрихштрассе. За латунными решетками и толстым стеклом с проемами окошечек множество солидных господ усердно что-то строчат. Привратник с монограммами банка на всех частях тела и мундира, словно он не человек, а столовый прибор, делает вялое движение мне навстречу. Я подхожу к нему сам:
– Я хотел бы поговорить с управляющим.
Господин управляющий со скудными, на безупречно расчесанными на пробор волосенками, встречает меня в визитке. Прижимая к губам карандаш, спрашивает:
– Что вам угодно?
– Я ищу работу.
– Работы у нас нет.
– У меня университетское образование.
– Английский знаете?
– Немного.

Неизвестный фотограф. Сбор банкнот для утилизации. Около 1923 г. (Галопирующая девальвация превращала деньги в макулатуру, переработка которой стала выгодным бизнесом.)
– Читать и переводить письма, работать с корреспонденцией?
Слово «корреспонденция» он произносит через «э» – корреспондЭнция, – полагая, очевидно, что это по-французски. И явно желая внушить мне, что это нечто очень важное – столько весомости в этом его «э».
– Полагаю, с этим я справлюсь.
– Тогда напишите развернутое резюме, curriculum vita[15]15
Автобиография (лат.).
[Закрыть], – ну, образование, профессия, предыдущие места работы и так далее. Всего доброго.
И удаляется, небрежно помахивая своим длинным заточенным карандашом. Испещренный гравировками привратник провожает меня до дверей.
В трех продовольственных лавках вблизи от Александерплац мне подали старые, запыленные гардины, просроченную ливерную колбасу и две черствые булочки. На том и завершились мои поиски работы.
Нойе Берлинер Цайтунг, 02.02.1921
Субъект из парикмахерской
Воскресным утром в парикмахерской вас обволакивает знойная духота, как бы законсервированная тут раз и навсегда. Чувствуешь себя как в коптильне.
Процеженный щелями ставен солнечный свет золотистыми нитями струится в помещение. Прожорливо клацают ножницы, назойливо жужжит жирная муха.
(Еще ни один лирик не догадался воспеть разгар лета в стенах цирюльни. А между тем это задача, достойная пера Теодора Шторма или Мёрике. Чего стоит одно лишь ласковое жиканье, с которым лезвие опасной бритвы прохаживается взад-вперед по точильному ремню; а умиротворенный вид взмокшего толстощекого подмастерья, который благодаря усталости мастеров, изнуренных жарой, избавлен от их оплеух – да у него просто оплеушные каникулы!)
Однако и в такие знойные дни мужчины, пришедшие побриться, не прочь поболтать. И в то воскресное утро они тоже наверняка много разговаривали.
Но белобрысо-рыжий субъект с бычьим загривком и рогами наперевес, что ворвался в разморенную духоту парикмахерской как в пекло сражения, говорил больше всех.
Едва успев насадить на крюк свою шляпу – с такой силой, будто он намеревался этот крюк из стены выдернуть, – он тут же до того смачно хрястнул по плечу уже наполовину намыленного клиента, что намыливавший его подмастерье замер от ужаса.
А рыжий господин уже рассказывал о Гамбурге.
О Гамбурге он заговорил с ходу, без всякого присловья, словно продолжил разговор, только что начатый на улице.
– Все-таки чем дальше на север, тем национальнее настроены люди. В Гамбурге они такую пропаганду ко Дню флага развели – знай наших! Еще увидим! Еще будет! Главное – не робеть! Только вперед!
Фразы его все отрывистее, подлежащие чеканят шаг плечо к плечу, остальные слова, выпятив грудь, к ним подлаживаются: ать-два, ать-два. Ужас что за человек.
Куда бы ты ни направился, думаю я, чем дальше на юг, на запад, на восток, тем национальнее будут настроены там люди. Потому что ты везде чуешь кровь.
Своими рублеными фразами этот господин мгновенно угробил всю умиротворенную, разомлевшую от летней жарой атмосферу парикмахерской. Голос его если не реет как национальный флаг, то уж точно тарахтит как черно-желто-золотистый[16]16
Цвета германского государственного флага.
[Закрыть] жестяной флюгер.
– Вы-то наверняка снова пойдете, а, господин Тришке? Точно! Если завтра грянет! Наверняка! Да и кто нет? А оно грянет! Обязательно грянет! Неминуемо!
Слова его гремят очередями и одиночными. Из его глотки рвется ураганный огонь батарей, гаубиц, пулеметов, винтовок. Дремлющие мировые войны с храпом и хрипом ворочаются в его груди.
Господин Тришке наверняка остался бы без ноги – это как минимум! – не выпади ему удача всю войну намыливать и брить господ штабных офицеров. Так что если снова грянет, он ни за что никуда не пойдет.
Однако господин Тришке, мастер-парикмахер, молчит. Да и кто не замолчит? Муха, что совсем недавно так по-летнему знойно, так неугомонно жужжала, и та в почтительной оторопи прилипла к потолку как прибитая.
Все онемели, говорит только он, рыжебрысый. А ведь еще недавно он был на самом дне, но он не унывал, не опускал рук, он барахтался, барахтался, барахтался – и вот, пожалуйста, снова наверху. Он наверху.
Давеча встречает он одного компаньона, и тот просит у него денег в долг. А тем же вечером молодая жена этого самого должника как ни в чем не бывало с ним беседует, а у самой на пальце кольцо с бриллиантом!
– Моя жена колец с бриллиантами не носит!
– У моей жены нету трех летних шляпок! Мои сыновья по барам не шляются!.. А если бы шлялись, я бы, ей-богу, собственноручно их выпорол! И не посмотрел бы, что взрослые! Выпорол бы – и дело с концом!
Да, он строг к себе – лишь бы можно было быть грубым с остальными. Он мчится сам, лишь бы можно было подстегивать остальных. Он само пламя – лишь бы можно было остальных поджаривать. Жаждет войны, чтобы увидеть, как погибают другие. Он отдаст половину своего тяжким трудом добытого состояния – лишь бы сделать остальных своей добычей.
О, поверьте, он вовсе не вредитель общества, он его полезный друг. Поборник морали и социального блага. Он один вкалывает за сотню бездельников. Он – живой образец всех хрестоматийных доблестей. Ничего не откладывает на завтра. Его жизнь – сплошное поприще и трудовой подвиг, он – и щуп трубочиста, и черпак золотаря – только дым коромыслом, и сажа столбом, и нечистоты рекой, и вонь до небес.
Правда, не слышно ни рокота мотора, ни шороха приводного ремня, ни цокота копыт… Он – копатель окопов, кусачки для колючей проволоки, точильный камень для штыка, дуст от насекомых, он – кофемолка и кофеварка, он – безотказная зажигалка, безупречно сухой фитиль. Но и только.
Он с незапамятных времен мой заклятый враг. Он – моя тетя, каждую субботу драившая меня проволочной щеткой. Он сам – эта проволочная щетка.
У меня был сосед-стеклодув, его стерва-жена вечно бранилась. Он – ненавистная жена моего соседа-стеклодува.
В горнице у нас висели часы, перед каждым боем они истошно хрипели. Он – хрип этих часов.
Мой сосед по парте был отличником, у него всегда были безупречно чистые тетради. Субъект из парикмахерской – чистенькая тетрадь моего соседа-отличника; разлинованный журнал нашего учителя; сошедшееся уравнение; логарифмические таблицы!
Он – речь нашего ректора; пресный поцелуй старой девы, моей тетушки; ужин у моего опекуна; вечер в сиротском доме; экскурсия с господином учителем; партия в домино с моим глухим дедом.
Он – сама благопристойность и обязательность, чистенькая и кисленькая.
Он не подонок, он хуже того: поденщик.
И вот даже жарким летом в наших краях встречаешь такого субъекта – все равно что наткнуться на школьный учебник во время каникул.
А ведь только что ты жил, наслаждаясь в душе леностью лета, бездельем разморенного жарой мира, зеленью, покоем (иной раз уже почти мертвецким), жужжанием мухи, бесшумным трепетанием мотылька, солнцем (пропущенным в щели ставен), сытым жиканьем лезвия бритвы по точильному ремню, сонным позвякиванием ножниц, мягким плюханьем мыльной пены, привычно вялой пикировкой намыленных воскресных клиентов – наслаждаясь летней парикмахерской идиллией, достойной пера Мёрике или Теодора Шторма…
Но если бы не было его, рыжеватого субъекта из парикмахерской, этот мир неминуемо бы рухнул. Мир точильных камней, тетушек, логарифмических таблиц, пресных поцелуев, вязальных спиц, школьных экскурсий.
А этот мир не должен, не смеет рухнуть!..
Берлинер Бёрзен-Курир, 31.07.1921
Воскресший для новой жизни
(Полвека в застенках) В конце главной улицы Руммельсбурга[17]17
Окраинный район на северо-востоке Берлина.
[Закрыть], где уже радует глаз зелень, не ведающая фабричного дыма, стоит берлинский городской дом престарелых. Там, как известно, обитают старые люди. Они сбросили с себя груз прошлого, как тяжкую ношу, которую приходилось тащить до самого конца жизненного пути, а теперь, слава богу, можно от нее избавиться. Ибо короткий переход от богадельни до кладбища – это уже не в счет.
Вообще-то многие из этих стариков на склоне дней всего лишь возвращаются в попечительное заведение. Они уже смолоду побывали в казенном доме, как принято говорить, на исправлении, затем их выпустили в большую жизнь, которая их подхватила, помытарила, чтобы в конце концов бросить туда же, откуда они вышли и где набирались ума-разума. Теперь дивными вечерочками эти старики сидят на скамейках в большом парке и рассказывают друг дружке о дальних странах, о Мексике, об Испании и о бессчетных мысах Доброй Надежды, которых так много в этом мире, правда, не в географическом атласе, а в жизни, где ты рвешься к ним на всех парусах, чтобы о них же и разбиться. Дом престарелых – это судьба. Сколько бы ни носило человека по свету, рано или поздно он окажется в Руммельсбурге. Жизненные пути, полные самых головокружительных приключений, кончаются здесь. От судьбы по имени Руммельсбург никуда не уйдешь.
В руммельсбургском доме престарелых живет человек, у которого за плечами полвека смерти. Что для прочих здешних обитателей конец, для него только начало. Дом престарелых – это, так сказать, его подростковый интернат. Пятьдесят лет спустя он, семидесятилетний, стоит на пороге новой жизни.
Человека этого зовут Георг Б., и пятьдесят один год назад за пособничество в разбойном убийстве он был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Совсем недавно благодаря внезапной милости благосклонных властей он был помилован и отпущен на руммельсбергскую свободу. И впервые за пятьдесят один год снова побывал в одной из мировых столиц – Берлине.
Да будет здесь описано это воскрешение к новой жизни, ибо редкостность самого «казуса» хотя и не перевешивает неприглядного прошлого нашего героя, однако поневоле отодвигает его на задний план. Злодеяние его по юридическим меркам искуплено, а неповторимость его судьбы без этого искупления, как и без искупленных грехов, вряд ли была бы возможна.
Георг Б. знал Берлин, каким он его запомнил пятьдесят лет назад. Не раз и не два за долгие годы тюремного заточения ему вспоминался этот город, и перед мысленным взором вставали булыжные мостовые, по которым грохочут запряженные битюгами подводы, и именно с этим грохотом связывалось для него представление о шуме большого города, окраина которого начиналась где-то в районе Потсдамской площади. Пятьдесят лет он хранил в своей памяти образ этого города именно таким. А ежели случалось ему дерзнуть поразмышлять о возможностях прогресса, ежели украдкой подобранный, неведомо как залетевший в застенки клочок газеты наталкивал его на домыслы о новомодных технических изобретениях, то в воображении вместо трехэтажных домов вздымались четырехэтажные, а внутреннему оку, лишенному возможности лицезреть переменчивую действительность, в качестве совсем уж диковинного чуда из чудес рисовалась, быть может, самодвижущаяся повозка. Да и то это была колымага, предельно мыслимая скорость которой не превосходила скорости конного экипажа, запряженного четверкой, ну, от силы шестеркой лошадей. Ибо за что еще могло цепляться его воображение, как не за привычные, доступные уму мерки? Гужевой транспорт – вот с чем было для него связано представление о скорости, он никогда в жизни не видел и вообразить себе не мог, что человек способен передвигаться шустрее зайца, оленя и даже газели.
А тут вдруг Б. вышел из вагона городской железной дороги и очутился в двадцатом столетии. В двадцатом? Да куда там – как минимум в сороковом! Стрелой, нет, пулей, словно вылетевшие из ствола, по улицам на сверкающих металлом тарахтящих двухколесных таратайках взад-вперед носились молодые люди с пачками газет под мышкой. Поблескивая черным и коричневым лаком, по мостовым сами собой и почти бесшумно скользили шикарные экипажи, огромные и совсем крохотные. На возвышении сидел водитель и крутил штурвал, словно правит кораблем. А из глоток этих повозок со всех сторон доносились странные, то писклявые и басовитые, то пронзительные и благозвучные, то грозные, жалобные и умоляющие, то осипшие и полные ненависти звуки. О чем они кричат? Такими истошными и непонятными голосами? Что пытаются приказать пешеходам? И все их понимают – один только Б. нет. За время его отсутствия в мире появился совершенно новый язык, средство взаимопонимания, столь же само собой разумеющееся, как и его родной немецкий, состоящий, однако, из душераздирающих, жутких звуков, словно извлеченных из третичного периода, из младенческих времен человечества, из непролазных первобытных дебрей. Все подчинялось каким-то непостижимым правилам и законам: один зачем-то останавливается, тогда как другой, ухватившись за рога рычащей машины и приникнув к ней, словно пытаясь уберечь на собственной груди собственную жизнь, мчится вдоль по гладко вымощенной набережной. Потсдамская площадь из окраины города превратилась в его центр. Жалобный сигнал рожка из уст полицейского на перекрестке приказывал одним стоять, другим идти или ехать, целое скопище трамваев и машин, плотно уткнувшись и едва ли не подталкивая друг дружку, являло собой ошеломляющую, пронзительную, умопомрачительную какофонию цветов и звуков, красных, желтых, фиолетовых…
А тут еще эта сеть проводов над головой, вдоль и поперек испещренное черными нитями небо, словно некий сумасшедший инженер расчертил на ватмане эфира свои безумные планы. Приложи ухо к металлической мачте, и услышишь в ней гул множества непонятных, жутких голосов, словно где-то в далекой Африке целое племя дикарей то ли в кровавом, то ли в молитвенном трансе издает душераздирающие вопли, а здесь, в Берлине, их слышно.
Георг Б. приобрел билет в подземку и, не успев опомниться, подхваченный толпой других пассажиров, очутился на перроне, был втиснут в поезд – и вот тут-то решил, что, не иначе, сама преисподняя свихнулась. Да неужто мертвецы способны спать в таком грохоте? Неужто не сотрясаются в гробах их бренные косточки? Неужто этот громоподобный рев не нарушает их вечную тишину? Да и верхний, наземный мир – как он от всего этого адского шума не проваливается в тартарары? Почему всякий раз над проносящимся под землей поездом не проламывается асфальт, увлекая в разверзающиеся бездны тысячи людей, моторных и конных повозок, хитросплетения проводов и все прочие диковинные премудрости нового времени?
Георг Б., семидесятилетний старик, шагает по жизни зеленым юнцом. Он хотел бы работать. Энергия, полвека дремавшая в его теле, жаждет применения и выхода. Только кто же ему поверит? Но закоснеть в таком вот детском неведении тоже не годится. Выходит, его ждет смерть? Он стоит на краю могилы? Небывалое испытание, выпавшее на его долю, кажется издевкой над всеми привычными человеческими мерками. Это испытание – победа над смертью. Освоив мир современного города, Георг Б. теперь должен освоить мир работы. Человек, заброшенный в мир машин, и сам должен стать машиной. Гальванизирующие токи семидесяти втуне прожитых лет пронизывают и сотрясают его дрожью нетерпения: Б. должен работать!
Нойе Берлинер Цайтунг, 24.02.1923
Человек из картона
Человек из картона шел по улице. Из картона были его плечи, спина, грудь и все, что ниже пояса. Не из картона были только ступни ног. Вместо головы на картонном туловище торчал уродливый куб из плотной бумаги. Передняя сторона куба являла собой, так сказать, лицо, причем весьма примитивное: два квадратных отверстия изображали глаза, еще одно, треугольное, мнило казаться носом. Ни ушей, ни рта у человека не было. Очевидно, ни есть, ни слышать от него не требовалось. А требовалось от него одно: ходить, ходить, ходить.
Его картонное тело, словно в насмешку над этой своей основной деятельностью и будто в издевку над шаркающими под картонным туловом рваными башмаками, было спереди и сзади разрисовано вроде как татуировкой: татуировка изображала большой, занимающий чуть ли не всю переднюю сторону автомобиль и надпись: «Бжик-бжик[18]18
Во избежание обвинений в антирекламе Йозеф Рот изобретает здесь вымышленную марку автомобиля (в оригинале Fix-fix).
[Закрыть], быстрейшее в мире авто».
Нетрудно догадаться, что человек, о котором я рассказываю, был один из тех бедолаг, кого – в полном противоречии с их доходами – в народе прозвали «сэндвичами». Противоречив был и весь его облик: прославляя быстрейшее в мире авто, внушая всему свету мысль о неимоверной скорости этого авто, он обязан был ходить медленно. Ибо хитроумная фирма «Бжик-бжик», воспользовавшись его услугами, наградила этого человека редкостно неповоротливым телом. Это был не человек, а ходячая афишная тумба – зрелище, достаточно парадоксальное само по себе. А если бы бегающая – вот был бы восторг! Но с тех пор, как существуют автомобили «Бжик-бжик», да и вообще реклама, шустрых людей-сэндвичей мир еще не видывал.
Нет! Этот человек, иллюстрируя необычайную скорость автомобиля «Бжик-бжик», шагал медленно. Мимо него, обгоняя, мчались автомашины, в том числе, вероятно, и марки «Бжик-бжик». Человек невозмутимо шел дальше, и обстоятельная равномерность его шагов по асфальту наводила на мысль о вертящихся внутри него шестеренках. Дождь шел и переставал. Солнце выглядывали из облаков и снова пряталось. Люди на тротуарах останавливались поглядеть на оживший рекламный плакат и снова шли дальше. И только он, человексэндвич, неутомимо вершил свой путь по улице – туда и обратно.
Неутомимо? Да разве тот, у кого нет ни лица, ни тела, кому оставили одни ступни, ибо только они и потребны фирме «Бжик-бжик» для ее сиюминутной рекламной надобности, – разве у такого существа есть сердце, способное утомиться и замедлить свое биение? Это противоречило бы интересам фирмы! И если уж удалось до такой степени исказить подобие Господа, что и сам Всевышний, узри он случайно сию картину, вынужден был бы поверить, будто и на его превечном лике тоже намалевана реклама марки «Бжик-бжик» – что стоило вправить в тело этого наемного существа неутомимый механизм вместо обычного человеческого сердца?
Однако нет, не удалось! Ибо после полудня, в начале второго, я сподобился увидеть чудо: человек-сэндвич остановился, снял с себя сперва переднюю часть, потом спину, затем сам себя обезглавил, поставив свою кубическую «личность» на тротуар и, уже совсем в другом виде, обыкновенным человеком на двух ногах, присел на ступеньки. И никто не удивился этому мгновенному превращению картонного существа в обычного человека из плоти и крови. Что и понятно: к сожалению, во всей этой истории про человека-сэндвича нет ничего чудесного и ничего удивительного. В Китае вон тоже никто не удивляется при виде гужевых людей, именуемых «кули», все назначение которых сводится к тому, чтобы сделать автомобили «Бжик-бжик» абсолютно излишними.
Форвэртс, 10.02.1924