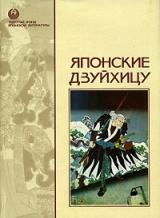
Текст книги "Существование и открытие красоты"
Автор книги: Ясунари Кавабата
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Это две танки Укифунэ из главы «Занятия каллиграфией». «Жил в это время в Ёкава благочестивый человек по имени Содзу». Высокопоставленный монах из Ёкава, возвращаясь в сопровождении ученика после паломничества в Хацусэ, остановился в Удзи и на берегу реки Удзи спас жизнь Укифунэ. Оба стихотворения Укифунэ написала после своего спасения, когда, оправившись, начала заниматься каллиграфией. Когда наступила ночь, монах, что сопровождал Содзу в Хацусэ, и еще один, пониже званием, захватив огонь, пошли прогуляться по глухим местам, куда никто не заглядывал. Когда они приблизились к роще, им показалось, что там кто-то есть. Подойдя ближе, заметили, что-то белеет. Удивившись: «Что бы это могло быть?», подошли еще ближе и рассмотрели – что-то белеет.
«Не проделки ли это лисы? А ну-ка, монахи, посмотрим получше». Приблизившись, увидели женщину. Ее длинные распущенные волосы блестели. Упав ничком на корень дерева, она жалобно плакала.
«Ну и дела! Такого еще не бывало. Не оборотень ли?» И они решили позвать главною монаха из Ёкава и хозяина, у которого остановились.
«Кто ты, привидение, божество, лисица или дух дерева? Кто бы ты ни была, принявшая образ человека, откройся нам! Назови себя!» С этими словами один из монахов потянул ее за рукав, но, закрыв лицо, она принялась плакать пуще прежнего. «Может быть, это дух дерева? Но тогда, так бывало в старину, у него не должно быть носа и глаз». Он попытался отдернуть ее руку, она же упала на землю и зарыдала в полный голос. «Собирается дождь. Если мы бросим ее здесь, она умрет». И они решили перенести ее к забору. Тут Содзу сказал: «Похоже, что это человек. Странно, что ее бросили здесь одну на погибель. Больно видеть, если равнодушно смотрят, как от рук человека погибает рыба, плавающая в пруду, или олень, резвящийся в горах. Но если случается человеку продлить жизнь хотя бы на день, то это ужнаш долг. Кто бы она ни была, вселился в нее злой дух или божество, или, соблазненная дурным человеком, она от отчаяния решила умереть, мы не можем ее бросить и не вознести молитвы Будде о ее спасении. Дадим ей хотя бы выпить горячей воды. Если не помочь ей, она умрет».
После этого Укифунэ перенесли в дальний угол дома, куда не доносился шум, и уложили спать.
Укифунэ была молода и на редкость красива. Ее кимоно из белой узорчатой ткани и темно-красные хакама – благоухали. Младшая сестра Содзу, монахиня, подумала даже, что Укифунэ – ее умершая дочь, вернувшаяся из того мира, и заботливо ухаживала за ней. «Как я счастлива, – думала она, – что вижу девушку такой красоты… Какое блаженство расчесывать своими руками ее чудесные волосы». Казалось, к ним спустилась сама небесная дева. Монахиня была еще больше потрясена, чем старик Такэтори, когда нашел Кагуяхимэ.
Но если я буду столь подробно пересказывать главу «Занятия каллиграфией», то мы просидим здесь до утра. А на лекции о «Десяти главах Удзи» у меня ушло бы слишком много времени. Что поделаешь, приходится ограничивать себя. Но стоило мне заговорить о блестящей повести Мурасаки Сикибу, как, естественно, перед глазами возникла Кагуяхимэ. Когда заходит речь о «Такэтори-моногатари», приводят обычно отрывок из «Гэндзи» – из главы «Эавасэ» («Подбор картинок»), где рассказывается о «старом бамбукорезе – самом далеком предке моногатари». Более того, в главе «Подбор картинок» Мурасаки пишет о том, что «во время игры всё время выбирают картинки из повести о Кагуяхимэ», что «Кагуяхимэ чиста от земной грязи, благородна и возвышенна в мыслях» и что «небеса, куда вознеслась Кагуяхимэ, – никто о них ничего не знает». Все это упомянуто в главе «Подбор картинок». Наконец, как я уже говорил, в главе «Занятия каллиграфией» сказано: «Она была еще больше потрясена, чем старик Такэтори, когда нашел Кагуяхимэ». «Давным-давно жил на свете дед Такэтори. Он целыми днями пропадал в горах и полях, собирая бамбук, из которого делал разные вещицы. Звали его Сануки-но Мияцукомаро. Собирая бамбук, он заметил, что один из них как будто светится изнутри. Удивившись, старик подошел поближе и увидел, что действительно одно коленце бамбука излучает свет. Присмотревшись, разглядел в нем очаровательную девочку, совсем крошечную, в три суна. Тогда старик сказал: „Раз ты живешь в бамбуке, мимо которого я хожу каждый день утром и вечером, значит, ты предназначена мне в дочери“. Взяв ее в ладони, он отнес домой и передал девочку на попечение жене. Слов нет, как была она хороша собой, и настолько мала, что поместили ее в корзиночку».
Я учился в средней школе, когда впервые прочитал эти начальные строки «Такэтори-моногатари» (начало X в.) и сразу ощутил их красоту. Когда я видел бамбуковую рощу в Сага, вблизи от Киото, или молодые бамбуковые леса в Ямадзаки и Мукомати (они дальше от Киото, но ближе к моему дому), я представлял себе, что в таком же красивом лесу светится коленце бамбука, в котором живет Кагуяхимэ. Мне, ученику средней школы, не было известно о тех легендах и преданиях, которые лежат в основе «Такэтори-моногатари», но я чувствовал, что автор «Такэтори» открыл, пережил и сотворил красоту. Я и сам стремился к этому, и потому эта родоначальница японской повести, ее ни с чем не сравнимое изящество доставляли мне неслыханное удовольствие. Я был зачарован ею. Будучи юношей, я воспринял эту повесть как поклонение чистоте и невинности, прославление вечной женственности.
Возможно, это плод моего юношеского воображения, но и теперь мне кажется, что два упомянутых отрывка из «Гэндзи»: «Кагуяхимэ чиста от земной грязи, благородна и возвышенна в мыслях» и «Небеса, куда вознеслась Кагуяхимэ, – никто о них ничего не знает» – это не только изящные слова самой Мурасаки, но и мои ощущения. Здесь, в Гонолулу, я прочел у современных исследователей японской литературы, что «Такэтори-моногатари» выражает тоску людей той эпохи по беспредельности, вечности и чистоте. Моему юношескому воображению казалось очаровательным, что крошечная, «всего в три суна», Кагуяхимэ живет, окруженная заботой, в корзинке из бамбука. Мне невольно пришла на память песня императора Юряку из начала первого свитка «Манъёсю» (поэтическая антология VIII в.):
Ах, с корзинкой, корзинкой прелестной в руке
И с лопаткой, лопаткой прелестной в руке,
О дитя, что на этом холме собираешь траву,
Имя мне назови, дом узнать твой хочу!
Ведь страною Ямато, что боги узрели с небес,
Это я управляю и властвую я!
Это я здесь царю, и подвластно мне все,
Назови же мне дом свой и имя свое!
Представляешь себе девушек с корзинками в руках, собирающих на холмах травы. Наверное, по ассоциации с Кагуяхимэ – небесной девой, которая вознеслась в лунный дворец, я вспомнил о девушке Мама-но Тэкона из Кацусика, которой многие домогались, но никто не добился ее руки. Бросившись в воду, она покончила с собой. И об этом есть песня в «Манъёсю»:
И хоть слышал я, что здесь
Место, где лежит она,
Успокоившись навек,
Чудо-дева Тэкона
Из страны Кацусика,—
Потому ли, что листва
На деревьях хиноки
Стала так густа,
Потому ль, что у сосны
Корни далеко ушли,—
Не узнать мне этих мест…
Видел это я сам
И другим собираюсь поведать
О Кацусика – славной стране, где в уезде Мама
Знаменитой красавицы – девы младой Тэкона
Место вечного упокоенья…
Вот в Кацусика, в дальней стране,
В тихой бухте Мама,
Верно, здесь, наклонившись,
Срезала жемчужные травы морские
Тэкона. Все о ней нынче думаю я…
(Ямабэ Акахито, VIII 6.)
Там, где много певчих птиц,
В той восточной стороне,
В древние года
Это все произошло,
И до сей еще поры
Сказ об этом все идет…
Там, в Кацусика-стране,
Дева Тэкона жила,
В платье скромном и простом
Из дешевого холста,
С голубым воротником.
Дома пряла и ткала
Все как есть она сама!
Даже волосы ее
Не знавали гребешка,
Даже обуви не знала,
А ходила босиком.
Несмотря на это все,
Избалованных детей,
Что укутаны в парчу,
Не сравнить, бывало, с ней!
Словно полная луна,
Был прекрасен юный лик,
И бывало, как цветок,
Он улыбкой расцветал…
И тотчас, как стрекоза
На огонь стремглав летит,
Как плывущая ладья
К мирной гавани спешит,
Очарованные ею,
Люди все стремились к ней!
Говорят, и так недолго нам,
Ах, и так недолго нам
В этом мире жить!
Для чего ж она себя
Вздумала сгубить?
В этой бухте, где всегда
С шумом плещется волна,
Здесь нашла покой она
И на дне лежит…
Ах, в далекие года
Это все произошло,
А как будто бы вчера
Ради сумрачного дня
Нас покинула она!
(Заключительная танка):
И когда, в страну эту восточную придя,
Взглянешь, как у брега катится волна,
Сразу загрустишь
О деве молодой,
Что сюда ходила часто за водой.
(Тахахаси-но Мусимаро, VIII в.)
Дева Тэкона из Мама – один из идеальных женских образов «Манъёсю». Мусимаро принадлежит также «длинная песня» – легенда о деве Унаи, из-за которой не на жизнь, а на смерть поссорились двое:
Каждый в воду и огонь
За нее готов идти!
И когда в тех состязаньях
Друг для друга стал врагом,
Дева, горько опечалясь,
Матери сказала так:
«Из-за девушки не знатной,
А простой, такой, как я,
Что прядет простые нити
И не ведает шелков,
Если знатные герои
Вздумали себя убить,
Значит, мне не быть счастливой
С тем, кого хочу любить!
Жив ли будет он, не знаю,
Неизвестно это мне,
Лучше ждать его я буду
В лучшей, вечной стороне».
И, плача, она покончила с собой.
Молча плача и горюя,
Унаи ушла навек.
Только юношу Тину
Это все во сне увидел…
И, тая на сердце тайну,
Он ушел за нею вслед…
Тут герой из Унаи,
Что отстал теперь от них,
В небеса свой взор направил,
Словно там он их искал,
Громким криком закричал он,
Стиснув зубы, он упал,—
Гневный крик его раздался,
Словно он кому кричал:
«Нет, не дам, чтоб мой соперник
Победить меня сумел».
И схватил он меч свой острый,
Что у пояса висел…
И оба последовали вслед за нею.
И, на долгие года
Чтобы память сохранилась
И на вечные века
Чтобы все передавали
Этот сказ из уст в уста,
В середине положили
Деву юную тогда,
А с боков легли с ней рядом
Два героя-удальца:
Здесь нашли они покой.
Мы о тех делах слыхали,
Ну а сами не видали,—
Только кажется порой,
Что при нас это случилось,
Слезы катятся рекой!
В молодые годы мне больше всего из японской классики нравились хэйанские «Гэндзи-моногатари» и «Записки у изголовья». Более ранние «Кодзики» (712 г.) и более поздние «Хэйкэ-моногатари» (начало XIII в.), рассказы Сайкаку (1642–1693) и драмы Тикамацу (1663–1724) я прочел позже. Что касается поэзии, то, казалось бы, сначала следовало прочесть хэйанское «Кокинсю», а я начал, с «Манъёсю» эпохи Нара (VIII в.). Правда, я не столько сам выбирал, что читать, сколько следовал духу времени. Конечно, язык «Кокинсю» проще языка «Манъёсю», но молодым людям доступнее «Манъёсю», чем «Кокинсю» или «Синкокинсю» (поэтическая антология XIII в.), живые чувства «Манъёсю» им ближе. Я вот думаю, хотя может показаться, что упрощаю вопрос: в прозе я оказывал, предпочтение грациозному, женскому стилю, а в поэзии – мужественному, мужскому. Но, так как и в том и в другом случае я имел дело с лучшими произведениями, это пошло на пользу. Наверное, многие вещи обусловливают переход от «Манъёсю» к «Кокинсю». И наверное, я опять впадаю в банальность, но переход от «Манъёсю» к «Кокинсю» можно сравнить с переходом от культуры Дзёмон к культуре Яёй. Это периоды глиняных сосудов и глиняных фигурок. Если глиняные сосуды и фигурки периода Дзёмон – предметы мужского стиля, то глиняные сосуды и фигурки периода Яёй – образы женского стиля. Конечно, нельзя забывать, что период Дзёмон продолжался пять тысяч лет.
Я потому вдруг вспомнил про культуру Дзёмон, что красота Японии, вновь открытая и пережитая после войны, не есть ли красота Дзёмон? Были обнаружены глиняные сосуды и фигурки, погребенные под землей. Произошло открытие красоты, которая и в земле продолжала существовать. Конечно, о красоте Дзёмон знали и до войны, но только в наши дни, уже после войны, эта красота получила настоящее признание и распространение. Вновь предстала взору красота столь мощной жизненной силы, что диву даешься; кажется невероятным, что ее могли создать японцы в такой глубокой древности.
Следуя извилистой дорогой ассоциаций, я отклонился от главы «Занятия каллиграфией» и уж больше не вернусь к «Гэндзи». Но рассказ о том, как монах Содзу из Ёкава спас Укифунэ, уж очень хорош: «Больно видеть, если равнодушно взирают, как от рук человека погибает рыба, плавающая в пруду, или олень, резвящийся в горах. Но если случается человеку продлить жизнь хотя бы на день, то это уж наш долг. Кто бы она ни была, вселился в нее злой дух или божество, или, соблазненная дурным человеком, она от отчаяния решила умереть, мы не можем ее бросить и не вознести молитвы Будде о ее спасении… Если не помочь ей, она умрет».
Умэхара Такэси (род. в 1925 г.) говорит по этому поводу: «Укифунэ действительно существо, находящееся во власти демонов и духов, кем-то обманута и покинута. Ей некуда идти, и нет у нее другого выхода, как умереть. Но Будда спасает как раз таких людей. В этом зерно буддизма Махаяны. Человек, одержимый демонами и духами, испытывает невыносимые муки, ему не хочется жить, он готов умереть, – таких отчаявшихся и спасает Будда. В этом и зерно махаяны, и, видимо, так смотрит на жизнь и сама Мурасаки. Если прообразом монаха Содзу из Ёкава послужил монах Эсин из Ёкава, или Гэнсин (942—1017), автор „Учения о спасении“ („Одзё ёсю“), то становится понятным вопрос Умэхара: „Не бросает ли Мурасаки Сикибу в „Десяти главах Удзи“ вызов Гэнсину, образованнейшему человеку своего времени?“ „Разве не пустила она стрелы критики, указав на противоречие между учением и образом жизни Гэнсина?“ Будда станет спасать „скорее грешницу, несмышленую женщину вроде Укифунэ, – будто кричит нам Мурасаки, – чем такого высокопоставленного монаха, как Гэнсин!“ И то, как Мурасаки Сикибу, жалея Укифунэ, постепенно к концу повести приводит ее к очищению, оставляет неизгладимый след в душе».
Итак, хотя сам я не проник дальше входа в Красоту, явленную в «Гэндзи», не могу не упомянуть о превосходных работах о «Гэндзи» американских исследователей японской литературы: Эдварда Зейденстикера, Дональда Кина, Ивана Морриса, которые многое для меня прояснили. Десять лет назад на обеде в британской секции Пен-клуба я сидел рядом с Артуром Уэйли, переводчиком «Гэндзи», который ввел его в ряд мировой классики. До сих пор помню наш разговор: он – на ломаном японском, я – на ломаном английском, объяснялись главным образом записками на японском и на английском, но все же понимали друг друга. На мое предложение приехать в Японию он ответил, что не приедет, потому что боится разочароваться.
Меня поразили слова Дональда Кина из «Возвышенных бесед у подножия горы», опубликованные в газете «Синано майнити» от 16 августа 1966 года: «Мне кажется, иностранцу легче понять очарование „Гэндзи“, чем самим японцам».
«Английский перевод „Гэндзи“ произвел на меня в свое время столь сильное впечатление, что привел к японской литературе. Мне кажется, иностранцу легче понять очарование „Гэндзи“, чем самим японцам». Язык оригинала сложен, труден для понимания. Разумеется, есть немало переводов «Гэндзи» на современный язык, прежде всего перевод Танидзаки Дзюнъитиро, но, стараясь оживить дух оригинала, переводчики невольно прибегают к выражениям, не принятым в современном языке. В английском переводе этого нет, и потому, когда читаешь «Гэндзи» на английском, он поистине очаровывает. Я даже думаю, что психологически американцам XX века ближе «Гэндзи», чем европейская литература XIX века. Это, наверное, оттого, что очень живо представлены человеческие характеры. Если, скажем, спросить, какая вещь старше – «Гэндзи-моногатари» или «Золотой демон» Одзаки Коё (1867–1903), то последняя окажется старше. Герои «Гэндзи» – живые люди, и отсюда его вечное нестарение и непреходящая ценность. Время и образ жизни, конечно, другие, но они понятны американцам XX века. Не случайно в женских колледжах Нью-Йорка включили «Гэндзи-моногатари» в курс литературы XX века.
Я почувствовал, что слова Кина «иностранцу легче понять очарование „Гэндзи“» перекликаются со словами Тагора: «Иностранцу, видимо, легче понять, что отличает японцев», и подумал: какое счастье, что Красота существует и открывается людям.







