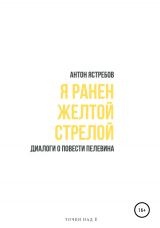
Текст книги "Я ранен желтой стрелой"
Автор книги: Ястребов Васильевич
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Ястребов Васильевич
Я ранен желтой стрелой
Вагон №10
Этот поезд в огне
И нам не на что больше жать
Этот поезд в огне
И нам некуда больше бежать..
БГ
-Почему «Желтая стрела»? И почему сразу после разговора о «Затворнике и Шестипалом»?
–У «Затворника» и «Стрелы» немало общего. В каком-то смысле, повесть Виктора Пелевина «Желтая стрела» может выглядеть логическим продолжением истории о цыплятах, бегущих с территории комбината, так как здесь героям, а точнее главному герою предстоит осуществить нечто похожее. Определённым сходством обладают и группы ключевых образов: конвейер – рельсы, отсеки для цыплят – вагоны, Стена Мира – тамбур, как зона перехода не только между вагонами, но и лазейка, через которую можно выбраться на крышу поезда. Ну и конечно, в этой истории есть свой учитель, как и свой ученик. Затворник на определенном уровне сближается с Ханом, тогда как Андрей в чем-то уподобляется Шестипалому.
-Андрей?
– Да, это главный герой истории, молодой человек, двадцати семи-двадцати восьми лет. Есть в «Стреле» и свои Двадцать Ближайших, которые объединены, слиты в один образ с теми, кто в одном из отсеков для цыплят возглавлял общину верующих. Интересно, что в «Стреле» Пелевин поведёт разговор об этом на более тонком, завуалированном уровне, хотя, в чём-то даже ещё более резкой и циничной манере.
-Сходство есть, а в чём же тогда отличия?
–Перед нами произведение о людях, а значит, будет больше конкретики, так сказать, жизненных реалий. Отчасти, но только отчасти, это развязывает автору руки, теперь он может вплетать в ткань повествования сцены и зарисовки из окружающей его на тот момент жизни. За основу Пелевин берёт образ поезда, несущегося к разрушенному мосту; наполняет этот состав живыми, настоящими людьми. Это люди, забывшие о том, что они пассажиры, убаюканные не только ритмичным, гипнотизирующим перестуком колёс, но и тем, что в "Затворнике" обозначается как социум.
–Это преимущества, а недостатки?
– Пожалуй, здесь только один недостаток: единственный, но достаточно существенный. Перед нами не притча. Кажется, что Пелевин выстраивает мир, окружающий главного героя похожим образом, что и здесь есть мир-тюрьма, замкнутая вселенная, подобная птицекомбинату имени Луначарского. Есть и другие моменты повторяющие, а то и углубляющие темы, затронутые в «Затворнике», но мы видим, что в пространстве притчи автору проще показать, как-то представить переход от прыгающего в длину-высоту бройлерного цыпленка к птице, способной взлететь над комбинатом. Это же касается и грани, отделяющей замкнутую, пропитанную кровью и ужасом вселенную Луначарского от большого, бескрайнего мира зеленых лугов, полей. Притча впускает, органически принимает в себя эти сами по себе глубокие метафоры, преобразуя их в нечто ещё более окрыляющее воображение, распахивающее перед читателем перспективу далеких, новых горизонтов. А вот в «Стреле», где мир мечты и свободы совсем рядом, фактически за окном поезда, уже сложнее показать это пространство как нечто высшее, более прекрасное и совершенное.
-Но этот мир проносится за окном, попасть туда ничуть не проще, чем выбраться за стену комбината.
–Это так, но глядя в окно, Андрей не видит там ничего, что могло бы сдвинуть его с мертвой точки, как и других пассажиров поезда. Напротив, Шестипалый, взлетев над зданием комбината, увидел настоящее солнце, яркую насыщенную зелень лугов и полей, он ощутил новые запахи. Андрей же, вместе с прочими пассажирами не видит в проносящихся пейзажах ничего необычного или даже фантастического. Да, туда летят гробы и венки, а чуть позже в ту же сторону спрыгивает индеец, исполняющий свой последний танец на крыше поезда. И все.
-Может все дело в том, что цыплята были крохотными в сравнении со зданием комбината?
–Мы не знаем реальных размеров «Желтой Стрелы», но судя по всему, она столь же огромна для своих пленников-пассажиров, как и птицекомбинат имени Луначарского. В ходе одной из своих прогулок, Андрей и Хан шли целый день, пока не пришли в ту часть поезда, где были заброшенные и пустые вагоны. Но они не уперлись в тупик, не пришли к последнему тамбуру. Может, все дело в том, что на примере поезда сложнее показать различия в восприятии бройлерного цыпленка и мудрой птицы, способной одним взглядом окинуть вереницу отсеков на конвейере. Но мы видим, что герой "Стрелы" Андрей прозревает постепенно, что в этом он также уподобляется Шестипалому. Вспомним эти стадии: пробуждение, встреча с Ханом, осознание себя пассажиром. Затем, выход на крышу поезда, где герой видит человека, прыгнувшего с крыши поезда. Это реальное свидетельство того, что поезд можно покинуть. После этого, герой читает текст в тексте, что приближает его к точке включения, инсайта, которой окажется уход Хана и последнее прочитанное письмо. Как видим, здесь тоже не обходится без инсайтов и откровений. Открытия главного героя также как и в «Затворнике» соотносятся с постепенным прозрением читателя. Последнего предполагается вести рядом с главным героем, как бы постепенно посвящая, погружая в истину, которую сразу не переварить, не осмыслить.
-По объёму эти вещи стоят где-то рядом? Также тридцать-сорок страниц?
–Да. В «Стреле» двенадцать глав, которые пронумерованы в порядке убывания. Несколько позже, мы понимаем, что это привязка к нумерации вагонов, что называется, с хвоста поезда, но в целом, по моему мнению, за этим ничего особенного не стоит. Герой двигается между вагонами в произвольном порядке, а судя по всему, в «Стреле» этих вагонов неисчислимое множество, что подтвердится в одном из путешествий Хана и Андрея. Но не будем забегать вперёд. В этот раз, пожалуй, будет уместно строить нашу беседу, следуя за автором. Предлагаю говорить о кратком содержании каждой главы, обращать внимание на отсылки, цитаты, маркеры, ну и конечно не забывать о соотнесении этого текста с «Затворником» и, конечно же, ключевыми образами, которые были выделены, подчеркнуты нами несколько ранее.
-А соотнесение «Стрелы» с текстами Кастанеды? Насколько данный текст Пелевина носит кастанедианский характер?
–Поначалу мне казалось, что «Стрела» ещё одно зеркало заднего вида, через которое можно украдкой оглядывать таинственные и чуждые мексиканские пейзажи. На это как будто указывала и связка Хан-Хуан, а также отдельные моменты, когда автор склоняется в реверансе перед своим тайным крестным отцом и, скажем так, идейным вдохновителем. Впрочем, это были, что называется, частные случаи, а в «Стреле» Пелевин стал чаще смотреть на восток. Я ещё отмечу, где это возможно, признаки, даже так метки, маркирующие начало идеологического сдвига в мировоззрении писателя, моменты, указывающие на то, что он нащупывает место для шага не то чтобы вперёд, но дальше.
-Но разве это плохо?
–Вовсе нет. Поиск истины, духовный поиск – продолжается. Я многое домысливаю, играю теми догадками, а с ними и смыслами, что мне открываются, возможно, там и не было никакого медленного сдвига, плавного смещения из одной парадигмы в другую. Возможно, это была мгновенная авторская телепортация или же Пелевин просто высунулся из кастанедианского мировоззрения, оглянулся по сторонам и увидел перед собой «Путеводитель по дорогам Индии». Тут возможно всё что угодно, но нельзя не отметить, что Кастанеды в «Стреле» будет куда как меньше. Местами – так и вовсе не будет, словно «Затворником» всё было сказано. Но тень Хуана тут есть, несомненно, его призрак продолжит бродить по страницам пелевинских текстов.
-Какие произведения написаны и опубликованы Пелевиным в период между «Затворником» и «Стрелой»?
–Для Пелевина это достаточно плодотворный, творчески-насыщенный период. Им написано около двух десятков рассказов, повесть «Принц Госплана», романы «Омон Ра» и «Жизнь насекомых».
-Интересно, пусть даже на уровне совпадения, вот это предчувствие Пелевина. Интуиция, что тема учителя и ученика исчерпала себя, что ему, как и читателю необходимо нечто более реальное и жизнеспособное, чем надежда когда-нибудь встретить своего Хуана-Затворника. И тут же в «Стреле» вот это пророческое, что Хан уходит, но Андрей остаётся. И это оказывается куда ближе к реальности, чем изображение бройлерного исхода Затворника и Шестипалого.
–Верно. В «Стреле» уже не будет той доминанты учителя, как в «Затворнике». Автор попытается изменить, переписать формулу спасения так, чтобы избежать необходимости встречи с таким вот супер-учителем, который за шкирку может вытащить тебя из мира-тюрьмы.
-Но кто или что может заменить такого Затворника?
–Текст. По крайней мере, автор попытается привести повествование к тому моменту, когда ученик остается один, но для спасения ему необходимо нечто внешнее, что-то извне. То, что само по себе, может включить героя, помочь ему вспомнить, а то и узнать что-то главное, если не сказать принципиально важное. В «Затворнике» никакого текста не было, да и быть не могло. Здесь же, и это разбросано по всему тексту, героя окружают надписи, обрывки слов, подсказки, которые слышны в словах или обрывках радиоэфира.
-Блоки текста из «Путеводителя по дорогам Индии».
–Именно. Судите сами, герой читает! Понятно, что в истории про цыплят это было попросту невозможно, но теперь-то автору ничего не стоит закачать текст в каждый из вагонов поезда, от уборной и до ржавой стенки последнего вагона. Ну и кульминация всего этого – письмо Хана. Учитель уходит, исчезает, словно его и не было, но оставляет послание, месседж, текст.
-Письмо в бутылке?
–Нет. Это текст, словно стрела, летящая в цель. Он не может пролететь мимо, где-то там затеряться, так как учитель выпускает его в ученика. И мишень – сердце этого человека.
Вагон №9
Мое место слева
И я должен там сесть
Цой
-Итак, повесть «Желтая Стрела» начинается с пробуждения главного героя. Это чем-то напоминает нам включение Шестипалого, когда он, поднимая клюв от земли, вдруг видит перед собой Затворника. Правда, с героем «Стрелы» молодым человеком Андреем, дело обстоит несколько иным образом. Начать с того, что он – не изгой, а вполне себе полноценный член социума, то есть замкнутого сообщества, которое представляет собой объединение пассажиров поезда. Как может показаться на первый взгляд, перед нами описание обычного, правда несколько затянувшегося железнодорожного путешествия. Герой куда-то едет, причем мы видим его пообвыкнувшимся с дорожным бытом, как это бывало с каждым из нас на второй-третий день пребывания в поезде. Правда, герою грех жаловаться, так как он является пассажиром купе, которое делит с пожилым мужчиной, неким Петром Сергеевичем. В остальном, перед нами типичное утро в поезде, когда надо просыпаться, дожидаться очереди в туалет, курить в тамбуре, с кем-то говорить или даже скандалить.
-Я купе пользовался редко. Погружение в атмосферу железнодорожного путешествия неотделимо от пребывания в плацкартном вагоне.
–Мы не знаем, сколь долго Андрей является пассажиром этого поезда. Легко заметить его притертость к происходящему, то, например, что Петр Сергеевич, сосед, при всей отчужденности, вместе с этим близкий, хорошо знакомый для Андрея. То, что они накоротке – проскальзывает в диалоге, а для этого надо провести вместе в одном купе не один день. Герой просыпается в этом купе уже не первый день, об этом говорит его настроение, как долго он лежит с закрытыми глазами, в полудреме, пытаясь бороться с окружающим днём.
-Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идёт на меня войной…
–Цой ещё будет. Как и БГ. У Цоя, близкой к «Стреле» мне видится песня «Троллейбус». Чуть позже я скажу пару слов о некоторых параллелях между этими текстами, пока же отмечу, что вот это сопротивление героя миру, а отчасти и социуму интересно для нас на контрасте с тем, что мы видели в «Затворнике». Шестипалый начинается как герой там, где социума нет. За строкой остаётся его жизнь в социуме, как и следующее за этим изгнание. Мир отторгает белую бройлерную ворону, тогда как Андрею приходится сопротивляться его всасыванию, втягиванию в социум.
-И раз за разом терпеть поражение.
–Да, это происходит снова и снова. Андрей осознает себя не просто чужим внутри мира-ловушки, каким мог быт птичий двор для персонажа сказки Андерсена. Нет, он плоть от плоти этого мира, никто не пытается его прогонять, да и куда? Андрей – неподалеку от кормушки, никто не прогоняет его куда подальше, да и куда прогонять-то? Идущий на полном ходу поезд уподобляется веренице отсеков на слишком быстром конвейере, с которого не так-то просто спрыгнуть. Изгнание из социума в таком случае попросту исключается. В границах отсека оставалось какое-то свободное пространство для тех, кто не нашел своего места возле кормушки, но теперь перед нами поезд с жестко сцепленными вагонами, где даже учитель Андрея один из пассажиров.
-Хан и Андрей могут переходить из одного вагона в другой, или даже забираться на крышу поезда. Чего, кстати, были лишены сородичи Шестипалого.
–Чуть позже, мы ещё коснемся параллели между вагонами и отсеками для цыплят. Кажется, что здесь есть вполне конкретное сходство, имеет место некая связь, но мне всё-таки видится, что поезд со всеми вагонами – это один отсек, а не вереница таковых. Здесь нет промежуточных уровней, каких-то трещин между мирами, других вселенных и тому подобных вещей. В поезде все предельно просто: ты либо едешь, либо нет. А вот у героев «Затворника» есть выбор, например, быть внутри отсека, на конвейере, или же прятаться где-нибудь под ящиками, вдали от конвейера.
-Вот это втягивание Андрея в повседневность поезда… Вы не находите, что в этом есть что-то хищное, агрессивное?
–Я уже говорил, что история про цыплят обладает более радикальным, железным характером, что ли. Это история о том, что происходит с теми, кто находит в себе силы покинуть орбиту социума. Их уносит в открытый космос, где слишком холодно и одиноко, хотя и есть где расправить крылья. Уже в третьей главе, когда Затворник и Шестипалый поднимаются на Стену Мира, происходит прощание с социумом. И напротив, Андрею с Ханом суждено пребывать в социуме до последней остановки, находиться в самой гуще событий, подобной тому, что испытали наши бройлерные герои только тогда, когда столкнулись с одним из Двадцати Ближайших, а также его молодчиками. Возможно, в «Стреле» автор опускается на землю, скажем так, заземляется, говоря читателю, что от этого никуда не денешься, что рядом с людьми, среди людей вероятно придётся быть до конца.
-Здесь, но не в иной реальности.
–Совершенно верно. Затворник вытаскивает Шестипалого на ту сторону, за грань. И это происходит уже в тот момент, когда гаснут первые лампочки. Это, как я и говорил, прекрасно иллюстрирует то, что проделывал с Карлосом и его учитель, Хуан Матус. Мир обычных людей заканчивался для Кастанеды где-то посередине между Лос-Анджелесом и пустыней Сонора. Писатель давил газ, крутил баранку и вот в какой-то момент он и его автомобиль пересекали невидимую границу, черту, за которой становилось возможным все. Обычные люди исчезали, растворялись словно призраки. А призраки – духи, союзники, видящие и маги – обретали плоть. Как-то так. Это кстати находит свое отражение и в «Затворнике», стоит героям спрыгнуть с конвейера, как они попадают в реальность, где проще встретить крысу, чем кого-нибудь из Двадцати Ближайших. И так далее.
-Хорошо. Я уже понял, что социум будет одним из фундаментальных образов «Стрелы».
–Наравне с образом поезда. Здесь, видишь ли, уже нет богов или каких-то материально овеществленных представителей высшей силы.
-Поезд построен людьми.
–И для людей. Несколько раз Андрею придётся пересекаться с кем-то, очень напоминающим проводника. Да и ближе к финалу, мы узнаем, что поезд останавливается волей, намерением главного героя. Это не система, подобная птицекомбинату, которая проглотит тысячу Затворников и даже не подавится. Поезд не производство, поезд не человеческая плантация в стиле «Матрицы», не мир-тюрьма. Наверное, в большей степени, поезд – баг, пример больного, обезумевшего человеческого мира. Именно человеческого, потому что людям под силу добраться до кабины машиниста и разобраться в чём дело, кто вообще ведёт это поезд и ведёт ли?
-Не совсем понимаю роль проводника в этом случае.
–Проводник может быть кем угодно. Персонаж, олицетворяющий проводника, может быть кем угодно. Мы не найдем в тексте прямого подтверждения того, что он является железнодорожным сотрудником.
-А униформа?
–Допустимо истолковывать это, как прикрытие или даже маскировку с целью обмана пассажиров.
-Проводник представлен в «Стреле» как представитель власти? Он кто-то вроде одного из Двадцати Ближайших?
–И да, и нет. Ближайшие могли знать, а могли и не знать, что такое решительный этап на самом деле. Так и этот проводник. Мы можем представить его как символ враждебной силы, один из элементов теории заговора, который заинтересован в том, чтобы поддерживать и сохранять существующий порядок вещей.
-Каким образом?
–Вспомни его диалог с Андреем в вагоне-ресторане? Он словно пытается убаюкать героя, дать ему пилюлю с народным опиумом через обретение смысла существования в принятии своей железнодорожной судьбы. Ну и так далее. Заговор ли это? Или просто бизнес? Вопрос. Мы подошли к содержанию второй главы повести, а я ещё хотел сказать несколько слов о первых знаках.
-Знаки?
– Да, что, кстати, типично кастанедианская фишка. Хотя, если память мне не изменяет, более свойственная первым книгам Кастанеды. Суть идеи в том, что мир или даже некая высшая сила разговаривает с воином, и что при должной внимательности воин может получать какие-то подсказки или даже ответы на свои вопросы из того, что его окружает в данный момент, того, что с ним происходит.
-Всё, что окружает воина продиктовано силой?
–Это более общая установка, здесь же речь идёт не столько о глобальном диктате высшей реальности, а скорее о небольших подсказках, мелочах, что находят отражение в услышанных словах, обрывках фраз, надписях, звуках, случайных и не очень встречах.
-А были какие-то знаки в «Затворнике»?
–Нет. Как и Хуан для Карлоса, Затворник был рупором, через который говорила сама бесконечность. Но в «Стреле» ставка делается на одиночное странствие, а потому как бы сама вселенная помогает герою. Код спасения вшит в ткань повседневной действительности, он, как говорится, в открытом доступе, а потому Андрею вместе с читателем не составляет труда распознавать, прочитывать его. Это подстраховка, ведь Хана-Хуана герой может и не встретить, но намерение найти выход, остановить мир вызывает ответную реакцию чего-то вовне, что помогает ему, направляя в правильную сторону.
-Последователи Кастанеды немало талдычили о Вселенной или даже Бесконечности. Будто бы она только и делает, что помогает воину, отвечает на его запросы и даже утешает в трудную минуту.
–Как по мне, это совершенно естественная реакция на ситуацию тотального дефицита нагвалей, фактически их полного отсутствия. Которую, кстати, провидел Пелевин в «Стреле». Но вернемся к знакам, подсказкам, которые даны герою. Кем – вопрос? Мы видим, что всё начинается с пронизанности текста образом солнечных лучей, желтых лучей – желтых стрел. Фрагмент радиопередачи, солнечный свет, преображающий сцену с наперсточником в тамбуре, чуть позже это горячий солнечный свет, падающий на скатерть стола в вагоне-ресторане. Что ж, поначалу прочитывается только это, а потому не так-то просто выявить какую-то связь между этими образами, распознать скрытую закономерность в их появлении или даже проявлении на поверхности повествования.
-Эти подсказки, знаки даны только Андрею? Можем ли мы сказать, что это реакция вселенной, какой-то скрытой, но объемлющей все происходящее реальности на мысли, может быть, невысказанные вопросы главного героя?
–Пока ещё ничего неизвестно. Да, мы успели убедиться, что герой чувствует себя в ловушке, что этот мир ему не совсем нравится, но пробуждение всё ещё длится, а потому для читателя все происходящее выглядит вполне естественно, где-то даже знакомо. Вторые, третьи сутки в плацкартном вагоне навевают похожие ощущения, особенно, когда начинаются хождения, хлопанье дверями туалета, из тамбура потягивает табачным дымком, а соседи начинают разговаривать, шуршать газетной бумагой, в которую завернута колбаса, или шелестеть пакетами. Ты лежишь на верхней полке, а внизу что-то едят, выпивают, воспитывают детей. Мы видим, что наш герой не испытывает желания просыпаться. Мы даже можем понять его, ведь внутреннее сопротивление суетливо-бестолковой железнодорожной действительности не кажется нам чем-то противоестественным и ненормальным. Ещё никто никуда не убегает, не спасается, не ищет свободы, а потому и знак увидеть, как знак, не так-то просто, это что-то почти обыденное, неразрывно слитое с протекающим мимо потоком вещей и явлений. Сейчас, я отмечаю знаки, для того чтобы к этому больше не возвращаться, но может рассмотрению этой темы и стоило посвятить отдельную беседу.
-Хорошо. Довольно быстро Андрей вступает во взаимодействие с целым рядом, судя по всему, второстепенных персонажей. Некоторые из них – статисты, но вот Петр Сергеевич выглядит более значимой фигурой для повествования.
–Да, это так. Кто такой Петр Сергеевич? Представитель старшего поколения, человек из социума. Интересно, что наконец-то мы видим личность, того, у кого есть имя. В «Затворнике» социум не атомизировался подобным образом, оставаясь галдящей агрессивной толпой, но теперь мы имеем возможность не только подойти поближе, но и вместе с главным героем оказаться внутри. Андрею ещё придется снова и снова возвращаться домой, чем по итогу окажется для него родное, обжитое купе. И Петр Сергеевич, в этом смысле, станет для него не просто соседом или случайным временным попутчиком, а кем-то более близким.
-Петр Сергеевич случаем не из этих, каких-нибудь Ближайших?
–Нет. Он, что называется, из народа. В «Затворнике» им мог бы стать какой-нибудь сосед Шестипалого по кормушке, кто-то знакомый, но и чужой, с кем нет, как и не может быть единомыслия. Петр Сергеевич сам по себе, но вместе с этим он – олицетворение железнодорожного социума. По аналогии с «Затворником» его взгляды и мнения являются производным от уже знакомой нам по "Затворнику" народной модели вселенной. Примечательно, что Петр Сергеевич не так глуп, как может показаться на первый взгляд, в чём несколько позже, мы ещё сможем убедиться.
–Его лицо также как и лицо Андрея потеряло свою актуальность?
–Петр Сергеевич – представитель старшего поколения, который представлен экспонатом какой-то навсегда ушедшей эпохи. Он – своеобразный динозавр, доживающий свой век в пыльном углу истории. Ему, как и Андрею не так-то просто найти себе место среди реформ и преобразований, которые, по всей видимости, затрагивают все вагоны с хвоста поезда. Но Андрей ещё теряет актуальность, так сказать, по частям, тогда как в лице Петра Сергеевича это выглядит делом решенным.
-Но в чём выражается утрата актуальности? Герой перестаёт быть модным?
–Я полагаю, что это может быть связано с ощущением своей неуместности, ненужности, что ли. Андрей не является аутсайдером, каким был Шестипалый, кем-то вообще вынесенным за границы социума и вынужденным как-то там выживать. В «Стреле» изгнание, утрата связи с социумом переносится на глубинный, внутренний уровень. Я уже говорил, что с поезда, идущего на полном ходу к неведомой для всех цели не так-то просто кого-либо выгнать. Тем более, внешнее пространство ассоциируется с пространством потусторонним, в некотором смысле – территорией смерти. Туда, в конце концов, выбрасывают гробы; это зона небытия, край мира, что-то сходное с тем, что мыслят и что представляют себе обычные бройлерные аборигены, когда смотрят на Стену Мира.
Вагон №8
Наш паровоз, вперед лети!
В Коммуне остановка,
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка.
Б.Скорбин
-Что говорит нам возраст главного героя?
–Мы видим пелевинского героя молодым мужчиной двадцати восьми-двадцати девяти лет. Андрей в том возрасте, когда надо или найти выход в новую жизнь, либо до конца своих дней застрять где-нибудь между крышей и вагонами «Желтой стрелы», повторяя путь кого-либо из бывших друзей или старых знакомых. Необходимость определиться, грубо говоря, ответить перед людьми, а кто ты по жизни – довлеет над Андреем ничуть не меньше, чем скорое прибытие отсека с цыплятами в Цех №1.И если последний умрет там физически, то Андрей, вероятнее всего, погибнет духовно. Забегая вперёд, стоит сказать, что один раз это уже почти произошло, когда Андрей забыл о том, что поезд идёт к разрушенному мосту, что он – один из пассажиров, но его учитель и наставник Хан помогает ему вспомнить об этом.
-То есть, пробуждение Андрея в самом начале повествования – пробуждение человека, забывшего свой путь, своё предназначение?
–Точнее – однажды забывшего. Интересно, что перед нами не столько состояние смерти, сколько почти-смерти. Но что дальше? Пелевин ведёт своего героя к спасению, к остановке мира-поезда, но попробуем представить себе другой финал. Например, Хан исчезает, оставляя письмо, но это ничего не меняет, ну или Андрей попросту не может им правильно воспользоваться. Интересно, что Андрея, в отличие от проигравших Затворника и Шестипалого, ждёт жизнь обычного человека, который, судя по всему, довольно быстро забудет о том, что когда-то был в числе тех, кто искал другой жизни, кто пытался остановить поезд. В конце концов, Андрей может превратиться в своего соседа Петра Сергеевича, который, конечно же, знает о том, чем всё закончится, но не видит в этом никакой практической ценности. Знание о том, что поезд идёт к разрушенному мосту видится ему одной из житейских аксиом, вроде «мы все умрём», которые, как известно, на хлеб не намажешь. Ну, идёт и идёт, а нам как-то жить надо.
-Пелевин пишет «Стрелу» вплотную подбираясь к кризису среднего возраста, а то и проживая его в одном из вагонов своей жизни. Какое отражение это находит или могло бы найти в данном произведении?
–Если Андрею под тридцать, то его состояние может нести на себе отпечаток тревоги автора, острого и болезненного ощущения, что поезд надо останавливать, отжимать свой стоп-кран как можно скорее, иначе рискуешь примириться с происходящим, пойти на ранее неприемлемый, невозможный компромисс. Иначе говоря, страх вновь забыть о главном, смятение от осознания того, что это уже произошло, а то и происходило, причем не один раз – подталкивает Андрея к активным решительным действиям.
-Почему герой однажды засыпает? Или, почему это вообще произошло с Андреем?
–Путь Андрея – путь одиночки. Рядом с ним нет Хуана-Затворника, а потому ему приходится и придётся сталкиваться с совершенно новыми и необычными для того же Шестипалого духовными ловушками и препятствиями. Да, путешествие между вагонами, пожалуй, носит куда более безопасный характер, чем радикальные прорывы за Стену Мира, но социальная действительность «Стрелы» усыпляет, убаюкивает по-своему.
–Во второй главе Андрея встряхивает Хан. Учитель помогает ученику вспомнить о главном и таким образом вновь возвращает его на путь спасения.
–Это так, но Хан не будет всегда рядом. Нечто подобное мы видим на примере Кастанеды, который однажды был вынужден расстаться со своим учителем и остаться один. Так вот, старший товарищ Андрея в определенный момент просто исчезнет, оставив письмо, некое сообщение, которое способно стать триггером, механизмом, активирующим процесс спасения. Но и только. Это не фантастический полёт Затворника и Шестипалого, а то и ещё более удивительный прыжок дона Хуана в космический портал. Тут же ничего этого нет, Андрей – герой-одиночка, которым и был вначале.
-То есть, Андрей и не совсем ученик?
–В некотором смысле, да. Пелевин освобождает героя «Стрелы» от статуса ученика, который прежде был более чем крепко связан с образом Шестипалого. Мы видим, что Пелевин пытается сохранить за героем, как и своим читателем право свободного поиска истины, вне традиции, каких-либо авторитетов или священных текстов. Раз уж встретить дона Хуана никому из нас не получится, то необходимо снять это ограничение, переписать «код спасения» таким образом, чтобы дать шанс одиночке, который начинает свой путь с нуля, двигается вслепую, наощупь. Сами понимаете, что у одиночки куда меньше времени, за его спиной нет традиции, нет опыта предшественников, а потому задача усложняется; необходимо не только найти выход, но и успеть найти выход. Ключевое слово здесь – мистический, сакральный успех, ведь такому одиночке-искателю необходимо не только успеть разобраться в происходящем, но и успеть воспользоваться я этим знанием. В принципе, таким представлен читателю Затворник, хотя и ему – как становится ясно немногим позже – требуется помощь и поддержка своего ученика. Лишь сообща, работая в команде, эти герои достигают поставленной перед собой цели.
–Мы говорили, что героям «Затворника» противостоит система в образе комбината. Там есть противник, есть зримый враг, пусть даже не испытывающий ненависти, а во многом даже и не осознающий того, что для кого-то он является олицетворением зла. Но кто противостоит пассажирам «Стрелы»? Кто мешает им изменить свою жизнь, если мешает, конечно?
–С Андреем всё как будто бы даже проще. Возможно, есть виновники или даже виновник того, почему «Желтая стрела» превратилась в пожизненную тюрьму для своих пассажиров. Возможно, тот же проводник действительно заинтересован в том, чтобы никто и никогда с этого поезда не сошёл. Возможно, в кабине этого поезда нет машиниста, но поезд идёт. Важнее, что все эти детали несущественны, они не создают сколь-нибудь значимой для героя проблемы. Тот же проводник всего лишь пытается его болтать, предлагая найти смысл и гармонию в происходящем, а угроза железнодорожной катастрофы столь же далека и абстрактна, как неизбежное угасание Солнца, правда, в очень отдаленном будущем.
-То есть решительного этапа для пассажиров как бы и не предвидится?
–Именно. В «Стреле» нет того давления обстоятельств, которое понуждало Затворника сниматься с насиженного места. Да, поезд двигается; да, лучше его как можно скорее покинуть, но когда именно он полетит в пропасть – вопрос, на который ни у кого нет, как и не может быть ответа.
–В чём же опасность промедления?
–Забвение. Сон. В отличие, от общей гибели цыплят по прибытии в Цех №1, то есть в конце предписанного им жизненного пути, пассажиры «Желтой стрелы» умирают поодиночке. Они вообще умирают так, что все об этом знают, чего, кстати, не было в повести о цыплятах. Скрытая угроза этого мира проявляется в том, что «Желтая стрела» более-менее пригодна для жизни, что люди как-то обустраиваются внутри вагонов, привыкают, приспосабливаются к этому. Именно поэтому, каждый лишний день, проведенный на рельсах, становится уроком приспособления к такому, более чем ненормальному, противоестественному существованию. И если герой не ищет свободы, не пробивается с боем к выходу, то он автоматически становится слушателем других курсов.








