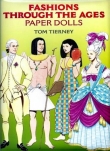Текст книги "Странный новый мир внутри библии"
Автор книги: Ярослав Пеликан
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Ярослав Пеликан
Странный новый мир внутри библии[1]
«Павел обращался к своим современникам как сын своего времени. Но наряду с этой истиной гораздо важнее другая истина: как пророк и апостол Царства Божьего он обращался ко всем людям всех времен. Различия между прежним и нынешним временем, тамошними и здешними условиями необходимо принимать во внимание. Но, принимая их во внимание, мы должны прийти к осознанию того, что эти различия не имеют никакого принципиального значения».[2]2
2 Карл Барт, Послание к Римлянам, Предисловие. [Русск. перев. В. Хула-па по изд.: Карл Барт, Послание к Римлянам, Библейско-богословский институт св. ап. Андрея, М., 2005, с. xxviii.]
[Закрыть]
Это начальные слова самого влиятельного, или, в любом случае, самого взрывного комментария на Библию в XX в. – «Послания к Римлянам», созданного Карлом Бартом в 1918 г. Он был назван «снарядом, упавшим на детскую площадку теологов», брутально нарушив все их игры. Первое предложение метко подытоживает историко-критический метод интерпретации Библии, достигший небывалых высот благодаря ученым XVIII, а особенно XIX вв., в частности, преподавателям самого Барта. Этот метод указал на множество аспектов, в которых Павел – или Моисей, или Иеремия, или даже Иисус из Назарета – мог восприниматься как «сын своего времени, обращающийся к своим современникам», разделяя их мировоззрение и будучи связан им. Но в последующих предложениях Барт неожиданно атакует историко-критический метод «тщательных исследований», выходя за его границы и за границы всех его достижений, к той трансцендентной реальности, которую он обозначил как «странный новый мир внутри Библии». Примерно в то же время иудейский богослов Мартин Бубер, автор книги «Я и Ты», широко известной и среди христиан, создавал перевод и комментарий на Тору, которые подобным образом показывали, что привычное современной науке противопоставление критического метода Талмуду устарело, и больше не может считаться адекватным.
В этом не было и нет возвращения назад, к состоянию, которое предшествовало историческому, текстуальному и литературному изучению Танаха и Нового Завета. Но мы можем и должны продвигаться вперед, за пределы этих исследований, ведь Танах – это не только музейный экспонат, или уцелевший артефакт ближневосточного племенного культа, или единственное доступное произведение, написанное на иврите, которое мы можем использовать как лексикон для возрождения языка. Он не менее, чем все это, но он должен быть чем-то большим. По той же причине не адекватны и описания Нового Завета как хранилища литературных образцов, или как очередного мистического культа эллинизма, или как пережитка мифологической космологии, или как отчаянных усилий апокалиптической общины переформулировать свою идентичность, после того как ее чаяния Второго Пришествия, обещанного (и ожидаемого) Иисусом, были так жестоко обмануты.
«Красота вечно древняя, вечно новая»[3]3
3Августин, Исповедь, X.27.
[Закрыть]
Год за годом в современном мире, и даже в культуре, считающей себя постсовременной, исполнение «Мессии» Генделя и «Страстей по Матфею» Баха продолжают собирать внушительные аудитории, состоящие как из верующих, так и из неверующих. Хоть и не без усилий, студенты продолжают читать, и даже в какой-то мере понимать «Божественную комедию» и «Потерянный Рай». Библейские высказывания и повествования, во всей роскоши и разнообразии их узора, сохраняют свое очарование и красоту Как говорит Псалом, «нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их и до краев вселенной слова их» (Пс. 18/19:3–4). Даже в секулярную эпоху – и особенно в секулярную эпоху – Библия доказывает, что только она – незаменимое противоядие от цинизма и уникальный источник вдохновения для поэтов и философов, художников и музыкантов и для неисчислимых миллионов верующих по всему земному шару, открывающих ее кто каждый день, а кто лишь в минуты нужды. Книга за книгой, иногда и глава за главой, Библия создает подтекст, на фоне которого разворачиваются наши отношения с жизнью и смертью, кристаллизуются наши сокровеннейшие чаяния. Перефразируя максиму ранней Церкви, это река, в которой комар может плавать, и слон способен утонуть.[4]4
4Григорий Великий, Проповедь об Иове.
[Закрыть]
В 1959 г. американский поэт Арчибальд Маклейш (MacLeish), состоявший библиотекарем Конгресса с 1939 по 1944, получил премию Пулитцера за драму «J.B.» – экзистенциальную и свежую интерпретацию Книги Иова. Тони Моррисон, получившая в 1993 г. Нобелевскую премию в области литературы, открыла источник вдохновения в Песни Соломона, под влиянием которой она написала одноименный роман (1977), а также «Возлюбленного» (1987). Но непревзойденным примером того, как вечно древняя красота Библии может представать вечно новой, явился четырехтомный эпос Томаса Манна, получившего в 1929 г. Нобелевскую премию в области литературы, «Иосиф и его братья»(1933-44). Сам он называл роман «трудоемким, как пирамида». Начатая в нацистской Германии и завершенная в Соединенных Штатах, тетралогия несет следы этого опыта: Авраам, Исаак, Иаков, патриархи еврейского народа, предстают здесь нашими общими духовными пращурами; в четвертой и последней части, «Иосиф кормилец», повествующей о спасении Иосифом египтян от голода, Томас Манн, как он сам признавал, использовал как прототип образ президента Франклина Рузвельта и его Новый курс. Основываясь на кропотливом исследовании Талмуда и других раввинистических источников, он сумел развернуть какую-нибудь дюжину глав Библии (Быт. 37–50) до двух тысяч страниц, отмеченных глубокими портретами, психологическим анализом, умопомрачительной роскошью, остроумным сюжетом, что библиографическое исследование по Библии и литературе называет «определяющим современным прочтением истории об Иосифе и, вероятно, наибольшим из специальных комментариев на нее» из всех, когда-либо написанных.[5]5
5 Dictionary of Biblical Tradition in English Literature, 416.
[Закрыть]
Современные переводы Библии, продолжающие выходить в свет непрерывным потоком, особенно английские, убеждают в собственной вечно новой литературной красоте, а также в точности изложения вечно древнего текста. Выдающимся примером тут является Новая английская Библия 1970 г., в основе которой лежат заново исправленные тексты неканонических книг и Нового Завета вместе с Танахом в переводе Еврейского издательского общества (Jewish Publication Society). Работа над этой книгой была начата с буквального перевода, подготовленного специалистами по библейским языкам, который потом отредактировал коллектив литераторов, чтобы наилучшим образом согласовать его с нормами английского языка, и потом вновь пересмотрели ученые, чтобы убедиться, что эти исправления не исказили аутентичный смысл. Результатом явилось изложение подлинной мощи и красоты. Поэзия звучит как поэзия, англосаксонская идиоматика вытеснила латинизмы и «изящный английский» предыдущих переводов, а прирожденная мощь английских частей речи предстала в невиданной ясности. К примеру, поскольку предлоги звучат в английском довольно вяло, более буквальный перевод Послания к Римлянам в Библии короля Якова (King James Version): «все из Него, и через Него, и к Нему» (of him, and through him, and to him are all things) был заменен односложными существительными: «Исток, Путь, Цель всего сущего – Ему слава навеки!» (Source, Guide, and Goal of all that is – to him be glory for ever! – Рим. 11:36, New English Bible).
Однако ужасающее незнание Библии распространяется в наше время в масштабах эпидемии, что становится очевидно из нервного смеха, когда на сцене или во время застолья кто-то коснется таких предметов, как ангелы, молитва или бессмертие души. И все же одна из положительных сторон этого невежества (хотя довольно трудно найти в нем какие-нибудь еще положительные стороны) – трепет открытия, поджидающий образованных в других отношениях людей, когда они впервые сталкиваются с Писанием, читая его в классе или самостоятельно. Совершенно неожиданно оно вдруг обращается к ним, будто никогда ни к кому не обращалось прежде: «Красота вечно древняя, вечно новая». В нем всегда жила эта сила, и пораженные им всегда терялись, не зная, что с этим делать.
Однако, как и вечно древняя, вечно новая красота византийской иконы или григорианского хорала, мерные ритмы Псалтири и берущая за душу красота Библии постоянно находятся под угрозой оказаться самодостаточными. Сама известность Библии на протяжении стольких веков сглаживает порой ее острые углы и стушевывает ее главное назначение, состоящее не только в том, чтобы успокаивать тревожных, но и в том, чтобы тревожить спокойных, в частности, спокойно слушающих ее, сидя на скамьях своей синагоги или церкви. Если справедливо, что каждая эпоха ухитряется изобретать свои особенные ереси, то наш век кажется особо падким на эстетизм (что становится особенно наглядно, когда внушительные аудитории собираются в Великую пятницу, чтобы послушать «Парсифаль» Рихарда Вагнера – кажется, соответственно замыслу композитора), тот эстетизм, который видит предельную тайну трансцендентного, «тайну пленительную и ужасную»,[6]6
6Rudolf Otto, The Idea of Holy (New York, 1928).
[Закрыть] в красоте музыки и искусства, обладающей волшебным свойством переносить в потустороннюю реальность, не призывая одновременно к осознанию собственных грехов в присутствии Святого Господа, праведного Судии человеческого рода.
Подражая кьеркегоровским фигурам речи, можно в отношении «красоты» сравнить язык Библии с набором инструментов стоматолога, аккуратно разложенных на столе и развешенных по стенам, интригующих своей технологичностью, сверкающих поверхностями полированной стали – пока они не будут использованы для работы, для которой предназначены. Тогда моя реакция резко изменится с: «Какие они блестящие и красивые!» на: «Заберите эту проклятую штуковину у меня изо рта!» Когда я вновь берусь перечитывать Библию, возможно благодаря свежести нового перевода, распадается покрывало клише, и она начинает говорить лично со мной. Многие люди, не желающие иметь дела с организованной религиозностью, заявляют, что они могут почитать Библию и дома. Однако трудно преодолеть подозрение, что в действительности большинство из них не очень много ее читает. Ведь, ощутив однажды шок, как от удара палкой, от того, что она на самом деле говорит, они пришли бы к мнению, что это еще более странно, чем мир синагоги или Церкви.
Иностранный язык
Переводы Библии, древние или новые, прекрасные или посредственные, могут также оказаться под угрозой искусственного приручения языка Танаха и Нового Завета. В каком-то отношении это и есть их прямое задание: «чтобы читающий легко мог прочитать» (Авв. 2:2), как говорит пророк. Гениальность лютеровского перевода Библии на немецкий в том, что он звучит вовсе не как перевод, а как текст, написанный на немецком, на каком говорили и писали бы Исаия или Матфей, живи они в Саксонии XVI в. Любой, кому приходилось много переводить какой угодно текст с одного языка на другой, должен был усвоить, кажется, очевидный принцип: читатель не должен обращаться к словарю, чтобы понять его. В то же время переводчик любого текста, и в первую очередь переводчик Библии, необходимо сталкивается со многими словами и фразами, которые перевести трудно. Богослужебная пометка «Сэла» в Псалтири (напр., Пс. 3:3) передается в переводе Танаха Еврейского издательского общества (Jewish Publication Society) как «богослужебное указание с неясным значением», а «рака» в Евангелии (Мф. 5:22) передается в сносках Пересмотренного стандартного перевода (Revised Standard Version) Нового Завета как «непонятное бранное выражение». Оба технических термина упрямо сопротивлялись всем исследовательским усилиям на протяжении столетий и целых тысячелетий и до сих пор пребывают вполне «иностранными» для нас.
Но язык Библии «чужеземен» для нас и в гораздо более глубоком смысле. Каждый учитель еврейской школы или воскресной школы сталкивается с тем, что Библия, как Танах, так и Новый Завет, сплошь и рядом оперирует сельскохозяйственной образностью, которую дети современного города находят довольно непонятной. Слова «Господь – Пастырь мой» (Пс. 22/23:1) могут быть знакомы, но вряд ли они многое говорят изучающему Библию, молодому или пожилому, если для него «пастыри» и их работа ассоциируются разве что с шерстяным свитером или, в лучшем случае, с бараньим рагу. Не способствует «переводу» и сентиментальная трактовка «пастыря» определенными формами религиозного искусства, предлагающими образ, который не узнал бы ни один древний пастух и ни одна овца, ни древняя, ни современная. И если христианский читатель надеется снять эту проблему, как свойственную «Ветхому Завету», ему стоит вспомнить слова Иисуса: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Ин. 10:11); та же самая сельскохозяйственная метафора поясняет здесь не какой-то периферический элемент христианского учения, а его центральное исповедание, что Христос умер за мир. Но наиболее иностранным из всего иностранного языка Библии говорит апо-калиптика, встречающаяся нам сперва в книгах Иезекииля и Даниила, а затем – в Откровении Евангелиста Иоанна. Глава за главой, эти книги изображают целый калейдоскоп зверей и звезд, цветов и процессий, все из которых, вероятно, что-то означали для автора и должны что-то означать для читателя и тогда, и даже теперь. Расходящиеся, подчас чудаковатые интерпретации, которым подвергается веками библейская апокалиптика, как иудейская, так и христианская, подкрепляет это впечатление чужеземности даже самими своими усилиями прояснить ее.
Но разве не эта чужеземность языка Библии и овладевает нашим вниманием? Как сказал однажды Кьеркегор, это не то сообщение, о котором можно рассказать во время бритья! Язык Библии – это язык, требующий чтения и перечитывания, осмысления и исследования. Для очей и сердца веры это, в конце концов, любовное письмо, одно длинное любовное письмо. Получая письмо от любимого друга, я не могу прочесть его один раз и просто избавиться от него. Скорее, я буду думать, что оно значит, что подразумевается под тем или другим выражением. Если же это письмо написано иностранным языком, сам его язык заставляет меня читать медленнее. Великие интерпретаторы священного текста отличаются от новоиспеченных экзегетов тем, что научены пользоваться самой странностью текста, чтобы проникнуть в его глубины. Отчасти на этом зиждется и практика аллегорического толкования, или поисков «духовного смысла». Поскольку в Библии столь многие слова и фразы не похожи на то, как мы обычно говорим, или на то, о чем мы говорим, аллегорический толкователь ищет ключ в тексте, в этом или в другом, или во вдохновении свыше, в ответ на молитву. Да если и оставить в стороне аллегории, Библия постоянно привлекает внимание к нюансам смысла, поворачивая одну идею под разными углами, повторяя раз за разом едва не совершенно то же самое. Псалмы представляют особо плодотворное собрание такого мнимо тавтологического языка. Стихи первого псалма последовательно развивают тему и ее вариации в соответствии с такой внутренней логикой, которая вовсе не вписывается в привычные нам ходы мышления. Псалом 118/119, самая длинная глава Библии, играет вариациями своей темы, употребляя в разных стихах разные названия Библии: «повеления, уставы, заповеди, суды, откровения» и т. д. Если бы этот способ высказывания был не таким иностранным для языка, которым говорю и пишу я, это искушало бы меня отвергнуть его. Благодаря тому, что язык апокалиптики Танаха и Нового Завета во многих отношениях наиболее чужеземны, поэзия и искусство Уильяма Блейка, сами по себе не менее странные, заимствуют у нее способность говорить громко и ясно (хоть «ясно» в своем роде).
Чужая вселенная
Бесконечные и изнурительные полемики XIX–XX вв. относительно первого раздела Бытия, по крайней мере, в деталях показали, что не так легко «вписать» библейскую картину – или «картины» во множественном числе – вселенной в схемы современной физики или биологии. Даже при помощи метода «отложенного недоверия», предлагаемого Кольриджем, нам все же довольно трудно мысленно перенестись в мир, где причинами болезней являются демоны, а не микробы. Был ли или не был «Лука, врач возлюбленный» (Кол. 4:14) настоящим автором Евангелия, носящего его имя, и Деяний Апостолов, но в этих книгах, как и во всем Новом
Завете, нет ни одного исцеления, которое бы однозначно приписывалось обычному врачу или естественному лечению. Поскольку «в древности небо было ближе»,[7]7
7Shirley Jackson Case, The Origins of Christian Supernaturalism (Chicago, 1946), I.
[Закрыть] сверхъестественные силы, как добрые, так и злые, были всегда рядом, но нам-то, даже если мы иудеи или христиане, инстинкт велит относиться к сообщениям об этих силах с подозрением и недоверием. Однако когда апостол Павел в кульминации своего великого гимна смирению и возвышению Христа говорит: «дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, и земных, и преисподних» (Фил. 2:11), он, кажется, оперирует трехуровневой картиной вселенной, которая была актуальна для его современников, но которую сегодня не приняли бы даже заядлые буквалисты в интерпретации Библии.
Кроме всего прочего, присутствие в Библии взглядов на природу и вселенную, на наш взгляд, «донаучных», нельзя свести к скорлупе ореха, от которой можно избавиться, чтобы достигнуть вечного «ядра». Как показывают гимны ап. Павла, эти взгляды тесно связаны с основным посланием. Вместе с тем, если посмотреть на нее в перспективе истории библейских толкований и комментариев, иудейских и христианских, эта «донаучная» картина вселенной оказывается совместимой с весьма разнообразными «научными» картинами, сменявшими одна другую с течением времени. Без натяжек можно обобщить, что не существует такой научной космологии, с которой послание Библии нельзя было бы примирить хоть в какой-то мере, однако не существует и такой, в которой ему было бы вполне комфортно. Более того, приспособление послания Библии к той или иной космологии, как правило, достигало совершенства примерно в то же время, когда эта космология уже сдавала свои позиции преемникам. В итоге, каким бы словарем ни пользоваться, научным или философским, древним или современным, просто невозможно прийти к сколько-нибудь эквивалентной формулировке, которая обладала бы вечно пребывающей мощью совершенной формулы, открывающей Книгу Бытия: «В начале сотворил Бог небо и землю». Благодаря самой безотносительности библейской космологии все снова и снова соотносится с ней.
«Особенный народ»
Когда Новый Завет в Библии короля Якова описывает молодую общину христианской Церкви как «род избранный, царственное священство, народ святой, люд особенный» (а chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people – 1 Пет. 2:9), он использует английское слово peculiar не в современном значении «чудаковатый», «эксцентричный», и Пересмотренная английская Библия (Revised English Bible) правильно передает эти титулы как «род избранный, царственное священство, народ предназначенный, люди, взятые Богом в удел» (a chosen race, a royal priesthood, а dedicated nation, a people claimed by God for his own). Но, с другой стороны, peculiar в современном понимании может быть не таким уж неподходящим вариантом.
Антиеврейские читатели Танаха, даже когда это христиане, со своего рода удовольствием отмечали характерно еврейские черты людей, населяющих его страницы. Иногда, к примеру, казалось, что обрезание доминирует над божественным призывом очистить сердце. Или же в византийском трактате против иудеев автор удивляется, почему они отказываются есть свинину, но готовы есть курицу, «еще более нечистую, чем свинья, в том, что она ест и где она ходит». Если обобщить, очень многие из постановлений и обещаний Танаха относятся более к этой земной жизни и к телу, чем к жизни вечной и к душе. Гимны вроде этого (Пс. 126/127:3–5):
Вот наследие от Господа: дети;
награда от Него – плод чрева.
Что стрелы в руке сильного,
то сыновья молодые.
Блажен человек,
который ими наполнил колчан свой,
создают впечатление, что земля, а не небо – то место, где окончательно исполняется Божье благословение, и что вечная жизнь означает продолжение жизни в наших потомках. Более того, все это нередко отдает этноцентризмом: «люд особенный» – это избранный народ, и никакой другой. Большинство Божьих обещаний адресуются не индивиду, даже не благочестивому индивиду, а целому народу Произвольный выбор Богом Своего «избранного народа» может даже оскорблять элементарное чувство справедливости.
В Новом Завете с этими качествами все еще «хуже». Хотя его учение «не от мира сего» и основано на обещаниях вечной жизни на небесах, но и произвольность, и коллективизм тут присутствуют в полной мере, и связаны между собой. Часто искаженно воспринимавшееся изложение Павлом доктрины о предопределении суверенной волей Бога, Который «кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает» (Рим. 9:18), завершается тревожным заявлением: «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников?» (Рим. 9:22–24).
«Род избранный» – и впрямь особый народ. В этом понятии очень много от коллективного и корпоративного единства. Новый Завет может говорить об индивидах, как в единственном числе говорит он: «дабы всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Но речь об этом обещании достигает кульминации в метафоре Церкви как «тела Христова» (1 Кор. 12:12–27; Еф. 1:23; Кол. 1:18). Как рука или глаз ничего не значат сами по себе, но должны принадлежать телу, чтобы исполнять свою функцию, так и с «членами» Церкви. Сам термин «члены», который мы сегодня употребляем регулярно и достаточно стерто, говоря о тех «индивидах», которые принадлежат к обществу скаутов или к профсоюзу, на самом деле означает «органы» или «части тела» и представляет антитезис любым разговорам об «индивидуальном».
Даже более последовательно, чем Танах, Новый Завет обращается не к индивидам, а к Церквям или к Церкви: «вы – свет мира» (Мф. 5:14). По-английски это место следует приводить по Библии короля Якова («Ye are the light of the world»), ведь в течение дальнейших веков английский язык утратил единственное число второго лица thou («ты») и thee («ты») при обращении к человеку, так что you одновременно употребляется и во множественном, и в единственном числе (исключение составляет современное разговорное обращение «You guys», очевидно не имеющее сексистских коннотаций). В результате часто невозможно определить, как в этом же месте в Пересмотренной английской Библии: «You are light for all the world», – относится ли это you к коллективу или к одному человеку. Но все-таки оно указывает на коллективность, на общину, а не на индивида.
Однако и в иудейской, и в христианской истории открытие, что послание Библии обращено не менее, чем к общине верующих, оказалось, опять-таки, не препятствием к чтению ее, а фактором, освобождающим мысль. Одно из действительно великих достижений библеистики XX в. состоит в том, что определения религии, вроде предложенного философом Уильямом Джеймсом: «чувства, действия, опыт отдельных людей в их единичности, поскольку они осознают себя в отношении к чему-либо, признаваемому ими божественным»,[8]8
8William James, The Varieties of Religious Experience (New York, 1990), 36.
[Закрыть] лежавшее в основе многих интерпретаций Библии, сменилось признанием, что в Танахе адекватный контекст Божьих обещаний и повелений – не что иное, как «народ Божий». Декалог обращается не к отдельным верующим иудеям «в их единичности», а к Израилю как народу Божию: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (Исх. 20:2), – во всех его сменяющихся поколениях. В христианстве изначально неоднозначный коллективизм такой метафоры, как «тело Христово», отчасти вдохновил возрожденный экуменизм на переосмысление молитвы Христа перед распятием: «Да будут все едино, как ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин. 17:21) – и на чтение в этом же смысле обоих Заветов Библии. Единство Отца и Сына, выраженное в этой молитве, так велико, что, согласно православному учению о Св. Троице, оно отнюдь не угрожает библейскому монотеизму, как часто утверждали и утверждают критики, а действительно утверждает его. Основное исповедание догмата о Св. Троице, Никео-Цареградский Символ веры 381 г., начинается словами: «Верую во единого Бога». Единство такого рода, возносящееся над пределами не только индивидуализма, но и индивидуальности, является божественным прообразом отношений между Христовыми учениками, отношений, которые можно понять только через метафору «тела Христова».