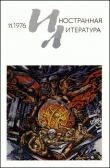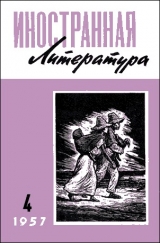
Текст книги "Рассказ из страны папуасов"
Автор книги: Ярослав Ивашкевич
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Ярослав Ивашкевич
Рассказ из страны папуасов


Материалом для этого рассказа мне послужили, помимо личных воспоминаний, работы по антропологии Бронислава Малиновского, брошюра Рогинского о Николае Николаевиче Миклухо-Маклае и ряд путевых заметок французских и английских журналистов.
За последнее время ни одна книга не производила на меня такого сильного впечатления, не будила столько мыслей и чувств, как «Далекие годы» – превосходно переведенные на польский язык Енджеевичем воспоминания молодости Константина Паустовского. Не только благодаря мастерской прозе выдающегося писателя, но и потому, что это – книга и о моей юности. В одном городе, в один год окончили мы с Паустовским гимназию, поэтому он извлекает из бездны прошлого те события, которые волновали всю молодежь того времени – смерть ли Толстого или убийство Столыпина, – и даже описывает людей, стоявших у истоков как его, так и моего творческого пути. В моих воспоминаниях, если я их когда-нибудь напишу, эти люди займут то же место, что и в книге советского писателя. Лишь одно вызывает мои возражения – название книги Паустовского «Далекие годы». Дорогой Константин! Разве эти годы далекие? Годы молодости никогда не становятся далекими, они всегда с нами и будут жить вечно. Хотя нас отделяют от них такие грандиозные события, как две войны и Великая Революция в России, мне кажется, что все описываемое Паустовским происходило вчера, позавчера, неделю назад.
Вот хотя бы похороны Столыпина. Словно наяву, вижу я отблеск августовского солнца на куполах Киево-Печерской лавры и вереницу учеников, стоящих уже часа.два у стен церкви в ожидании траурной процессии. Паустовский, как я узнал лишь теперь – почти сорок лет спустя, – стоял со своей школой рядом с нами. Все мы расценивали убийство Столыпина как раскат надвигавшейся бури. Мой приятель Юра, оставленный на второй год в седьмом классе за пропуски занятий, стоял в шеренге учеников довольно далеко от меня. Но я пробрался к нему, и мы начали одну из тех бесконечных бесед, которые ведутся только между друзьями юности. Разговор этот памятен мне еще и тем, что Юра тогда впервые упомянул о своем родственнике, которого он называл «дядя Коля». Это был один из самых знаменитых русских путешественников. К разговору о нем нам еще предстояло вернуться.
Как известно, в нашей памяти остаются не только большие события. Порой память запечатлевает какой-нибудь обычный, ничем не примечательный день, и вдруг, после многих лет, вспоминаются не только цвет неба и мелкие, ничего не значащие события, но помнится даже запах того утра, полдня или вечера, во время которых ничего не произошло и которые все же запали в сердце навеки, может быть, именно благодаря своей обыденности.
Вот и мне помнится такой обыкновенный день, суббота, когда я поехал на футбольное поле посмотреть игру нашего класса, решившего помериться силами с восьмым классом кадетского корпуса. День был уже осенний – прошло недели две со времени похорон Столыпина, – однако полный весенней силы, весенних красок, придающих иногда осенним дням необычайную красоту, трогающую сердце, как последняя ставка в жизненной игре. И сегодня я мог бы нарисовать линию березок с пожелтевшими листьями, купы деревьев, сбегающих с холмов, как на картинах Нестерова, и строгий силуэт здания кадетского корпуса.
Было настолько тепло, что можно было сидеть на траве. Мы с Юрой устроились в стороне, где сетка ворот защищала нас от неожиданных ударов мяча и бросавшихся на него игроков. Нас не особенно увлекал ход игры, несмотря на то, что наши ближайшие друзья лезли из кожи вон, чтобы всадить кадетам гол. Через несколько лет они дрались с этими кадетами уже не шутя.
Мы начали разговор о дяде Коле. Можно представить себе, как в те времена интересовала и захватывала нас деятельность великого путешественника, проведшего целые годы в Меланезии, где его именем было названо северное побережье Новой Гвинеи, прилегающее к заливу Астролябии. В те годы мы воспринимали путешествия, совершавшиеся во второй половине девятнадцатого столетия, еще по-жюльверновски, нас увлекало приключение само по себе. Мы не особенно разбирались, какая идея вдохновляла дядю Колю в далеких морях Океании.
Мой приятель подробно рассказывал об охоте на райских птиц, многие виды которых обитают на островах Новой Гвинеи. Некоторые их породы составляют предмет усиленных поисков как черных жителей тех земель, так и европейцев, поставщиков модных магазинов Лондона и Парижа. Мода, внезапно отказываясь от употребления перьев райских птиц и заменяя их страусовыми, разорила не одного такого охотника. Юра рассказал, что несколько превосходных чучел редких птиц из коллекции дяди Коли находятся в имении, расположенном недалеко от Киева, и если я хочу их увидеть, то могу поехать туда. Вскоре подошли какие-то католические праздники, я освободился от занятий, а так как Юра такими вещами, как регулярное посещение школы, нисколько себя не обременял, мы решили, что я приеду к нему на эти несколько дней. В монотонной и тяжелой жизни, которую я тогда вел, учась и зарабатывая на хлеб частными уроками, этот неожиданный осенний выезд был большим событием. Даже сегодня я могу рассказать об этом посещении со всеми подробностями.
Дом моего друга был самым достопримечательным сельским домом из всех виденных мною в жизни. Это было жилище с необыкновенно высокими комнатами, колоссальными дверными косяками, огромными окнами и полным отсутствием уюта. В столовой находился громоздкий средневековый камин с железным навесом, стояли стол и стулья, в салоне – небольшое пианино и табурет, а в спальнях – железные кровати и письменные столы вместо ночных столиков. В этом обширном доме жил мой приятель с двумя братьями, старшим и младшим. Они давно осиротели. Имущественными и домашними делами ребят заправляла величественная старая няня Дарья Михайловна, которая тогда занимала довольно высокое положение в семейной иерархии. Ребята боялись ее как огня, а крупная, пышная Дарья Михайловна явно капризничала со всеми людьми, появлявшимися в доме, которым она управляла. К счастью, моя молчаливая и скромная особа пришлась ей по вкусу, и она не только не имела решительно ничего против моего пребывания у опекаемых ею ребят, но уже на второй день рассказывала мне всю историю семьи с начала до конца, потешаясь над многочисленными подробностями, касавшимися как родителей Юры, так и его дяди, великого путешественника.
Вещи, напоминавшие о нем – а их было немного, – находились в глубине дома, в последней комнате, которая была библиотекой и одновременно спальней младшего брата Юры, хромого, обаятельного Димы. В этой комнате можно было видеть редчайший экземпляр райской птицы с горы Мороб, единственный оставленный дядей Колей для себя. Другие коллекции он передал музеям в Сиднее и Петербурге. В доме находилось несколько документов и черновиков писем, хранившихся в особом портфеле из коричневой кожи. Среди них была знаменитая гневная депеша Бисмарку, в которой дядя Коля заявлял, что жители северного побережья Новой Гвинеи протестуют против присоединения их к Германской империи... Полагаю, что канцлер Бисмарк должен был улыбнуться при виде этой депеши, если обладал хоть каплей юмора.
Среди этих документов находилась вещь, чрезвычайно редкая по тем временам, и поэтому она мне запомнилась: фотография последней страницы прошения, поданного ученым и путешественником императору Александру III, на котором сей царствующий городовой начертал лаконический приговор, похоронивший все надежды дяди Коли на создание идеального колониального общества, которое, не насаждая христианства и не спаивая, на деле заботилось бы о счастье любимых им папуасов. Приговор был немногословным: «Считать дело конченным». Все это потому, что дядя Коля хотел спасти «диких»! Замысел совершенно не соответствовал духу того времени, когда русский ученый высадился на одном из островов Меланезии. Необходимо признать, что в делах своей второй, субтропической родины он разбирался отлично, и если еще не знал слова «геноцид», то знал или сам создал выражение «охота на людей», характеризующее отношение белых к колониальным народам. Он употреблял его в своих многочисленных письмах, которыми засыпал русские и английские власти, губернатора Австралии и представителей правительств Великобритании и Нидерландов на неизмеримых пространствах Микронезии и Меланезии. Если дядя Коля не знал слова «геноцид», то ему пришлось столкнуться с тем, что оно означает. Недавно я узнал, что в Сиднее найден архив великого путешественника, а в нем – старательно спрятанное письмо некоего Фрэнка Шеридана, полицейского чина из Куинслэнда, в котором описаны охоты так называемых «blackbirders[1]1
Blackbirder – в данном случае – человек, занимающийся похищением и торговлей чернокожими.
[Закрыть]» на жителей Гвинеи и способы эксплуатации их труда в Северной Австралии. Там же обнаружены подлинные отчеты об уничтожении целых племен папуасов после истощения их физической силы.
В то время я еще не знал об этом. Несколько пожелтевших листков с черновиками писем и записями, фотография изнуренного мужчины в красивой меховой шубе и, конечно, райская птица с горы Мороб служили мне единственными иллюстрациями к устным рассказам о дяде Коле.
Основной темой рассказов была именно птица с горы Мороб. Постараюсь повторить рассказ о ней, несколько упорядочив, так как вначале мне рассказывала его няня, затем – совершенно иначе – Юра, а Дима помогал ему, вставляя свои замечания. Наконец я услышал всю историю еще раз от Сергея Сергеевича, старшего брата моего приятеля, который приехал на второй день моего пребывания в их доме из соседнего местечка, где отбывал военную службу в блестящем уланском полку. Рассказ Сергея Сергеевича несколько отличался от предыдущих. Мы сидели с ним в столовой, возле огромного камина, Юра бренчал на фортепьяно – играл преимущественно военные марши, – а Дима курил трубку за трубкой далеко, – в библиотеке. Из ее открытых дверей валили клубы дыма и время от времени доносился предостерегающий окрик, когда Юра начинал не в меру фальшивить. Я не стал прерывать рассказчика, не сказал ему, что уже дважды слышал о птице с горы Мороб, потому что форма, которую придал повествованию молодой улан, понравилась мне больше всего.
С тех пор прошло почти сорок лет. Давно уже нет в живых не только няни, но и моих друзей – они умерли молодыми. Излагая сегодня их рассказ, я, возможно, ошибусь в деталях, забытые подробности восполню узором вымысла, но постараюсь как можно точнее вопроизвести то, что сохранилось в моей памяти об этом ярком эпизоде из жизни путешественника. К сожалению, время оставляет нам лишь обрывки таких воспоминаний, но, вероятно, уже никто в мире не сможет мне сказать: постой, это было не так! Только я один знаю эту историю, потому что великий путешественник не упомянул о ней в своих записях, хранящихся в Ленинграде и Сиднее. Именно поэтому я хочу поделиться ею с моими читателями.
Когда дядя Коля прибыл на корвете русского военно-морского флота – это было в сентябре 1871 года – в залив Астролябии, Новая Гвинея – Isla del Ого[2]2
Isla del Ого – Золотой остров.
[Закрыть] испанских путешественников, явившихся сюда задолго до него, – не пользовалась доброй славой. Земля эта считалась среди моряков самой небезопасной, а мореходные справочники сообщали о населявших ее людоедах, охотниках за черепами, змеях и крокодилах и даже об огромных кровожадных растениях, которым бросали на съедение незваных гостей, появлявшихся в стране райских птиц.
Большой залив Астролябии, закрытый со стороны океана коралловыми рифами, был окаймлен широким пляжем из белого песка. Волны мягко набегали на берег, рассыпаясь брызгами у подножия кокосовых пальм, которые росли здесь довольно далеко одна от другой. В нескольких шагах от них начинались густые заросли, джунгли, состоявшие из пестрой смеси пальм, древесных папоротников и лиан. Здесь, среди зелени, время от времени вспыхивали красные цветы мальв и желтые – пахучего пандануса. Над лесом возвышались снеговые вершины огромных конусообразных вулканов. На первый взгляд джунгли представляли собой сплошную стену, сквозь которую невозможно было проникнуть. Поэтому папуасы, неожиданно появлявшиеся на фоне такой зеленой стены, казались возникшими из воздуха.
Можно легко представить себе чувства дяди Коли, когда корвет «Витязь», распустив паруса и легко маневрируя на волнах залива, начал отдаляться и путешественник в маленьком деревянном домике с крышей из гофрированного железа, сооруженном матросами корвета за два дня, остался почти в полном одиночестве. Почти в полном одиночестве, потому что два его товарища: полинезиец, которого звали просто «Бой», так как никто не мог выговорить его сложного имени, и еще молодой парень, моряк Ульсон, швед по национальности, – были вне себя от страха.
Когда корвет окончательно скрылся из вида и спустились сумерки, путешественник вышел из домика. Зной немного спал. Дядя Коля вдохнул в себя воздух, напоенный йодистыми испарениями моря, и пошел босиком по мокрому песку. Языки волн лизали его ступни. Путешественника охватила величественная тишина земли, расстилавшейся за его плечами, тишина леса и синеющих вдали гор, и он остро ощутил свое одиночество. Удалявшийся корвет был единственным звеном, связывавшим его с остальным миром. Он оставался один в неизведанной, загадочной, опасной стране. Может быть, навсегда?
Но одиночество никогда не бывает абсолютным. Внезапно сквозь джунгли прокатились, то приближаясь, то удаляясь, дробные раскаты небольших барабанов. Джунгли давали знать, что они не дремлют.
В ответ на эти звуки дядя Коля улыбнулся. Поссорившись с миром ученых, деливших расы на высшие и низшие, он приехал сюда, чтобы изучить и понять именно этого человека, который ударами барабана извещал племена, жившие вдоль и вглубь побережья, о прибытии таинственного белого. Он приехал, чтобы найти в этом человеке такого же брата, как и во всех униженных и обездоленных, живших под самыми различными географическими широтами.
«Если меня не убьют сразу, я выйду победителем», – подумал дядя Коля и направился к своему домику. Бой и Ульсон разговаривали шепотом, сидя на циновках перед домом, но умолкли при виде ученого. Когда дядя Коля прошел мимо, они проводили его презрительными взглядами.
Со следующего дня началась борьба дяди Коли за приобретение доверия «диких». Способ был очень простым: ученый прохаживался по берегу моря, по лесу, приближался к деревням, притаившимся в джунглях, а иногда заходил в них. Он не носил никакого оружия, даже ножа.
Вначале он брал с собой кого-нибудь из товарищей, Боя или Ульсона, но те улепетывали, заслышав свист стрелы или далекие отголоски барабанной дроби. А барабаны гремели и грохотали без перерыва то ближе, то дальше. Сначала дядя Коля гулял только по пляжу, собирал раковины, поглядывал на волны. Затем он стал прохаживаться вдоль стены густых зарослей, пахнувших перцем и мятой. Подойдя совсем близко, он заметил, что в зеленой стене там и сям виднелись как бы проломы: это были выходы тропинок, которые вели в глубь побережья. Путешественник дошел и до устья довольно широкой реки, медленно катившей свои зеленые волны в залив. Когда дядя Коля опустил ногу в эту воду, она показалась ему очень холодной: река стекала с гор.
На третий день он углубился по одной из тропинок в заросли и скоро вышел на поляну, где стояли хижины с крутыми соломенными крышами, одни прямо на земле, другие на сваях. Узкие фронтоны жилищ были покрыты рисунками, резьбой и раскрашены яркими красками. Это была деревня.
По мере приближения путешественника к деревне, барабанная дробь становилась все громче и отрывистее. Подойдя к первым хижинам на расстояние полета стрелы, дядя Коля увидел женщин и детей, убегавших с громкими криками в противоположную сторону. Навстречу путешественнику вышли мужчины, грозно потрясая луками и копьями. Несколько стрел пролетело над его головой. Один из мужчин выделялся высокой красивой фигурой и благородными чертами лица. И хотя он грознее всех размахивал копьем и, что-то гортанно крича, показывал рукой на тропинку, по которой путешественник пришел в деревню, требуя, очевидно, чтобы тот вернулся, именно этот папуас показался дяде Коле самым симпатичным. Он обратился к нему, жестами показывая, что не имеет оружия, пришел к ним с мирными намерениями и хочет есть. Дикари успокоились, но с недоверием поглядывали на пришельца. Их благородный вождь вошел в одну из хижин и вынес несколько плодов мангового дерева для путешественника.
– Так началась дружба моего дяди, – заметил здесь Сергей Сергеевич, – с вождем деревни Бонгу по имени Туй. С тех пор туземцы стали называть дядю Колю «Тамо-Рус». Под этим именем он был известен на протяжении двух десятков лет на северном побережье Гвинеи и прилегающих островах.
– А откуда эта птица? – спросил я, указывая на синее, отливающее стальным блеском чучело, украшенное длинными белоснежными перьями и каким-то выцветшим серебром на груди и голове. Запыленная птица стояла на полках библиотеки уже тридцать лет. Сейчас, когда ее внесли в нашу комнату, свет от камина обнаружил весь ущерб, нанесенный ей временем. Но трепетное пламя заставляло темно-синие перья играть разноцветными бриллиантовыми огнями, золотило белый венчик хвоста, и птица как бы оживала. Это была прекрасная минута.
Отважный исследователь, очевидно, еще не раз переживал моменты смертельной опасности: в него целились копьем, над его головой пролетали стрелы, в него бросали камни и метали каменные топорики. Но другой враг – тропическая лихорадка – оказался самым опасным. Жертвой ее пал – о, чудо! – житель тех мест, полинезиец Бой, а оба европейца уцелели. После долгих недель жестокой лихорадки, течение которой дядя Коля описывал в своем дневнике с поразительной объективностью, он все же вернулся к жизни. Но болезнь сильно подорвала его здоровье, которое уже никогда не восстановилось полностью.
Одинокий перед лицом всех трудностей, конфликтов с туземцами, перед голодом и прочими лишениями (моряк Ульсон был всецело поглощен страхом), предоставленный самому себе, дядя Коля чувствовал дружбу вождя деревни Бонгу, с которым встретился во время своего первого визита. Когда домик путешественника, не рассчитанный на влажный и жаркий климат, начал разрушаться, Туй помог его отстроить. Когда подмокли запасы спичек и нужно было постоянно поддерживать огонь, Туй обеспечил белого друга запасами топлива. У Туя было двое любимых детей: сын Бонем – с ним он приходил к домику на пляже – и старшая дочь Илямверия, о которой Туй рассказывал другу. По прошествии десяти месяцев дядя Коля уже бегло говорил на языке папуасов, но, к сожалению, лишь на языке деревни Бонгу, так как в Горренду – местности, расположенной в отдалении, – говорили совершенно иначе.
Дядя Коля, ведя внешне малоподвижный образ жизни, лежа зачастую из-за лихорадки и вызванных ею осложнений в своем довольно неудобном гамаке, постепенно выполнял задачу, ради которой он прибыл в те края. Он воочию убедился, что все существовавшие в науке теории о том, что папуасы принадлежат к низшей расе, – чистейший вымысел. Английские и немецкие ученые доказывали если не более низкое развитие папуасов, то исключительность этой расы, наличие каких-то особых черт в строении и функционировании их организма. Путем личных наблюдений русскому ученому легко удалось опровергнуть считавшиеся в то время научными теории – например, что волосы папуасов растут не как у всех прочих людей, но пучками, что их кожа имеет иные свойства и грубее нормальной человеческой кожи или что ее чернота носит иной характер, чем у африканских негров. Самое важное – он собирал сведения, доказывающие, что «дикий» человек является таким же человеком, как и любой другой, что у него те же переживания, желания, чувства, любовь и ненависть. Недаром несколько лет спустя Лев Толстой писал дяде Коле (это письмо мне также показали): «...растрогало меня и приводит в восхищение в Вашей деятельности то, что Вы первый, несомненно, опытом доказали, что человек везде человек, то-есть доброе, общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой».
Этот период был, вероятно, самым счастливым в жизни русского путешественника, в жизни, полной борьбы и приключений. А ведь его тихий и мечтательный характер не был создан для борьбы. С того момента, когда его, семнадцатилетнего юношу, исключили из Петербургского университета за участие в студенческой сходке, за социалистические убеждения и открыто выраженные симпатии польскому восстанию, догоравшему тогда в Келецких лесах, он понял, что должен будет всю жизнь превозмогать в себе склонность к созерцанию и мечтательности, и бороться. Это не мешало ему быть в хорошем настроении и выглядеть очень энергичным юношей, как об этом писал Томас Хаксли, в то время, когда он боролся. Боролся с авторитетом ученых, теории которых строились на предубеждениях, боролся с неповоротливостью Русского Географического общества и бюрократизмом царских министерств... Но здесь, на берегу Тихого океана, в домике у подножья кокосовых пальм, ослабленный болезнью, которую с трудом поборол, он позволял себе мечтать.
Он мечтал и даже записывал свои мысли, создавая «схему государственного устройства побережья залива Астролябии». Чего там только не было: и самоуправление, и постепенное развитие культуры, школы, дороги, мосты, торговля с другими племенами, и правительство, состоящее из совета наиболее энергичных туземцев, таких, как Туй, и сам Тамо-Рус как друг, советник и защитник от чужеземцев. Все эти планы, конечно, не учитывали интересов европейского капитала и всякого рода эксплуататоров. Об уничтожении целых племен он узнал значительно позднее. Это были времена, полные иллюзий.
Через некоторое время Тамо-Рус убедился, что его домик стоял на пути черных и был построен как бы на муравьиной дорожке. Пляж, где он жил, играл значительную роль в жизни окрестных деревень. Как только туземцы освоились с его пребыванием, они начали понемногу собираться на пляже. Вначале пришли одинокие молодые пары, затем, постепенно, стали приходить рыбаки. Но во время первого полнолуния, наступившего через три недели после прибытия дяди Коли на побережье, движение в деревнях неожиданно усилилось, барабаны стали бить отчетливее и чаще, за стеной зарослей что-то задвигалось. Когда луна взошла над морем, раздались странные звуки: это молодые парни из Бонгу и Горренду затрубили в большие морские раковины, как тритоны на картинах Тинторетто. Раздалось удивительное пение, и размечтавшийся путешественник с порога своего домика увидел на серебристом пляже Астролябии хоровод чернокожих юношей. Поднимая поочередно то одну, то другую ногу, они все быстрее кружились по песку. Барабаны били где-то поблизости, головные уборы из перьев райской птицы колыхались в лунном свете, как цветы. Аромат цветов бутии, связанных в пахучие венки, сходный с резким запахом гардении, и запах мяты, заткнутой большими пучками за браслеты на предплечьях танцоров, долетали даже к домику Тамо-Руса. Мелодичная декламация стихов затягивалась до поздней ночи, и усталый путешественник стал различать в них отдельные примитивные и грубоватые слова, которым его к тому времени научил Туй.
А как-то днем он заметил процессию женщин в красочных юбочках цвета фиалки и апельсина. Они приблизились к морю и стали входить в волны. Руки женщин были соединены, и по ним осторожно шла молодая девушка. Далеко от берега она прыгнула в море, а подруги начали со смехом ритуально обмывать ее, распевая песни о красоте и любви. Потом путешественник узнал, что молодая Дабугера, подруга Илямверии, праздновала в тот день обряд начала первой беременности.
На реке, открытой путешественником в первый день его пребывания, туземцы днем и ночью ловили рыбу. Спустя несколько недель после прибытия белого на реке возобновилась обычная жизнь. Однажды Туй пригласил путешественника сопровождать его во время рыбной ловли. Ночью на утлых пирогах туземцы двинулись вверх по реке. На первой из них и на тех, что окружали пирогу вождя, горели большие факелы из сухих ветвей. Густые заросли по берегам реки, освещенные трепетным красноватым пламенем, казались еще красивее, чем днем. На носу передней пироги стоял Бонем с большим луком в руке, балансируя ногами, чтобы удержать равновесие, и целился в черные тела рыб, появлявшиеся в прозрачной горной воде. Бонему было лет шестнадцать. Картина всей этой охоты была волнующе красива.
Постепенно дядя Коля узнал скрытые стороны жизни папуасов, начал понимать даже их недомолвки. Как мне неоднократно говорили, самым удивительным в этом познавании тайн и обычаев незнакомого общества было открытие тех же законов, которыми в большей или меньшей степени руководствуются .все общества, обнаружение сходных с нашими условностей и покровов, под которыми кипели первобытные страсти. Традиции и культура, унаследованные от предков, проявлялись, как и у нас, порою в виде нелепых обычаев. Так, тем, кто действительно скорбел по умершему, то есть его ближайшим родственникам, запрещалось проявлять свое горе. Наоборот, те, кого можно было подозревать в неискренности, например жена или дальние родственники, должны были в течение долгих недель подчеркнуто горевать, не выходить из дома, сбривать свои красивые прически и мазать тело пеплом и смолой.
Ряд вещей, действий, существ был огражден самыми строгими запретами, порой совершенно необъяснимыми. Нельзя было, к примеру, убивать синюю райскую птицу, есть мясо дикого кабана и в определенные дни или недели рвать цветы пандануса.
Но самым грозным запретом, самым строгим табу ограничивались отношения брата и сестры. С раннего детства брат не может ни в малейшей степени интересоваться сестрой. Они растут под одной крышей, но брату запрещается играть и разговаривать с сестрой, даже задавать ей вопросы. Вся интимная жизнь сестры должна быть неизвестна брату до такой степени, что от него до последней минуты скрывают имя молодого человека, за которого она выходит замуж. Тем удивительнее этот суровый закон, что с момента выхода сестры замуж брат становится опекуном сестры и ее детей и выделяет специальные средства – в натуре – на их содержание. Любые нарушения этого страшного запрета покрывают виновных несмываемым позором. Если преступление получит огласку, они должны совершить «лоу».
Что такое лоу, любопытный белый узнал вскоре после прибытия, но в то время он еще не понимал происходившего. Однажды к вечеру, когда море было особенно лазурным и его голубые отблески лежали на джунглях, когда не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка, что довольно редко бывает в тех краях, дядя Коля увидел выбежавшую из леса молодую, празднично одетую (это он уже умел отличить) женщину. С громким воплем она начала карабкаться на высокую кокосовую пальму, склонившуюся над пляжем и потому более доступную. За женщиной с криками и плачем выбежала целая толпа жителей деревни. Громче всех голосила мать и, вероятно, сестры или братья взбиравшейся на пальму женщины. Вдруг от толпы зрителей отделился молодой подвижный мужчина и тоже начал карабкаться на пальму, что-то жалобно крича женщине. Но та быстро добралась до вершины, ловко цепляясь ступнями за гладкий ствол пальмы, и там неожиданно разжала обе ладони, которыми обхватывала ствол, застыла на мгновение, внезапно произнесла какую-то пронзительную, полную отчаяния фразу и рухнула головой вниз, к корням пальмы. Толпа бросилась к женщине, но та была уже мертва.
Впоследствии выяснилось, что пальма, росшая вблизи домика Тамо-Руса, была, так сказать, официальным местом совершения лоу, традиционного самоубийства опозоривших себя людей. Какие действия считались позорящими, дядя Коля узнал только к концу своего первого пребывания на побережье Гвинеи. Именно это и будет составлять основное содержание моего рассказа.
К концу года, осенью, когда пришла пора праздника урожая, настало время торжественных сборов при луне, игр с перетягиванием соломенной веревки, песенных и танцевальных конкурсов. Джунгли были так переполнены движением, трепетом, музыкой, рокотом барабанов и далеким призывом продырявленных раковин, звуки которых походили на голоса горных трембит, что обессиленный зноем и остатками лихорадки русский путешественник не мог спать по ночам. В тот вечер протяжные и звучные напевы особенно волновали его. Казалось, джунгли пели. Хоры слышались то ближе, то дальше, но главный хор пел неподалеку, в окрестностях деревни Бонгу. Путешественник многократно слышал такое пение, но ни до, ни после того вечера оно не казалось ему таким проникновенным.
Чудилось, что пели сами джунгли – лес отзывался в такт плеску морской волны. Когда путешественник начал вслушиваться в пение, то понял, что это задушевный человеческий голос. Голос человека забытого, низведенного до положения животного, но который все-таки, сознавая свое достоинство, бросает в темноту ночи призыв к лучшему будущему. Молодой русский знал песни российских крестьян, и рабочих Людвигсхафена, где учился в университете[3]3
По другим данным, Миклухо-Маклай учился в университетах Иены, Лейпцига и Гейдельберга.
[Закрыть], знал нищету петербургских студентов и их тоскливые песни, и песни каторжников, угоняемых царскими жандармами по этапу в Сибирь. Их отголоски сливались для него сейчас в протяжных напевах деревни Бонгу, которые неслись из темного леса к серебристому лунному небу Меланезии. Голоса дружными, но дикими для европейского уха аккордами взлетали ввысь, крепли, вибрировали и неожиданно обрывались на высокой ноте, чтобы через минуту снова зазвучать где-то внизу, подобно шелесту камыша, и вновь такими же волнами подниматься до высокой ноты, которая вдруг возносилась над пляжем, как стройная пальма.
Дядя Коля рассказывал впоследствии, что он никогда не чувствовал острее судьбу человека, тоскующего по борьбе за свободу, за счастье. Потрясенный, он продолжал лежать в своем гамаке, как вдруг услышал около дома шорох. Даже не шорох, потому что жители побережья появлялись бесшумно, а увидел какую-то тень. Чья-то легкая рука тронула его через окно, за которым виднелись пальмы, белый пляж и луна. Голос вернул его к действительности:
– Тамо-Рус! Тамо-Рус!
По очертаниям головы, по особому бренчанию браслетов дядя Коля узнал вождя деревни Бонгу.
– Что случилось?
– Тамо-Рус! Тамо-Рус! Очень плохо! Туй очень несчастлив.
– Войди в дом.
– Не могу, я должен сейчас идти. Туй сейчас умрет от горя.
Дядя Коля вышел из дома. Туй сидел на песке и нервно пересыпал его вокруг себя. Месяц белый, какой бывает только над тропиками, бросал резкий свет на окружающий пейзаж и лицо черного вождя. Путешественник заметил, что Туй был одет по-праздничному, на лбу и щеках его виднелись черные и красные разводы. От вождя исходил сильный запах мяты и мускуса, но его лицо, несмотря на все это, выдавало наивысшую степень подавленности. Белки глаз Туя блестели в темноте.