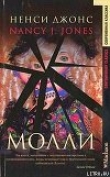Текст книги "Актуальные проблемы современной мифопоэтики"
Автор книги: Яна Погребная
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
1. Что такое неомифологическое транспонирование?
2. Какие элементы смысла подвергаются транспонированию при сотворении неомифа?
3. Какие пути и принципы порождения неомифа сложились в современной литературе?
4. Как решается в неомифе проблема «смерти автора»?
Письменное задание:
соотнесите смысл утверждения Р. Барта о «смерти автора» в современной литературе с ролью автора в сотворении современного неомифа. Результаты сопоставления представьте в виде таблицы.
Лекция 4Концепция времени и пространства в неомифе. «Вечное возвращение» в мифе. Миф и ритуал. Основные мифологические оппозиции: время-вечность, смерть-бессмертие
Однако если для неомифологизма XX века оказалось возможным найти компромисс между предперсональностью и оборотничеством героя мифа и идентификацией протагониста в современном художественном произведении через этапы биографии эпического героя и архетипические этапы юнгианской «индивидуации», то второе категориальное качество мифа – цикличность и обратимость времени в неомифе XX века приобретало новые формы, повторяя процесс демифологизации, реализуемый в способах трансформации мифа в эпос и повторенный неомифологизмом XX века в обратной хронологической последовательности. В эпосе обнаружили стойкую тенденцию к сохранению качества оборотничества, смерти и нового рождения мифологического персонажа (теперь героя эпоса), реализуемые в приемах двойничества, кардинального изменения характера героя, но время из циклического и обратимого трансформировалось в линейное, осевое, дискретное, поэтому смерть выступала в эпосе абсолютным концом, а не началом или возвращением к началу. Вместе с тем, в неомифе XX века находились способы и приемы преодоления конечности человеческого существования и линейности времени, которые при этом приобретали мифопорождающий статус, поскольку сообщали новому художественному произведению качества и признаки мифа. Интересующий нас аспект художественного времени связан в первую очередь с принципами развертывания сюжета во времени художественного мира (произведения), время, таким образом, предстает как форма осуществления сюжета, согласно определению З.Я. Тураевой, как «форма бытия идеального мира эстетической действительности» (Тураева, 1979. С.14).
Обращение времени в цикл означает в применении к судьбе отдельного человека гарантированную возможность обретения бессмертия. Я. Э. Голосовкер указывал, что именно концепция бессмертия сообщает одухотворенность и длительность культуре: «Утрата идеи бессмертия – признак падения и смерти культуры» (Голосовкер, 1986. С.125). Собственно уже в «Герое нашего времени» смерть протагониста, приходящаяся на середину романа, декларирует идею смерти материи, но бессмертия сознания, отраженного в тексте, точнее, сам текст романа и есть явленное в слове сознание героя, таким образом, мысль героя, повествование, которое он сам ведет о событиях своей жизни, ставят под сомнение, отменяют в романном пространстве его смерть. Более традиционным и апробированным в мифе способом обретения бессмертия выступала реализация классической схемы: смерть – новое рождение, лежащая в основе как космогонического ритуала, показывающего гибель и возрождение мира, так и ритуала отдельной судьбы – в ходе инициации имитировалась временная смерть посвящаемых, после которой они получали новое имя и новый статус, т. е. прежняя личность умирала и рождалась новая с новым именем и новыми возможностями. Для женщины в архаических культурах аналогом инициации выступала свадьба, после которой девушка получала не только новую семью и статус, но и новое имя: «Ты теперь не Татьяна, ты – жена Петрова». Временная смерть и возникновение новой личности в прежней телесной оболочке – поворотный пункт в сюжете романа Э. Берждесса «Заводной апельсин», такое же полное перерождение личности переживает Левий Матвей в романе «Мастер и Маргарита». В. Набоков, настойчиво ищущий способов отмены линейного времени и проникновения в вечность, в лекции «Искусство литературы и здравый смысл» утверждает: «Мысль, что жизнь человека есть не более, чем первый выпуск серийной души и что тайна индивидуума не пропадает с его разложением в земле, становится чем-то большим, нежели оптимистическим предположением, и даже большим, чем религиозная вера, если мы будем помнить, что один лишь здравый смысл исключает возможность бессмертия» (Набоков, 1996. С.69). Смерть Цинцинната оборачивается его новым рождением в мире, ему соответствующем («Приглашение на казнь»), в романе «Соглядатай» безымянный герой, пережив самоубийство, сочиняет новый мир, в котором получает имя Смурова, новую жизнь и новые возможности, оставшись и в новой жизни прежним неудачливым маленьким человеком, потерпев поражение в любви, Смуров переживает свою смерть еще раз (возвращается на место самоубийства и видит в стене тщательно замазанную дырочку от выстрела), после чего начинает новую версию своей жизни. В рассказах «Рождество» и «Пильграм» посмертное возрождение имеет метафорическую форму: пробудившаяся, вышедшая из кокона бабочка предстает как послание от сына, Пильграм умирает в одном мире, а в другом совершает то путешествие за бабочками, о котором мечтал всю жизнь. В конце романа «Подвиг» «говорение» синицы на калитке оставленного Мартыном дома, порывы ветра, дважды раскрывающие эту калитку, тоже выступают символическими посланиями от Мартына, возможно, умершего. В англоязычном рассказе «Сестры Вейн» посланием, адресованным к герою, заставляющим его вспомнить сестер и рассказать о них, выступают нейтральные в обыденной жизни, но в рассказе символические объекты, устанавливающие коммуникацию между мирами, счетчик и сосульки. В поэме «Бледное пламя» Джон Шейд, переживший временную смерть (О ней поэт говорит прямо: «Потом – я умер»), видит, погрузившись в иномир, таинственный «белый фонтан», символическое послание из иного мира, которое Джон пытается расшифровать в мире этом. В ранней поэтической драме «Смерть» смерть обоих героев (Эдмонда и Стеллы), возможно, только розыгрыш Гонвила. Таким образом, Набоков, стремясь к выходу за пределы земного времени, наделяет своих героев способностью к обретению новой жизни в новом мире, после смерти в мире этом, или возвращением к жизни после временной смерти в этом мире. При этом Набоков все же не реализует мифологического времени цикла: его заменяет дробление пространства на обособленные, но сообщаемые миры, перемещение между которыми и сообщает герою возможность обретения новой жизни в новом мире, после смерти его же в мире другом. Таким образом, бессмертие достигается не путем трансформации времени линейного в циклическое, а путем трансформации пространственной модели: дискретность времени эпоса транспонируется в форму дискретности эпического пространства. Достижение результата, обретаемого в мифе через мифологическую циклическую концепцию времени, средствами видоизменения пространства указывает на важный для Набокова принцип отмены текущего линейного времени путем осмысления времени как пространственного фактора.
В архаической модели мира, как указывает В.Н. Топоров, «пространство не противопоставлено времени как внешняя форма созерцания внутренней» (Топоров, 1997. С. 459–460). В мифопоэтическом хронотопе время выступает, таким образом, формой пространства, его четвертым измерением. Гумберт отменяет категории длительности и векторности времени, переживая совмещение Лолиты с Аннабеллой при первом взгляде на Долорес: «Четверть века, прожитая мной с тех пор, сузилась, образовала трепещущее острие и исчезла» (Набоков, 1999. Т.2.С.53). Сам роман, а точнее свою книгу о Лолите, Гумберт определяет как форму бессмертия, то есть пространства, лишенного протекания, пространства без времени, а точнее – пространства вечности. В мире романа снимаются качества раздельности и дискретности пространства и времени. В. Н. Топоров такую форму художественного пространства определяет как «чистое творчество», как «преодоление всего пространственно-временного, как достижение высшей свободы» (Топоров, 1997.С.514). Развивая свою мысль, исследователь приходит к заключению: «Создание «великих» текстов есть осуществление права на ту внутреннюю свободу, которая и создает «новое пространство и новое время», т. е. новую сферу бытия, понимаемую как преодоление тварности и смерти, как образ вечной жизни и бессмертия» (Топоров, 1997.С.514–515). Остров Келькепар, которым Куильти обозначает свое пристанище в мотельных книгах, представляет собой мир, объединяющий несколько частей, разрозненных в пространстве, отстоящих хронологически, но соответствующих при этом разным героям или разным ипостасям одного героя. Эти части разрозненной Вселенной объединяются формулой бессмертия, предназначенного для Лолиты и Гумберта и самим Гумбертом сотворенного. Гумберт телесно участвует в творимой им Вселенной, равно как сама эта Вселенная являет образ Лолиты, сводится к этому образу, в нем воплощается. Так возникает книга, равная миру, и человеческое существо, являющее через себя этот мир.
В романе «Дар» чтение, сочинение выступает способом приостановки хода внешнего времени. Когда Федор начинает за воображаемого рецензента перечитывать свой первый сборник стихотворений, то погружение в мир стихотворения связано с деформацией внешнего времени: Набоков замечает, что стрелки часов Федора «с недавних пор почему-то пошаливали, вдруг принимаясь двигаться против времени» (Набоков, 1990. Т.3.С.27). Время homo legends не совпадает с внешним: время чтения означает или приостановку течения внешнего линейного времени или же обращение времени вспять (сравним в стихотворении Р.М. Рильке «За книгой»: «Я вглядывался в строки, как в морщины //задумчивости, и часы подряд //стояло время или шло назад» (Западноевропейская поэзия XX в., 1977. С.21). Время стиха обращено вспять, оно принципиально противопоставлено времени прозы: которая в романе «Дар» движется вперед в соответствии с ходом линейного времени. Вместе с тем, мир романа «Дар» обращен к читателю, который, погружаясь в чтение, входит в мир с иным течением времени. М. Элиаде, характеризуя процесс чтения, подчеркивает: «Читатель входит в сферу времени воображаемого, чужого, ритмы которого изменчивы до бесконечности, так как каждый рассказ имеет свое собственное время, специфическое и исключительное. Роман не имеет выхода в первородное, первоначальное время мифов, но в той мере, в какой он повествует о правдоподобной истории, романист использует время как бы историческое, но взятое в расширенной или свернутой форме, время, которое, следовательно, располагает всей свободой воображаемых миров» (Элиаде, 2000. С.180).
Мир Набокова предельно конкретен и детален, наполняющие его предметы рельефны, живописно зримы, осязаемы. Андрей Битов, опираясь на эстетические предпочтения Набокова-художника, эту детальность набоковского мира определяет как синоним его жизненности: «Набоков запомнил все и ничего не забыл. Он восстановил в правах такое количество и качество подробностей жизни, что она и впрямь ожила под его пером» (Битов, 1990. С. 241–242). Мир Набокова наполнен предметами, но эта полнота никогда не становится избытком: число оживленных художественным видением автора вещей ограничено пространством ячейки памяти. Кроме того, сама словесная транскрипция живописно-зримого мира, хранящегося в памяти, не умещает его полностью. Прошлое и для Набокова и для его героев категория действенная, впечатления минувшего никогда не могут быть исчерпаны до конца и никогда не могут быть в полной мере раскрыты, их не может охватить иной способ бытия, осуществляемого вне памяти в форме устного рассказа или воспроизведения в стихах и прозе.
Прошлое, особенно связанное с впечатлениями детства, юности, первой любви не только не может быть признано завершенным, его события могут подвергаться изменению. Прошлое переносится в настоящее и будущее. Герой романа «Соглядатай», пережив смерть и вернувшись в мир в новом качестве романтического, загадочного героя, находит душевную отраду в том, чтобы, «. оглядываясь на прошлое, спрашивать себя: что было бы, если бы. заменять одну случайность другой, наблюдать, как из какой-нибудь серой минуты жизни, вырастает дивное розовое событие, и тянутся, двоятся, троятся несметные огненные извивы по огненному полю прошлого» (Набоков, 1990. Т.2.С.159). Опрокинутый сонет, обрамляющий метатекстуальную главу «Жизнь Чернышевского» в романе «Дар» утверждает ту же вненаходимость истины, обусловленную незавершенностью прошлого:
Увы! Чтоб ни сказал потомок просвещенный,
Все так же на ветру, в одежде оживленной,
К своим же истина склоняется перстам,
С улыбкой женскою и детскою заботой
Как будто в пригоршне рассматривая что-то,
Из-за плеча ее невидимое нам
(Набоков, 1990. Т.3.С.191).
Прошлое наделено многовариантностью альтернативностью в реализации одной и той же судьбы, одного и того же события. В романе «Соглядатай» утверждается мысль об отсутствии какой-либо общей закономерности, определяющей ход истории или отдельной человеческой судьбы: «Надумает нищий духом, что весь путь человечества можно объяснить каверзной игрою планет или борьбой пустого с тугонабитым желудком. К счастию, никакого закона нет – зубная боль проигрывает битву, дождливый денек отменяет намеченный мятеж, – все зыбко, все от случая.» (Набоков, 1990. Т.2.С.310). Х.-Л. Борхес в новелле «Вторая смерть» показывает два варианта судьбы одного героя как предателя и как героя. В новелле Х. Кортасара «Шаги по следам» некий биограф создает две версии судьбы поэта Клаудио Ромеро как альтруиста и как законченного негодяя. М.А. Астуриас в романе «Юный владетель сокровищ» показывает как сбывается в действительности воображемый поступок героя: мечтатель хотел утопить своего друга слепого, но вместо этого бросил в воду горсть углей, на самом деле утром труп утонувшего слепого мальчика нашли в пруду. Роман заканчивается открытием безграничных перипетий свободного вымысла, хотя неизвестно, какая из них станет общедоступной и общеизвестной версией физической реальности. Последние слова в романе, заменяющие традиционный аминь, прославление веры, звучат так: «Я перекрестился и чуть не сказал: «Во имя Святого креста!», но произнес: «Во имя мечтаний!..» Ш-ш-ш, ш-ш-ш… ветер в воде» (Астуриас, 2003.С.189). Своеобразным научным подтверждением версии альтернативности прошлого выступают исследования по альтернативной истории, предпринимаемые в американской историографии и объединенные в томе «Альтернативная история» (СПб., 2003), в предисловии к сборнику указывается, что «смысл и ценность альтернативных сценариев состоит в том, что они делают историю осязаемой и позволяют лучше видеть ее ключевые моменты, где она могла пойти по другому пути» (Альтернативная история, 2003. С.7). В литературе альтернативные сценарии существуют на равных правах, образуя разнообразные, порой взаимоисключающие, но равноправные версии события или судьбы, поэтому отрабатываются последовательно, хотя их реализация отмечена симультанностью: одно и тоже событие, одна и та же судьба разыгрываются в нескольких вариантах, отправляясь от некоторого изначального момента минувшего, поэтому, готовясь разыграть новый вариант своей судьбы, Смуров возвращается в место и время своего самоубийства, а герой Астуриаса в конспективном виде переживает все события своей прошлой жизни, предшествующие роковой ночной прогулке со слепым на пруд. Таким образом, время, наделенное качествами альтернативности, обладает способностями растяжения и сжатия.
В мифе разные типы времени, соотносимые с разными персонажами выступают для них характеризующим качеством. А.М. Пятигорский указывает: «В «Пуранах» мы видим, что один день Брахмы равен 12 млн. годов Индры; 4320000000 годов человека и т. д., в то время как в буддийских источниках видим, что время смерти (точнее умирания) отличается от времени жизни, а время существования между смертью и новым рождением будет неопределенным с точки зрения времени жизни…» (Пятигорский, 1996.С.49), при этом исследователь объясняет различия в темпоральности различными состояниями человеческого разума, имплицированного соответственно в различных мифологических персонажах. В неомифологизме XX века разные персонажи наделяются разными темпоральными характеристиками: время затворника течет медленнее, чем время действующего или странствующего героя. В романе-мифе Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества» в каморке Мелькиадеса, где старый цыган сначала пишет историю рода Буэндиа, а затем располагается алихимическая лаборатория Хосе Аркадио, а позже ювелирная мастерская полковника Аурелиано, время останавливается, замедляется ход времени и для Ребекки, затворившейся после смерти мужа в своем доме так надолго, что никто уже не знает, жива ли она. В пьесе Ж.-П. Сартра «Затворники Альтоны» затворник Франц, избравший заточение формой существования после возвращения с фронта, продолжает переживать послевоенную разруху, в то время, как остальные персонажи пьесы существуют в процветающей Германии 50-х годов.
В позднем романе В. Набокова «Ада» главный герой Ван работает над книгой «Текстура времени», в которой прошлое определяется «как накопление ощущений, а не иссякание времени. прошлое – это постоянное накопление образов. Его легко наблюдать и слушать, испытывать и наугад пробовать на вкус, так что оно перестает обозначать правильное чередование связанных между собой событий» (Набоков, 1995. С. 516–517). Ван размышляет о том, «существовала ли когда-нибудь «примитивная» форма времени, в которой. Прошлое не отделялось еще достаточно отчетливо от Настоящего, так что тени и лики проглядывали сквозь все еще вялое, медлительное, личиночное «теперь»» (Набоков, 1995. С.510). Три лекции о трех типах времени Ван прочитал «у мистера Бергсона…в одном солидном университете» (Набоков, 1995. С.520). Набоковская концепция незавершенности прошлого, приводящая в итоге к мысли о том, что существует только один тип времени – минувшее, события которого переносятся в настоящее и будущее (М.М. Бахтин подводит этот феномен под определение «исторической инверсии», суть которой состоит в том, что в мифе и литературе «изображается, как уже бывшее в прошлом то, что на самом деле может быть осуществлено только в будущем, что, по существу, является целью, долженствованием, а отнюдь не действительностью прошлого» (Бахтин, 1995. С. 297–298), действительно созвучна теории памяти как виртуального состояния в философской системе А. Бергсона.
Ван в «Текстуре времени» определяет прошлое по впечатлениям звуковым, осязательным, обонятельным, вкусовым. Приемы расцвечивания и озвучивания И. Паперно выделяет как доминирующие в создании художественного космоса романа «Дар» (Паперно, 1997. С. 501–507). А. Бергсон, давая определение памяти и погружению в прошлое, указывает: «В действительности память – это вовсе не регрессивное движение от настоящего к прошлому, а наоборот, прогрессивное движение от прошлого к настоящему» (Бергсон, 1992. С.310). Прошлое реставрируется, оживляется в настоящем, благодаря случайному наслоению впечатлений, сцеплению предметов или внутреннему состоянию творчества, на период которого ход реального времени отменяется или приостанавливается для творца в момент творения: его внутренние часы отсчитывают иное время, не совпадающее с линейным. Погружение в прошлое, как самостоятельную реальность памяти, Бергсон описывает как процесс, охватывающий несколько этапов: «Первым делом мы помещаем себя именно в прошлое. Мы отправляемся от некоторого «виртуального состояния», которое мало-помалу проводим через ряд различных срезов сознания вплоть до того конечного уровня, где оно материализуется в актуальном восприятии, то есть становится состоянием настоящим и действующим; другими словами, мы доводим его до того крайнего среза своего сознания, в котором фигурирует наше тело. Это виртуальное состояние и есть чистое воспоминание» (Бергсон, 1992. С.342).
Не все, увиденное в мире, способно сохранить воспоминание, подарив предмету новое бытие в новой реальности, оно тем самым обеспечивает возможность материального возвращения из мира памяти и прошлого в момент настоящего. Переезжая к Щеголевым, Годунов-Чердынцев («Дар») прощается с комнатой пансиона и размышляет о том, как расставаясь с чужим миром, «в лучшем уголке души мы чувствуем жалость к вещам, которых собой не оживили, едва замечали, и вот покидаем навеки. Этот мертвый уже инвентарь не воскреснет потом в памяти.» (Набоков, 1990. Т.3.С.11). П.Кузнецов, размышляя об особенностях гносеологии Набокова, сравнивает дар писателя с уникальной способностью героя из новеллы Х.-Л. Борхеса «Фунес, чудо памяти» помнить прошлое во всей полноте отдельных подробностей (Кузнецов, 1992.С.244). Но герой Борхеса тонул в детальности, дробной полноте своих воспоминаний, чтобы вспомнить один эпизод прожитого дня, он вынужден был полностью переживать его заново. Феноменальная память Фунеса не умела выделить единичной детали, значимой на фоне бесконечного множества прочих подробностей. Набоков напротив выделяет образ, деталь, подробность вещественного мира, сугубо индивидуальную, единичную, принадлежащую только ему.
Эта стратегия сопряжения или выделения доминирующей точки зрения приводит к актуализации в космосе Набокова разных типов времени, соотносимых с ритмами жизни конкретных героев. Время внутреннее не совпадает с ходом времени внешнего, оно наделено способностью обратного хода, обращенного в мир прошлого и памяти, оно наделено иным темпоральным ритмом. В романе «Дар» отец Федора, исчезнувший во время своей последней экспедиции, избирает для нее подходящее внутренне, но трагически несоответствующеее замыслу внешнее время: «То, что Константин Кириллович, в тревожнейшее время, когда крошились границы России и разъедалась ее внутренняя плоть, вдруг собрался покинуть семью года на два ради далекой научной экспедиции, большинству показалось дикой прихотью, чудовищной беззаботностью. До крайней минуты Федору мечталось, что отец все-таки возьмет его с собой. «В другое время взял бы,» – сказал он теперь, забыв, что для него-то время было всегда другим» (Набоков, 1990. Т.3.С.119). Любопытно, что герой, наблюдающий за самим собой, движется во времени с иной скоростью, чем остальные персонажи: зрительно-преобразующее восприятие действительности протяженнее во времени, соглядатай отстает от остальных персонажей. Смуров, случайно завладевший ключами от квартиры сестер, уехавших в театр, кружит по дому, стремясь через зримые детали, предметы и вещи, определить отношение Вани к себе самому. Неожиданно сестры возвращаются из театра. Смуров, притаившись, подслушивает их разговор, при этом недоумевая: «Неужели мое бесплотное порхание по комнатам продолжалось три часа? Там успели сыграть пьесу, а тут человек только пробежался через три комнаты. Ничего не было общего между моим временем и чужим» (Набоков, 1990. Т.2.С.325]. В. Руднев, воспроизводя концепцию времени Дж. Данна, подчеркивает, что введение фигуры Наблюдателя, наблюдающего за Наблюдателем 1, приводит к тому, что «время 1, за которым он наблюдает, становится пространственноподобным» (Руднев, 2000.С.30), в результате по нему можно передвигаться в прошлое, в будущее и обратно, причем, умножение фигур наблюдателей должно привести к бесконечному нарастанию временных изменений, и, таким образом, мировой универсум предстанет чем-то «вроде системы зеркал, отражающихся друг в друге» (Руднев, 2000.С.31). Именно к такой метафоре – «тысяч зеркал», отражающих его отсутствующий образ приходит в конце романа Смуров (Набоков, 1990. Т.2.С.344). Смуров предстает объектом наблюдения для самого себя, за ним наблюдают все персонажи романа и их образы Смуров тщательно выявляет и собирает, наконец, один из наблюдателей за Смуровым – Вайншток одержим манией преследования, всюду ища тайных советских агентов, помимо них за миром людей наблюдает мир духов, которых тот же Вайншток вызывает на спиритических сеансах. Согласно Дж. У. Данну, умножающаяся система Наблюдателей и принадлежащих им временных измерений бесконечна и может обрести предел только найдя Абсолютного Наблюдателя – Бога, который движется в абсолютном времени (Руднев, 2000. С.30). Для романа Набокова «Соглядатай» абсолютным Наблюдателем и демиургом выступает сам создатель романного мира – Владимир Набоков. Хотя ответ на вопрос об абсолютном Наблюдателе, казалось бы, найден, однако – сам Набоков – объект собственного и чужого наблюдения, участник сотворенного им и другими наблюдателями мира. Этой нетождественностью Наблюдателя самому себе вызвано его настойчивое художественное расщепление на героя и наблюдающего за ним автора, тоже выступающего героем созданного в романе мира. Моногерой мифа эквивалентен модели Вселенной, выступая синонимом ее полноты и многообразия.
В повести Х. Кортасара «Преследователь» наблюдение выступает формой экзистенции Бруно, наблюдающего за Джонни, пишущем о нем книгу, и самого Джонни, стремящегося найти самого себя во времени. Абсолютно закономерно, что поиск осязаемой, зримой формы времени характеризует джазового саксофониста, который стремится понять, как совмещаются потоки внутреннего и внешнего времени, а именно, как он мог вспомнить во всех подробностях игру в клубе, молитву матери, разговоры с соседом в течение тех полутора минут, которые отделяли одну станцию метро от другой, поскольку, чтобы все это вспомнить и прожить в воспоминании ему понадобилось бы не меньше четверти часа: «Только полторы минуты твоего времени или вон ее времени. Или времени метро и моих часов, будь они прокляты. Тогда как же может быть, чтобы я думал четверть часа, а прошло всего полторы минуты?… Но только в метро я могу это осознать, потому что ехать в метро – все равно, как сидеть в самих часах. Станции – это минуты, понимаешь, это наше время, обыкновенное время. Но я знаю, что есть и другое время, и я стараюсь понять, понять.» (Кортасар, 1992. Т.1.С.592). Э. Гуссерль указывал на отличие «действительного времени» от «времени созерцания», определяя время как внутреннее сознание восприятия (Гуссерль, 1994). Эта особенность времени протекать с разным темпом во времени внутреннего восприятия и во внешнем линейном потоке глубоко теоретически осознана в современной теории музыки. И. Циммерман, показывая, что музыка существует в двух состояниях: являет себя во временном потоке и погружена во временной поток, подчеркивает, что «в этом заключена глубочайшая антиномия, ибо в силу высшей организации времени оно само преодолевает себя и приобретает облик, несущий на себе видимость вневременного» (Циммерман, 1991. С.82). В современной теории интервала в музыке утверждается идея множественности музыкального времени. Б.Д. Дондоков, обобщая способы осуществления интервала в музыке, приходит к выводу: «Сам интервал существует в двух формах: в последовательном развертывании (горизонтально) или в одновременном звучании (вертикально). Одновременное звучание интервала воспринимается как своеобразная последовательность тонов, разворачивающаяся во времени, равном нулю. Последовательное же изложение тонов интервала является растянутой во времени одновременностью. Таким образом, это две формы звучания интервала оказываются фактически тождественны, и в этой возможности проецирования интервала как на вертикаль, так и на горизонталь обнаруживается способность времени таким же образом проецировать в обоих направлениях» (Дондоков, 1991. С.131). Следствием расслоения музыкального произведения на несколько потоков выступает множественность музыкального времени. Итальянский композитор Л. Ноно, стремясь осмыслить музыку во времени, приходит к выводу, что мыслить музыку во времени можно «не в тот момент, на который она приходится, а в различных, отличающихся друг от друга моментах. Речь идет о том, чтобы преодолеть идею временной прогрессии, понятой как двуединое движение слева направо» (Ноно, 1995. С.61). В искусстве не только возможно движение обратное, но и иное, текущее в том же направлении, возможна и полная статика, осознаваемая как одновременность (вертикальное звучание интервала). Г. Башляр, определяя особенности поэтического времени, подчеркивает: «Поэзия – мгновенная метафизика. Она воплощение самой одновременности, когда разорваннейшее бытие обретает целостность. Именно для того, чтобы создать мгновение сложное, соединив в нем бесчисленные одновременности, поэт уничтожает простую непрерывность связного времени» (Башляр, 1987. С.249). Аналогичная мысль утверждается и М. Элиаде: «.поэтическое творение… подразумевает отказ от времени – истории, сконцентрированной в языке и склонно к возврату райского изначального состояния: тех дней, когда можно было творить непринужденно, когда прошлое не существовало, потому что время не осознавалось, не было памяти темпорального течения» (Элиаде, 1996. С.37). Собственно сам момент вдохновения, само созидание выводит поэта из потока линейного времени, читатель, следующий путем поэта, раскодирующий смысл произведения, переживает то же озарение созидания и достигает того же преодоления непрерывного линейного времени: его остановки, замедления или отмены. Синхронизация времени восприятия произведения с множественностью заложенных в нем темпоральностей выводит читателя в область абсолютного авторского времени, т. е. во время творца, которое является одним бесконечно длящимся теперь, лишено категории протекания и качества дискретности. П.А. Флоренский выход в такую временную область характеризовал как преодоление дробности знания, антиномичности человеческого разума, которую он характеризовал через метафору трещин, которые человеческий рассудок вносит в целостное мироздание, хотя «очищенный богоносный ум святых подвижников несколько цельнее: в нем началось срастание разломов и трещин, в нем болезнь залечивается. сквозь зияющие трещины человеческого рассудка видна бывает лазурь вечности» (Флоренский, 1990. Т.1.С.489). Собственно к открытию вечности, преодолению исторической линейности и направлены усилия художников XX века, создающих неомиф, априори направленный на открытие вечности, обретение целостности.
Сам аналогизирующий принцип, выступающий одним из категориальных приемов порождения неомифа, тоже создает аберрацию линейного времени, открывая в нем ретроспективу, направленную к правремени-прапространству, моменту изначальной космогонии, т. е. открывает присутствие вечности. Мифологические аналогии в «Улиссе» Дж. Джойса или «Кентавре» и «Бразилии» Дж. Апдайка открывают для современных героев возможность выхода в изначальное время мифа. В аналогизирующем неомифе, как указывает М.Н. Эпштейн, «герой почти всегда выглядит одиноким, вычлененным из горизонтальных связей с обществом и историей, ибо он находится в напряженнейших вертикальных связях с архетипическим прообразом, задающим ему тип поведения» (Эпштейн, 1988. С.253). Другой принцип порождения неомифа, архетипический, направленный на выстраивание нового мифа по исходной мифологической модели (в аспекте сюжета «биографии» или/и «индивидуации»; в аспекте отдельных мифопорождающих смысловых элементов через мифологизирование объектов (фетишизация, символизация), персонажей (введение мифологического персонажа или же превращение человека в фантастическое существо), явлений и ситуаций (ритуализация)) достигается та же сопряженность современности и архаической реальности, связь с которой устанавливается через посредство фетиша, символа, иерофании или же посредника – мифологическое существо, или ситуацию, повторяющую, рецитирующую ключевую ситуацию (отделение хаоса от космоса, битву с хтоническим чудовищем, порождение мира путем брака стихий или божественного инцеста) мифа или ритуала. Таким образом, не обращая линейного времени в цикл, неомиф не трансформирует линейное время в циклическое, хотя наиболее последовательно в направлении этой трансфомации как раз развивался неомифологизм Набокова, но находит способы выхода за пределы линейного времени, установления связи с архаическими изначальными временем-пространством. К таким же выводам на основе обобщения лингвистического материала приходит Г.Н. Большакова: «Узуальные образы, концептуализирующие время, – круг, горизонтальная или вертикальная линии – в идиостиле Набокова постоянно совмещаются: отрезок становится кругом, а круг концептуализируется как форма бесконечности. Таким образом, и сама бесконечность понимается как форма/вместилище жизни» (Большакова, 2006. С.198).