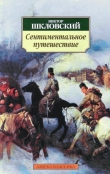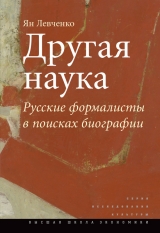
Текст книги "Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии"
Автор книги: Ян Левченко
Жанры:
Языкознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Восприятие современности сквозь историю и пристальный поиск себя уводит формалистские корни в романтическую почву. Решая в научных работах личные вопросы, формалисты демонстрировали примеры высокой рефлексии в текстах смешанного жанра. Литература становится для них персональным делом, приватизируется в духе пушкинского «Арзамаса», но вместе с тем именно в таком качестве стремится к выходу за пределы узкого круга. Такая стратегия отличает романтика, который «хочет сделать понятным читателю собственное переживание жизни, рассказать ему о своем жизненном опыте» [Жирмунский, 1919, с. 6]. «Сделанное», выраженное при этом немедленно отчуждается, становясь предпосылкой иронии. Стремясь удержать власть над словом, автор буквально спасается при помощи иронии, предсказывающей это отчуждение. Автор может умереть [59]59
Свидетельство о своей смерти автор получает только в следующий период эскалации скептицизма на рубеже 1960-1970-х годов [Фуко, 1996].
[Закрыть], но, как принято в новейшей теории иронии, «место творца – место дискурсивной власти – остается, все яснее проступая в фокусе самосознания современного искусства» [Hutcheon, 1985, р. 85]. Причина этой устойчивости – вакцинация иронией, которую концептуализировали романтики
По Фридриху Шлегелю, ирония вызывает ощущение двойной перспективы (текст сам указывает на то, что его структура двусмысленна по преимуществу, так как раскрытие одного из значений всегда означает затемнение другого). Благодаря иронии оппозиция стихийного и сознательного теряет свою силу [Жирмунский, 1919, с. 17]. Ирония «означает доминирующую роль автора», что «обеспечивает примирение различных морально-ценностных полюсов произведения. Однако это примирение только формальное,поскольку устранить реальные общественные противоречия, вызванные овеществлением человеческих отношений, автор не в силах. Эффект иронии и связан здесь с тем, что то решение, которое предлагают автор и его произведение, по природе поверхностно» [Тиханов, 1996, с. 133].
Еще один романтический источник формализма – Новалис с его идеей поэтического обновления восприятия. «Поэзия, подобно сну, прерывает для нас обыденный ход жизни, чтобы обновить нас, и нашему ощущению жизни сохранить его бодрость», – говорит Новалис в «Критических фрагментах»; сущность романтизма состоит в «искусстве удивлять» [Берковский, 2001, с. 33]. Шкловский – это профессиональный читатель, вставший на позицию автора, его рефлексия простирается в двух противоположных направлениях и поэтому по определению иронична. Однако в отличие от романтиков формалисты уже знают о смерти Бога. Этим знанием и продиктован отказ от этического и ценностного компонентов в анализе текста, ибо и тот, и другой расцениваются как производные тотальной формы, как следствие определенной организации высказывания, а не чьей-то дословесной воли. Таким образом, воля деперсонализуется, ибо полагается свойством самого дискурса. Он и определяет восприятие реальности, подрывая оппозицию между see-ingasи actual seeing [60]60
Неразличение «видения как будто» и «видения на самом деле» (термины заимствованы из [Kearney, 1997]; ср. также «Hocus Pocus Linguistics» и «God’s Truth Linguistics» в одноименной дисциплине) в полной мере свойственно ментальному и дискурсивному пространству модернизма. Оно лишь не сопровождается кризисом «большого нарратива», который письменная культура осознала к середине XX в. Если увлеченные вседозволенностью модернисты (в том числе формалисты) были активными субъектаминеразличения, то люди эпохи постмодерна чувствуют себя беспомощными объектами,если не жертвами неразличения: «Современная революция – это революция неопределенности. Мы весьма далеки от того, чтобы принять ее» [Бодрийяр, 2000, с. 64].
[Закрыть].Отсюда форма высказывания – это вовсе не самодостаточная комбинация элементов плана выражения, а целостный фрагмент реальности, осознанный как таковой. Формализм не дистанцируется от жизни, но подразумевает ее пристрастное истолкование, наследуя идеям антигуманиста Ницше, романтика наоборот. Выходит, фаустовская дилемма между сухой теорией и древом жизни решается формалистами в пользу последнего?
Наличие как минимум двух перспектив рассмотрения вещи и стремление столкнуть противоположности в одном парадоксальном высказывании (влияние русского футуризма) вполне согласуется с общей культурно-психологической напряженностью, в которой существовало поколение первого пореволюционного десятилетия. Познавательность эстетического акта, каковой она виделась романтикам, разделялась и формалистами с их первичностью поэтического языка над «естественным», а также с не раз уже помянутым остранением, которое важно как принцип мышления, а не как прием, и которое определяет искусство в целом [Парамонов, 1995, с. 43]. На уровне мировоззрения деятели ОПОЯЗа были создателями не вещей, но концепций, т. е. аналитиками и спецификаторами. Их внутренняя эволюция развертывает сюжет борьбы между мироощущением и мировоззрением, между витализмом изначальных посылок и логикой их дальнейших трансформаций в ходе описания, вернее, конструирования, фактов литературы. Имплицитно апеллируя к интуитивному чувственному опыту, к континуальной и потому неописуемой действительности, формалисты строят автономную последовательность дискретных элементов и подменяют ею историю форм.
Таким образом, романтическая генеалогия формалистов выстраивается достаточно четко: от самих романтиков через Ницше к Бергсону, с чьей точки зрения жизнь – это непрерывный поток постоянно нового,не познаваемый прерывным сознанием, но только фрагментарно им представляемый. В концепции ОПОЯЗа эта идея трактуется как механизм восприятия текста на фоне не-текста, культурно обусловленного здесь и сейчас. Принципиально недоговоренная идея вечного движения путем обновления может пониматься как радикальный прогрессизм. Представляется, однако, что обновление в этой схеме избыточно,оно не имеет смысла вне исторического контекста, позволяя обнаружить перераспределение старого и нового на примере конкретного текста. Начиная с текстов 1923 г., о которых речь пойдет в следующей главе, Шкловский усложнил принцип остранения, проецируя свой жизненный опыт так, чтобы он синтагматически совпадал с анализируемым текстом. История здесь «развертывается» как принципиальное совпадение события и его описания, что есть следствие понимания собственной жизни как длительности, что само собой и подталкивает к изучению диахронической последовательности текстов. В свою очередь, работа Эйхенбаума над поэтикой Толстого, вылившаяся в итоге в (авто)биографию и в этой связи встретившая жесткую критику со стороны коллег [Томашевский, 1923], была также продиктована экзистенциальной потребностью в идентификации с современностью. Наконец, переход Тынянова от науки к литературе свидетельствовал о желании использовать документ, не ограничиваясь его описанием. Все эти процессы перехода, ломки, трансформации отчасти были запрограммированы оппозицией фона(пространство слабодифференцированных явлений) и феномена(выдвинутого элемента, например жанра, востребованного конкретной референтной группой), которой руководствовались формалисты вслед за романтиками и их пониманием иронии. Диалектика выдвижения и отступления была актуальна для исторической модели, основанной и в том, и в другом случае на принципе борьбы.
III. Интермедия. Статьи как послания. Формы коммуникации в научном быту
Переосмысление традиционной функции жанров – цель, которая соприсутствует в текстах формалистов прямой, заявленной цели. Наряду с идеей жизнестроительства, воспроизводившей эстетику романтического поведения в идиолекте Шкловского и далее в доктрине ЛЕФа, принцип смешения жанров был суррогатом того синтеза, который в теории провозглашали все те же романтики. Конвертация и смешение жанров, их заимствование и травестия, характерные для переломных эпох, в ряду которых ярко представлено первое десятилетие после революции 1917 г., являются процедурами перевода на метауровень: новый текст эксплицитно описывает предшествующие и имплицитно порождает вторичную систему правил. В соответствии с этим жанр активно демонстрирует свою подвижность, стремится к перерождению.
Предпосылка выделения жанра заключается в том, что «семантически регулярные единицы внутри текста составляют материал для построения структуры регулярных межклассовых эквивалентностей – неких вторичных нарративных образований (типов литературы, элементов сюжета в смысле В. Проппа и т. д.)» [Dolezel, 1979, р. 198–199]. С одной стороны, жанр есть категория, т. е. результат генерализации явлений, причем это концептуальная и одновременно историчная категория [61]61
Проницательную критику этого общего места гегелевской эстетики см. [Шеффер, 2010, с. 36–46].
[Закрыть]. С другой стороны, явления культуры, формирующие компетенцию жанра, подбираются вполне произвольно и, будучи сами сознательно сконструированы, начинают настаивать на своем дополнительном структурировании в зависимости от функции, которая им приписывается той или иной аудиторией. Любопытный пример жанрообразования обнаруживает «дружеское письмо» – порождение рафинированной словесной культуры пушкинской эпохи, результат одновременного прочтения и достраивания практики интимной коммуникации в публичном коде. Исследователи этого пограничного жанра свидетельствуют, что концептуальное описание феномена началось именно в работах формальной школы [62]62
«Среди формалистов Тынянов и его ученики, особенно Н.Л. Степанов, оставили нам наиболее стимулирующие работы по письмам. Несмотря на то что Тынянов никогда не посвящал письмам отдельного исследования, они являют собой основную иллюстрацию к теории литературного правонаследования, где внелитературные писания (персональная переписка, словесные игры в салонах) могут достичь литературного статуса в то же самое время, когда признанные жанры лишаются своей прежней литературной репутации (например, оды или придворные ритуалы» [Todd, 1976, р. 14]. Исследователь далее напрямую ссылается на пионерскую работу Степанова о дружеском письме в «ювенильном» формалистском сборнике «Русская проза» 1926 г.
[Закрыть]. Представляется, однако, что письмо, как и его индекс – посвящение, было для формалистов объектом не только изучения, но и практической обработки.
Примером предельно сжатой и потому предельно выразительной формы реализации приватных отношений в научно-критической статье послужили посвящения, которые Тынянов предпослал программным работам «Промежуток» (1924), «Литературный факт» (1924) и «О литературной эволюции» (1927). Посвящения выступают в роли дополнительных кодов, которые в форме, сжатой до знака-указателя, обогащают семантический потенциал указанных текстов. Для Тынянова как искушенного знатока текстов и автора своеобразной концепции жанра посвящение было случаем предельной сжатости конструктивного принципа (подробнее о тяготении Тынянова к дискурсивной «тесноте» и реформировании жанров см. [Блюмбаум, 2002; Duff, 2003]).
Посвящение можно назвать своеобразным индексом приватного жанра, другими словами, указателем закрытого, частного значения, существующего, несмотря на факт публикации. Текст с посвящением обращается ко всем и особенно – к конкретному лицу. Можно возразить, что произведение в любом случае обращается к коллективному читателю и посвящение есть не более чем индикатор, обогащающий семантику текста дополнительными коннотациями. Однако наличие адресата, чья инстанция находится между историческим лицом и персонажем внутри текста, проблематизирует категорию внешнего, безличного читателя и делает восприятие такого текста особенно иллюстративным для теории рецепции. При этом в отличие от посланияс его выраженной прагматикой текст с посвящениемчаще всего не содержит прямых обращений. Они заменяются аллюзиями, намеками и отсылками,
Достаточно пространный для Тынянова-критика этюд «Промежуток» описывает ситуацию в поэзии 1920-х годов. Несмотря на то что в статье дается панорамный обзор ведущих поэтических персоналий периода, Тынянов посвящает ее именно Борису Пастернаку. Тем самым он не только обнажает свои вкусовые и цеховые предпочтения, но и в какой-то мере вменяет Пастернаку связь с теорией ОПОЯЗа середины 1920-х годов. По Тынянову, миссия Пастернака состоит в том, чтобы «взять прицел слова на вещь. Как-то так повернуть и слова, и вещи, чтобы слово не висело в воздухе, а вещь не была голой, примирить их, перепутать братски. Вместе с тем это естественная тяга от гиперболы, жажда, стоя уже на новом пласте стиховой культуры, использовать как материал XIX век, не отправляясь от него как от нормы, но и не стыдясь родства с отцами» [Тынянов, 1977, с. 182]. Пастернак связывает вещи по случайному признаку, другими словами, мощно остраняет перспективу их восприятия, актуализируя проблематику раннего ОПОЯЗа. Стратегия же дальнейшей работы Пастернака со словами и вещами, лишенными привычных контекстов, напоминает вторую, синтагматическую фазу развития формального метода. Это новое соединение, аналог деконструкции, которой формалисты подвергают свою теорию. Результатом этого переосмысления является новый гуманизм – конструирование исторического субъекта, наполняющего своими рефлексиями пространство, из которого был выкачан воздух в порядке эксперимента.
Таковы работы Шкловского, ощутившего в Берлине шок выпадения из истории и с тех пор занятого ее поспешным, упреждающим присвоением, таковы заявленные в предисловии к «Молодому Толстому» интенции Эйхенбаума, еще до Шкловского пережившего «миг сознания», осознавшего себя субъектом исторического процесса. Формалисты образца 1924 года, только что вновь собравшиеся вместе (Шкловский вернулся в марте, а четвертый номер «Русского современника» со статьей Тынянова вышел в июле), не предсказывают свое будущее, но ищут созвучий с литературой. Они точно так же не отправляются от норм XIX в., пережив и умерив свой бунт, собравшись включить этот прошлый для них век в свою теоретическую генеалогию. Поэтому и родства с ним они уже не стыдятся, а стремятся его проработать с той же симпатией, с какой на заре ОПОЯЗа вели свою генеалогию от норм предромантизма. Таким образом, посвящение Пастернаку – это признание его поэтом школы ОПОЯЗа. Вероятно, оно не могло появиться вне связи с предисловием к «Проблеме стихотворного языка», в последний момент убранным из верстки [Тынянов, 1977, с. 501–502]. Поскольку в книге речь идет о константных признаках стихотворной речи, неслучайно посвящение, данное в конце предисловия, – «ОПОЯЗу» [Там же, с. 254]. Тынянов описывает когнитивные приемы, которые применяет ОПОЯЗ в интерпретации плана содержания поэтических текстов. Методология ОПОЯЗа в темном и стилистически суггестивном изложении Тынянова оказывается сродни поэзии, прозревающей истину за счет своей теоретической слепоты [63]63
Игра с известными метафорами Поля де Мана не вполне произвольна. Ведь речь действительно идет о слепоте на уровне очевидного и способности к внутреннему зрению там, где нет иного советчика, кроме интуиции. Тынянов при всей его «научности» относится к той категории критиков, что в решающий момент интерпретации (момент диагноза) исходят из интуиции.
[Закрыть].
Посвящение Пастернаку было проявлением своеобразной теоретической экспансии, при которой поэт объявляется носителем тех же принципов, что и ученый. Иные цели преследуют посвящения Виктору Шкловскому в статье «Литературный факт» и Борису Эйхенбауму в «Литературной эволюции». Они превращают эти программные тексты в зашифрованные послания друзьям и коллегам, в которых одна и та же проблема рассматривается с близких им точек зрения. Подобное «научное» послание возникает как результат сознательного смешения и/или взаимной подмены нескольких стратегий письма. Посвящение ближнему кругу, т. е. членам триумвирата, несомненно, обладают для Тынянова еще большей значимостью, чем апелляции к современной литературе. Изложение той или иной концепции в его текстах в то же время является обращением к конкретному адресату, содержащим элемент личной провокации [64]64
Для обозначения таких авангардных явлений Гэри Сол Морсон предлагает удачный термин «threshold art» – «пороговое искусство» [Morson, 1981, р. 39].
[Закрыть]. Заложенная в таком сообщении двойственность весьма характерна для продукции литературных обществ и объединений, члены которого чувствуют себя принадлежащими и своему кругу, и самой широкой аудитории [65]65
Показательно, с каким подчеркнуто личным рвением опоязовский триумвират в лице Тынянова, Шкловского и Эйхенбаума на протяжении 1920-х годов обсуждал феномен литературного кружковства и динамику формирования и дезинтеграции объединений в литературе XIX в. (констатацию очевидных параллелей см. [Курганов, 1998]).
[Закрыть]. Более того, заострение внимания на этой, по сути, обычной участи всякого литератора превращает члена объединения во внимательного читателя собственных текстов, рефлектирующего свою принадлежность письму и апеллирующего к собрату по цеху. В кругу ОПОЯЗа момент рефлексии становился моментом обогащения нарративной перспективы, когда ученый и критик превращался в писателя [66]66
Имеется в виду бартовский «писатель», упразднивший цель письма, ремесленный смысл «письма для чего-либо». При этом формалистам (во всяком случае, в течение 1920-х годов) удавалось совмещать научную честность с литературным ремесленничеством, культивируя парадоксальность своего положения и оправдывая его жанровыми требованиями биографии. Называя Шкловского «особой фигурой писателя», Эйхенбаум, несомненно, примерял этот титул на себя [Чудакова, 2001 (а)].
[Закрыть].
Напомним, что конструктивными признаками античного послания (эпистолы) являются: 1) наличие адресата; 2) необходимость сообщить ему какую-то информацию; 3) апелляция к общей памяти автора и адресата. При этом в поздних образцах этого традиционного жанра адресат может быть редуцирован и сохраняться лишь как часть жанровой мотивировки, как это происходит в контексте русского Просвещения («Эпистола о стихотворстве» Александра Сумарокова), а может быть конкретизирован и оставлен в затекстовом пространстве в соответствии с прагматикой эпистолярного жанра, характерного для кружковой поэзии первой трети XIX в., вызывавшей у формалистов пристальный интерес (ср. «Мои пенаты» Константина Батюшкова с подзаголовком «Послание Жуковскому и Вяземскому»).
Эпистолярные клише активно применялись формалистами для построения метанауки. У Шкловского мы найдем целый корпус текстов, напрямую обыгрывающих идею письма resp. коммуникации. Сначала в «ZOO, или Письмах не о любви» (1923) Шкловский обработал стертую за много веков бытования форму эпистолярного романа так, чтобы продемонстрировать повествовательные фокусы, которыми вольно или невольно манипулирует автор подобного произведения (см. главу IV). Затем внутри «Третьей фабрики» (1926) Шкловский публикует свои «Письма в ОПОЯЗ», которые должны были составить отдельную книгу обращений к друзьям (что и требуется делать по законам жанра на кризисном этапе). Наконец, в «Поденщине» (1930) помещен раздел «Переписка», где в режиме диалога смонтированы выдержки из писем Шкловского и Эйхенбаума, воспроизводящие главным образом историко-литературную полемику двух ученых и явным образом отсылающие к важнейшему источнику XIX в., посвященному проблемам социального функционирования литературы, имеется в виду «Письмо к Гоголю» Виссариона Белинского [Flaker, 1985, р. 57–58]. Таким образом, выстраивается цепь логичных трансформаций. Отталкиваясь от чисто фиктивной коммуникации, ассимилирующей научные и прочие факты наравне с доминантным вымыслом («ZOO»), Шкловский запечатлевает свои принципиально односторонние обращения к реальности в «Третьей фабрике» и, наконец, приходит к установлению экивиалентности между действительно имевшей место перепиской и литературным текстом в «Поденщине».
В контексте «Поденщины» письма получают дополнительное прагматическое измерение, тем более значимое в свете склонности обоих к авторефлексии и ретроспективной коррекции. Оба также часто вменяют друг другу одни и те же суждения, превращая их в элемент беллетристического текста [67]67
Ср. «Эйхенбаум говорит, что главное отличие революционной жизни от обычной то, что теперь все ощущается. Жизнь стала искусством» [Шкловский, 2002, с. 260], а также: «Говорил мне когда-то мой друг – человек, которого каждый нерв нашей эпохой сделан – говорил, что мировая война наша есть порождение символизма: люди перестали ощущать мир, людей, вещи. Если бы ощущали – не могли бы воевать» [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 532].
[Закрыть]. Здесь уместно заметить, что в «Поденщине» Шкловский учитывает опыт эйхенбаумовского «Временника», напечатанного годом ранее. В особенности это касается настойчивой мысли о тотальной «стилистичности» домашней литературы поздних аристократов типа Тургенева: «Его письма полны литературы и идут от нее, от ее традиции и штампов; его произведения, идя оттуда же, сливаются с письмами. Раз построенная и отработанная
фраза – где бы и с чем бы в связи она ни появилась – оказывается пригодной и на другие случаи, в другом жанре, в другом контексте» [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 104]. В ситуации второй половины 1920-х годов Шкловский невольно оказывается в положении аристократа, чьи услуги грозят оказаться невостребованными. Поэтому он так беспокоится о росте числа писателей и превращении литературы в индустрию в «Технике писательского ремесла» (что программирует разрыв с ЛЕФом, ратовавшим за растворение литературы в быту). Примечательно, что в статье «Литературный быт» Эйхенбаум строит симптоматичную линию от Шевырева к Шкловскому через Чернышевского, удивляясь метаморфозам, которые претерпевает разночинец, освоившийся в роли литературного аристократа [Там же, с. 92]. Неудивительно, что в «Поденщине» и в следующей книге «Поиски оптимизма» (1931) Шкловский пытается сдержать разрушение своей власти над приемом.Пока безличная литература не успела стереть и поглотить обновленные приемы, он делает это сам и сливается с литературой, подобно своему заочному наставнику Василию Розанову [68]68
О розановском генезисе Шкловского см. [Пятигорский, 1996; Липовецкий, 2000].
[Закрыть].
Между тем предложенное в настоящей главе-отступлении понятие «научное послание» было в наибольшей степени связано с той деканонизацией формы научной дискуссии, которую предпринял в упомянутых статьях Юрий Тынянов. Историческая роль этих текстов известна: отрезок времени с 1924 по 1929 г. отличался интенсивным усвоением категории функции в ее прагматической специфичности. Определить этот краткий, но насыщенный трансформациями период можно как «промежуток» по аналогии с тем положением, которую Тынянов наблюдает в синхронном срезе литературы. Это своеобразный spannung(точка напряжения) в развертывании истории, момент наивысшего эстетического антагонизма между сосуществующими дискурсами, иными словами, «ситуация, в которой доминирующая система уже не может сохранить за собой “вершины” канонизации, а стремящаяся сменить ее – еще не в состоянии это сделать» [Ханзен-Леве, 2001, с. 372] [69]69
Что, впрочем, по характеру формулировки подозрительно напоминает описание революционной ситуации по В.И. Ленину: «Верхи не могут, а низы не хотят».
[Закрыть].
Согласно принятой точке зрения, в статьях Тынянова последовательно конструируются два варианта литературной эволюции, «младший» и «старший». Как утверждают М.О. Чудакова и Е.А. Тоддес в комментариях к ПИЛК, «второй вариант выдвигал существенно новую концепцию, основанную на идее системности, первый сохраняет близость к идеям раннего ОПОЯЗа» [Тынянов, 1977, с. 510]. Принцип ступенчатой последовательности, в которой каждое последующее звено есть более совершенная инновация, лишь частично соответствует интенциональному контуру тыняновских статей. Другими, не менее важными чертами являются, с одной стороны, выраженная апелляция к Шкловскому и Эйхенбауму, а с другой – теоретическое обоснование Тыняновым собственного ухода из сферы «чисто научных» интересов. При этом сразу следует заметить, что в свете таких коннотаций эксплицитные посвящения «Литературного факта» Шкловскому, а «Литературной эволюции» – Эйхенбауму предстанут чем-то наподобие «свернутых» метатекстов, кодирующих и в то же время раскрывающих проблематику статей. Указание Тыняновым в самом начале статьи имени конкретного адресата (приоритетного читателя) резко повышает степень мотивированности излагаемых далее концепций.
В общем виде «Литературный факт» развертывает оппозицию литература vs. минус-литература,в то время как «Литературная эволюция» освещает проблему литература vs. не-литература.В одном случае имеет место контрадикторное противопоставление, в другом – контрарное. В свое время Игорь Смирнов указал на доминирование в русской теоретической поэтике второго типа (Виктор Жирмунский, Борис Эйхенбаум, Юрий Лотман) и в качестве альтернативы назвал Бориса Томашевского, который единственный определял прозу не путем негации поэзии, а через выделение ее позитивных признаков [Смирнов, 2001 (b), с. 258–265]. Представляется, что указанные типы характеризуют разные позиции наблюдателя по отношению к одному явлению и практически одинаково прорабатываются Тыняновым в целях достижения интегрального эффекта – своего рода «суммы формализма».
В «Литературном факте» Тынянов опирается на «тезис/антитезис» гегелевской диалектики – в этом причина того, что выстраиваемая оппозиция отражает борьбу двух равноправных начал [70]70
У Тынянова «слово „диалектика“ сразу же бросается в глаза. Но у Гегеля, как мы помним, диалектика не ограничивается подобным, как он говорил, отрицательно-разумным движением (параллель у Тынянова – само столкновение новой и отжившей литературных форм); существует диалектика как „процесс, в котором всеобщее отвергает форму конечного“. В этом случае мы должны исходить из понятия целостности, тотальности; и у Тынянова этим аналогом целостности выступает сама Литература как надындивидуальная духовная общность» [Парамонов, 1995, с. 47–48]. Со второй половины 1920-х годов латентная чувствительность формалистов к диалектике выходит на поверхность и обнаруживает себя в попытках социологического достраивания формального метода. Мотив диалектического снятия оппозиции субъекта и объекта обыгрывается, например, в письме Шкловского к Эйхенбауму от 16 января 1928 г.: «Я счастлив, что тебя откупорило с Толстым, вернее, Толстой откупорил книгу о литературном быте» [Панченко, 1984, с. 189]. Знаменателен глагол, выбранный щедрым на тропы Шкловским: теоретическое осмысление темы быта, в свою очередь, «откупоривает», или эксплицирует ту самую «побежденную линию», которая «сбивается с гребня, уходит вниз гулять под паром», как писал Шкловский в 1921 г. о явлении «канонизации младших жанров» [Шкловский, 1929, с. 228]. Теория развивается в соответствии с законами литературной диалектики, постоянно ища и находя в литературе себя и свою противоположность. В качестве постскриптума к цитированному письму Шкловский роняет фразу: «Нужно начать читать Гегеля» [Панченко, 1984, с. 190], – как бы разрешая ретардацию указанием на непосредственный источник своих мыслей и, как представляется, иронически противопоставляя себя Белинскому. Как известно, последний Гегеля не читал и не особо собирался в отличие от Шкловского, подоспевшего как раз к выходу первого тома академического четырнадцатитомника Гегеля на русском языке (М., 1929). Состоялось ли внимательное чтение – это вопрос отдельного исследования.
[Закрыть], как например, в процессе узаконивания ошибок в развитиии жанра поэмы. «Не планомерная эволюция, а скачок, не развитие, а смещение.Жанр неузнаваем, и все же в нем сохранилось нечто достаточное для того, чтобы и эта “не-поэма” была поэмой» [Тынянов, 1977, с. 256]. Подход, предполагающий построение динамической модели отношений «центр – периферия», очевидно, использует идею Шкловского о моделирующем конфликте между младшей и старшей линиями в искусстве, высказанную им во вступлении к очерку «Розанов» (1921). Вместе с тем концепция Шкловского служит и точкой отталкивания. Для того чтобы некое речевое пространство превратилось в литературу, необходима его вторичная упорядоченность (вторичная, поскольку оно упорядочено уже потому, что мы в нем находимся и о нем говорим). Все, что есть речь, есть латентная литература. Следовательно, реформация жанра предполагает выталкивание вещи из контекста, возвращение ей «ощутимости» (Шкловский), зарядившись которой, вещь затем сама формирует новый контекст, проектирует себя на материал. Тынянов достраивает концепцию, проговаривает ее положения и демонстрирует Шкловскому результат, на который и следует адекватная реакция: «Я не умею пересказывать чужие мысли. О выводах из твоей статьи ты мне напишешь сам, а я напишу тебе о своем искусстве не сводить концы с концами» [Шкловский, 2002, с. 375]. И далее уже в режиме художественного достраивания своих мыслей, пропущенных сквозь научный фильтр статьи Тынянова: «Литература живет, распространяясь на не-литературу. Но художественная форма совершает своеобразное похищение сабинянок. Материал перестает узнавать своего хозяина». Сквозной сюжет «Литературного факта» состоит не только в обработке примитивной схемы литературной эволюции по Шкловскому, но также и в развитии старой полемики последнего с потебнианской теорией образа. В ходе своего анализа Тынянов проясняет цель и концепцию формалистских инвектив, в действительности нацеленных на сам институт эпигонства и выхолащивания теории, а не на ее основателя (ср. мотив борьбы с «эклектиками и эпигонами» [71]71
Это сочетание впервые использует Эйхенбаум в «юбилейной» статье в «Книжном углу» (1921) в адрес последователей формализма. Немногим позже недовольный современностью Г. Винокур постулирует «эклектику» и «эпигонов» как характеристику эпохи в целом, не заинтересованной в критике так, как Пушкин был заинтересован в Вяземском [Винокур, 1924, с. 294].
[Закрыть]).
Говоря об империализме конструктивного принципа, Тынянов уже знает о радикальных случаях такой экспансии, реализованных в текстах Шкловского [72]72
Одновременно в статье 1924 г. «Литературное сегодня» Тынянов завершает обзор современной литературы характеристикой «ZOO» Шкловского: «Книга интересна тем, что на одном эмоциональном стержне сразу даны – и роман, и фельетон, и научное исследование» [Тынянов, 1977, с. 166].
[Закрыть]. Свойственная Шкловскому практика интуитивного намека, связанная с общим, хотя и неглубоким владением системой, как известно, опережала теоретическое постулирование. То, что Тынянов в «Литературном факте» описывает подвижность жанровой границы на примере олитературивания писем, свидетельствует в пользу тесной связи с «ZOO», которое «отдает свой долг литературной традиции путем ее искажения» [Avins, 1983, р. 94]. Высказанная в «Литературном факте» идея «литературной личности» существенно отразилась на поэтике «Третьей фабрики». Для Шкловского конструирование своей литературной личности явилось попыткой переработать и нейтрализовать личный и профессиональный кризис [Dohrn, 1987, S. 20]. Дэвид Шеперд, британский исследователь металитературы русского модернизма, так характеризует этот жанровый аттракцион, делающий очевидным мотив извечного «головокружения» структуры (vertigeв смысле Ж. Женетта): «Подвешенный между документом и фикцией, отметающий сданную в архив сюжетность при помощи суммы анекдотических эпизодов и обнимающей их биографии некоего “Шкловского”, текст "Третьей фабрики” построен на постоянном нарушении границ между различными типами дискурса» [Shepherd, 1992, р. 137].
В «Литературном факте» понятийная пара «материала» и «конструктивного фактора» выступает как аналогия оппозиции «langue/parole», а «конструктивный принцип» относится к уровню речевой деятельности (соссюровский langage). Простая и одновременно глобальная объяснительная схема задается в виде аксиомы, допускающей сомнение в отношении своих следствий (теорем), но не в отношении себя. Для «Литературной эволюции» характерен именно интерес к этим сомнительным следствиям; здесь осуществляется трансляция внутренней противоречивости литературной структуры в мир межструктурных отношений («синфункция» как отношение элементов одной системы не может быть понято без учета «автофункции» – отношения литературы с другими системами, самой литературой и конструируемого).
В этой статье не происходит качественного концептуального скачка, зато осуществляется перенос внимания: вместо изменяющейся во времени системы, имеющей начало и конец, речь заходит о характеристиках самого временного континуума. Тынянов реконструирует и видоизменяет позицию Эйхенбаума, для которого быт не склад литературных потенций, а среда, складывающаяся вокруг литературы [73]73
Такое понимание быта характеризует, в частности, работу учеников Эйхенбаума Н. Аронсона, С. Рейсера «Литературные кружки и салоны» (Л., 1930).
[Закрыть]. По реакции Эйхенбаума на тыняновскую работу 1924 г. видно, что для него не существует иного способа изучения «литературности», кроме как «в плане собственно эволюционном» [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 68]. Факты предстают функциональными переменными, которые конкретизируются лишь при наличии внятной теоретической концепции истории. Недостаток последней Эйхенбаум хорошо осознавал. Соответственно, Тынянова здесь интересует не то, как изменяется конкретная система, а то, какова функция данной системы в истории. Такая постановка проблемы сигнализирует как о последовательном реляционизме Тынянова, его опоязовском отрицании телеологии, так и о готовности к той истории литературы, путь к которой намечался Эйхенбаумом еще в «Лермонтове» (1924). Имеется в виду история влияний, бытовой фактологии, рецепции, иными словами, актуализация телеологии в пространстве истории литературы [74]74
Об оппозиции реляционизма и финализма у Тынянова см. [Gunther, 1987, р. 61–62]. Про одновременное увлечение психологической подоплекой текста и различными следствиями его восприятия, т. е. о прогнозировании рецепции [Rosengrant, 1980, р. 388].
[Закрыть]. Аспект целеполагания предусматривает также возможность соотнесения литературы с такими конструктивными рядами, которые не имеют предпосылок становиться литературой и этой своей стороной привлекают исследователя.
Литературная личность Шкловского образует со своим прототипом корреляцию, а порой и оппозицию. Эйхенбаум, напротив, сознательно остается в тени собственной рефлексии, будучи, по мнению друга, «человеком ясной, незапутанной мысли» [75]75
Далее красноречивое добавление: «Ты без пены на губах – ты француз. А мы немножко пену подделываем, она у нас в спросе» [Панченко, 1984, с. 189].
[Закрыть]. Чувство причастности времени для него слишком тяжкий груз, чтобы пытаться с его помощью драматизировать свою историческую судьбу, сделать из себя литературу. Работа для Эйхенбаума гораздо более отделена от жизни, чем для Шкловского. Так, в 1921 г., уже присягнув формализму строгим разбором «Шинели», Эйхенбаум по поводу своего места в истории пишет пылкую, пронизанную даже не акмеистским, но символистским пафосом заметку «Миг сознания». Здесь совпадение «Я» и истории трактуется не как задача повседневного труда, а как испытание, возмездие, высшая точка страдания [76]76
«Точка зрелости и ужаса» [Эйхенбаум, 2001 (а), с. 533], когда человек осознает себя вошедшим в полосу исторической ответственности, есть момент «суда»» [Там же, с. 539]. Эта апокалиптическая риторика абсолютно противоположна деловитому смакованию исторического катаклизма у Шкловского. То, что для Эйхенбаума оказывается драматичным открытием («история – это мы все, мы сами»), Шкловский воспринимает как предпосылку своих действий. Он органично чувствует себя у руля истории и лишь сетует, что не все выходит так, как хотелось бы. Забегая перед следующей главой работы, можно привести характерный пример размышлений Шкловского о своей роли в революции: «Конечно, мне не жаль, что я целовал и ел, и видал солнце; жаль, что подходил и хотел что-то направить, а все шло по рельсам» [Шкловский, 2002, с. 142].
[Закрыть]. Работа историка для Эйхенбаума – это попытка растворить в истории свое «Я», отдать свою частность общей стихии, тогда как Шкловский претендует на управление историей, концептуализирует ее движение и при первых же признаках стабилизации процесса теряет к нему интерес. Время для него конкретно заполнено, для Эйхенбаума же оно длится(в смысле бергсоновского duree). Соответственно, Тынянов в «Литературной эволюции» воспроизводит циклическую и панхронную модель Эйхенбаума (ср. также идею непрерывности).Она находится в оппозиции дискретности,конфликтности порывистого времени, в котором живет и мыслит Шкловский, заостряющий внимание на факте в оппозиции всему, что в данный момент фактом не является.
Таким образом, можно считать, что «Литературный факт» корректирует теорию Шкловского, проговаривая ее до логического конца и тем самым трансформируя. «Эволюция» же, по-своему борясь с кризисом формализма, выносит на суд историка (Эйхенбаума) теоретическую эссенцию его деятельности. В таком контексте последнее теоретическое выступление Тынянова – декларация 1929 г., написанная в соавторстве с Якобсоном, – представляет собой ретроспективную модель формалистской критики, служит своего рода «завершением обрамления», после которой сюжет развертывания формалистской теории завершается.