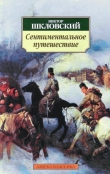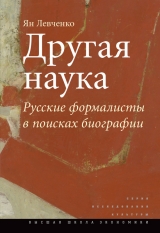
Текст книги "Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии"
Автор книги: Ян Левченко
Жанры:
Языкознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
В ряду упомянутых вариантов поэтики наиболее определенной как в плане объекта, так и в плане общих принципов его описания окажется теоретическая [34]34
Или «редукционистская» [Ханзен-Леве, 2001, с. 167–217].
[Закрыть]поэтика ранних деклараций ОПОЯЗа наподобие статей «Искусство как прием» и «Как сделана “Шинель” Гоголя». На фоне этого методологического узуса возникли и описательная поэтика статей первой половины 1920-х годов, и метапоэтика русского формализма, решающая задачу дисциплинарного самоопределения. В этом смысле интерес представляют не столько автометаописательные работы, сколько альтернативные формы рефлексии над материалом, каковыми оказываются тексты, посвященные литературному быту, опыты «беллетризации» и «окультуривания» маргиналов (от «Кюхли» Тынянова до «Матвея Комарова» Шкловского), наконец, собственно беллетристика, имеющая для формалистов не меньшее теоретическое значение, чем пре– и дескриптивные опыты рубежа 1910-1920-х годов. Одновременно можно утверждать, что претензии формалистов на синхронизацию в пределах выстраиваемой модели знания как научных (аналитических), так и творческих (синтетических) стратегий указывают на перформативный характер заявленного ими проекта «научной поэтики». Процесс работы с объектом, таким образом, предполагает осознание условности границы, отделяющей этот объект от субъекта, который его помышляет.
II. Шум философии. Интеллектуальный фон петербургского формализма
1. Нужна ли философия?Вопрос о мировоззрении в науке о литературе обычно не ставится, и в этом есть заслуга формалистов, требовавших спецификации своего предмета. Тем не менее, говорить об отсутствии соответствующего фона вряд ли приходится. Философско-идеологические предпочтения обнажают внутреннюю конфликтность фракций русского формализма. Расхождения эклектиков Виктора Жирмунского и Виктора Виноградова с более радикальными коллегами, к примеру, не помешали Михаилу Бахтину считать первого «чрезвычайно близким формализму», а второго и вовсе зачислить в его представители [Медведев, 2000, с. 246–247] [35]35
Подробности отношений, в частности, Эйхенбаума с Жирмунским см. в главе IX. В марте 1922 г. недавним друзьям пришлось окончательно объясниться, после чего Эйхенбаум упоминает в дневнике и Виноградова как представителя противоположного лагеря. 19 марта 1922 г. после нашумевшего диспута с участием формалистов в «Вольфиле» Эйхенбаум пишет: «Тынянов говорит, что готовится сборник “Анти-ОПОЯЗ”: Энгельгардт, Бернштейн, Виноградов и пр.» [Эйхенбаум, Дневник, 63].
[Закрыть]. Значительные расхождения можно наблюдать по традиционной для русской культуры оси Петербург – Москва. Петербуржцев отличали эксцентричность и нарциссизм, москвичей – подчеркнутый энциклопедизм и сознательное эпигонство [36]36
Обвинения во вторичности были обращены в обе стороны. Как правило, западноевропейский формализм последовательно снабжается предикатами истинности в противоположность внешне эффектным, но мнимым «открытиям» ОПОЯЗа (программной для ГАХН является статья [Шор, 1927]). Демонстративно неакадемичный ОПОЯЗ в долгу не остается: «На наши работы не ссылаются, хотя таскают у нас термины и все» (Тынянов – Шкловскому. 22.03.1927 г. [Тынянов, 1977, с. 515]).
[Закрыть]. Именно с академизмом последних связано внимание к философской и эстетической проблематике. Особенно здесь обращает на себя внимание деятельность Густава Шпета в кругу МЛК и ГАХН [37]37
Подробный обзор см. [Тиханов, 2008]. Ср. в связи с этим: «Вооружившись тяжелой артиллерией гуссерлианской феноменологии, свободомыслящие московские лингвисты начали борьбу с генетическими пережитками даже с большим пылом, чем их петербургские коллеги» [Эрлих, 1996, с. 61].
[Закрыть]. Петербуржцы пренебрегали ссылками на источники (в первую очередь идейные), предпочитая обнажать не генезис, но приемы письма, как чужого, так и своего собственного. Основной источник сведений о философии ОПОЯЗа и материал для соответствующих трактовок – работы Якобсона, игравшего роль посредника между сообществами. Экспансивность его концепций, рано осознанная междисциплинарная установка и эксплицитный выход на философскую проблематику в «евразийский» период создают благодатную почву для изучения [38]38
Якобсон был одинаково деятельным в обеих столицах, послуживших ему тренировочным плацдармом для дальнейшего завоевания мировой славистики. Статус Якобсона, обусловленный масштабами его деятельности и разнообразием привлекаемых им интеллектуальных ресурсов, санкционировал глубокое бурение философского грунта, в котором укоренялись и развивались его научные концепции. Следует отметить, что для молодого Якобсона-будетлянина стимулом научных занятий стала философская дихотомия части и целого. «Именно в поэтике жизненные соотношения между целым и частями бросались в глаза и побуждали продумать и проверить учение Эдмунда Гуссерля (1859–1936), а также психологов-гештальтистов в применении к этому основоположному циклу вопросов» [Якобсон, Поморска, 1982, с. 10]. Затем, уже дистанцировавшись от реальной России, Якобсон выбирает в качестве фундирующей русскую идеологическую традицию. Претензия на целостный диахронический анализ языков и культур «логично» сменяет первичный имманентизм. Сформировавшийся таким образом «исследовательский подход является структурным,т. е. одновременно целостным, диалектичными склонным подчеркивать динамичностьявления, <.. > он историченв смысле номогенезаи телеологии,а также тяготеет к реализму, отвергая редукционизм и позитивизм. Он также обращает неустанное внимание на универсальный, интерсубъективный, бессознательныйи в особенности эстетическийаспекты» ([Holenstein, 1987, с. 16]; курсив мой. – Я.Л.).
[Закрыть]. Союз Тынянова, Шкловского и Эйхенбаума не комментировал свои философские импликации, будучи занят «расчисткой» внутреннего исследовательского поля. Декларативный отказ от философских спекуляций и апология позитивного знания служили доктринерскими приемами, но не отменяли своего философского фона, о котором и пойдет речь.
Формализм направляет рефлексивную энергию на себя, чтобы осознать логику своего развития и вписаться в синхронный исторический контекст. Деятели ОПОЯЗа не обращались к своей генеалогии, считая себя агентами исторического процесса, а не наследниками академической учености. Все, что касается сферы генезиса явлений, ассоциировалась у них с работой семинария Венгерова, со статической фактографией, воспитывающей необходимый энциклопедизм, но требующей преодоления. В качестве альтернативы механическому перечислению фактов в русской журнальной традиции существовала эссеистика, касавшаяся философии в обыденном смысле слова, т. е. набора общих мест, якобы суммирующих житейские наблюдения (от Белинского до Александра Горнфельда). Формалисты были явно против такого значения, поскольку декларировали отказ от обыденного словоупотребления. Своего они, впрочем, тоже не предлагали в силу, опять-таки, самоидентификации с наукой. Однако в теоретической ипостаси формалистский проект был не чем иным, как прикладной философией, по мере надобности вводящей в научный оборот элементы абстрактного знания.
На этом пути возникало немало путаницы с понятиями. Пытаясь в середине 1920-х годов противостоять идеологически ангажированной критике, Эйхенбаум говорил, что спецификация литературы, шедшая по пути со– и противопоставления творческой практике, сообщала формалистам «новый пафос научного позитивизма» [Эйхенбаум, 1987, с. 379]. Близость этого слова к термину «позитивизм» примерно такая же, как в упомянутой омонимии в понимании «философии» [39]39
Декларируемое «раскрепощение поэтического слова от оков философских и религиозных тенденций» [Эйхенбаум, 1987, с. 379] достаточно двусмысленно, ведь речь идет не о любой философии, лишь о той, которая чревата хорошо знакомым «мракобесием». Аналогичный пример находим в дневниковой записи Эйхенбаума от 22 июня 1922 г. по поводу «старорежимного» доклада А.А. Смирнова в ГИИИ. «Очень важно отвести философский дилетантизм. <…> Мировоззрение здесь ни при чем. Оно нужно для ученого, но не для науки» [Эйхенбаум, Дневник, 244, 73]. Эйхенбаум, конечно, может иметь в виду философию как показатель дилетантизма, но речь, скорее, идет об отсутствии актуальной философской культуры.
[Закрыть]. Эйхенбаум апеллирует разве что к исторической этимологии позитивизма, предложенного Огюстом Контом в проекте «положительной философии», где критериями научности являются ясность и конструктивность знания, а также его методологическая организованность. Если говорить о позитивизме как о течении, то его концепция сходится с формализмом в примате «как» над «что». Гораздо более близким формализму философским течением в концептуальном отношении была феноменология, выдвинувшая лозунг «назад к вещам» и призвавшая вернуть сознанию актуальный опыт добиться концентрации на восприятии «силуэтов» вещей [40]40
Формализм перекликается с феноменологией именно своей актуальной, в частности для Шкловского, перцептивной составляющей. Для Гуссерля возвращение к реальности означает рефлексию по поводу своего восприятия реальности. Сквозь поток силуэтов (Abschattungen) вещь прорисовывается с необходимой неадекватностью и не может быть дана в своей абсолютной ипостаси. Поток силуэтов фундируется в восприятии, которое, напротив, и есть абсолютное свидетельство бытия. Таково отправное положение «Идей к чистой феноменологии и феноменологической философии» (1901).
[Закрыть]. Эдмунд Гуссерль был не менее близок формалистам, чем Фердинанд де Соссюр в изложении его учеников [Steiner, 1984, р. 254–259]. Разумеется, феноменология была для формалистов не партнером по диалогу, но фундирующей парадигмой. Вдобавок в отличие от феноменологии с ее вниманием к «переживанию» ранний формализм тяготел к «ощущению», разыгрывая радикальную редукцию интеллекта и тяготея к сенсуализму Дэвида Юма [Ханзен-Леве, 2001, с. 208]. Тем не менее, имеет место общая стратегия избавления вещи от навязанного ей смысла (ср. интерес формалистов к зауми), своего рода терапевтическая очистка сознанияу феноменологов и словесностиу формалистов. Предложенная Шкловским, Якубинским и Якобсоном оппозиция между автоматизированным языком обыденности и затрудненным, автореферентным языком поэзии сближается с феноменологическим противопоставлением легкой, текучей повседневности и сложной, спотыкающейся рефлексии. Что касается самого термина «(де)автоматизация», то в одной из недавних работ [Smoliarova, 2006] предложена его генеалогия от rhomme-automate в теории театра Дени Дидро. Концепция остранения с ее традиционной близостью, почти синхронной по возникновению идее «очуждения» (Verfremdung) Бертольда Брехта, восходит в изложении Шкловского через Толстого («Холстомера») к литературе французского Просвещения и далее – к запискам Марка Аврелия, призывавшего «стереть восприятие» и очистить выражение [Гинзбург, 2006, с. 12, 22–23].
Сама «установка на выражение», ставшая крылатой дефиницией поэтического языка после «Новейшей русской поэзии» Якобсона (1921), отсылает к понятию «выражения» (Ausdruck) у Гуссерля, видевшего в нем процесс, спровоцированный восприятием [Steiner, 1984, р. 185]. Не менее отчетлива и связь «выразительной» концепции формалистов с идеями немецких романтиков, прочитанных в коде Гегеля. Романтики считали поэзию первоначальной формой языка (Новалис), а очищение восприятия, освобождение от обыденности – целью романтической иронии (Фридрих Шлегель). Множество разрозненных конвергенций не обязательно свидетельство их бесполезности; такое положение вполне согласуется с прагматической установкой формалистов на усвоение полезного (применимого) и спецификации в литературном поле. Показательна характеристика, данная позднейшим комментатором Якобсону в связи с его философскими преференциями: «он был практическим ученым, и философские теории использовались им только как удобные путеводители, чье влияние необходимо как уточнить теоретически, так и обуздать эмпирически» [Holenstein, 1987, р. 25]. Любые философские построения могли привлекаться к «делу литературы» убедительно и даже не обязательно противоречиво [41]41
В этом смысле объяснимым кажется эффект, замеченный рецензентом русского издания монографии Ханзен-Леве: «Количество отсылок в книге неисчислимо, и книга, en passant, становится воображаемой энциклопедией, в которой Аристотель, Платон и Сократ трутся плечами с Гуссерлем, Лукачем и Маркузе, а Потебню, Веселовского и Белого мы найдем наряду с Ларионовым, Бурлюком и Пикассо. Эта тенденция в книге несколько преувеличена, и временами особым подтекстом всего исследования кажется мысль, что формализм был синтезом всего человеческого знания» [Andrew, 2006, р. 518].
[Закрыть].
Идея движения пронизывает работу формалистской теории на разных уровнях. Это понятие приобретало ключевое значение на разных этапах бытования школы вплоть до отложения в «неуловимую» теорию младоформалистов [42]42
Следует оговориться, что имевшая хождение формула раннего формализма, выведенная из неосторожно брошенной Шкловским «суммы приемов», не выдерживает критики. Возможность фиксации того или иного приема в литературном тексте обусловлена, во-первых, гетерогенностью его структуры, а во-вторых, иерархичностью последней, т. е. неравным положением ее элементов. Таким образом, восприятие заключается в неустанном переключении кода в пространстве между нормой и нарушением. Только так и можно «пережить деланье вещи» [Шкловский, 1929, с. 13], отдаться чистому процессу наблюдения за образами, которые суть Dingen an undfur Sich:«от столетия к столетию, из края в край, от поэта к поэту текут они, не изменяясь» [Там же, с. 8]. Это не синхронная, но исторически обусловленная комбинаторика готовых элементов, что и дает возможность сопоставительной поэтики. Именно ей посвящены первые декларативные статьи Шкловского, не отменяющие динамику, а нанизывающие контексты перцептивного переключения и демонстрирующие историческую и географическую универсальность вводимых понятий.
[Закрыть]. Для авторов «Сборников по теории поэтического языка» конца 1910-х годов была важна категория сдвига.Под сдвигом понимается однократное движение, изменяющее перцептивный статус вещи. Оно сопровождается усилием, с помощью которого субъект возвращает себе чувство жизни. Об этом Шкловский говорит в «Воскрешении слова» и развивает свою мысль в статье «Искусство как прием», когда критикует закон экономии творческих сил у Герберта Спенсера [43]43
Впрочем, Питер Стайнер считает, что теория восприятия Шкловского, основанная на процедуре дизъюнкции (прием/материал, остранение/ автоматизация, поэтический/практический язык), не только критикует Спенсера, но и наследует ему. Шкловский приписывает принцип экономии практическому языку и выводит принцип затрудненной формы в качестве оппозиционного члена [Steiner, 1984, р. 49].
[Закрыть]. В знаменитой дефиниции понятия «остранение» сказано, что трудная форма увеличивает «долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелей и должен быть продлен» [Шкловский, 1929, с. 13]. Ощутимость может только вернуться вследствие остранения. Эта в чем-то апофатическая модель, исключающая позитивное определение, сближает остранение (инструмент «воскрешения слова» и возвращения ощутимости) с понятием кенозиса – жертвенного самоуничижения Христа, принявшего грехи в облике человека и воскресшего в слове [Bogdanov, 2005, р. 50–51].
«Расшевеливание» затвердевшей формы наследует, с одной стороны, идее фактуры у футуристов [44]44
Понятие сдвига означает перегруппировку (но не приращение) единиц плана выражения с целью расширения плана содержания в сознании реципиента [Ханзен-Леве, 2001, с. 83–85]. Формализм трактует сдвиг как эффект искусства в целом. Ср. известный плеоназм: «Кривая дорога, дорога, на которой нога чувствует камни, дорога, возвращающаяся назад, – дорога искусства» [Шкловский, 1929, с. 24].
[Закрыть], а с другой – восходит к этнопсихологии Вильгельма Вундта, у которого Шкловский и Евгений Поливанов позаимствовали понятие «звукового жеста» [Ханзен-Леве, 2001, с. 103]. Поэзия – инвариант трудной для восприятия речи, самый рельефный пример деавтоматизации языка. Сравнивая поэзию с различными формами ритмичного повторения звуков, Лев Якубинский дает отсылку к наблюдениям Уильяма Джеймса, согласно которым мерный повтор одного и того же слова дает эффект «обнаженной ощутимости» его фонетической стороны [Эрлих, 1996, с. 317].
В работах о сюжете Шкловский проецирует ритмичное реверсивное движение от нормы к нарушению в диахронию и трактует с его помощью смену форм («Розанов», 1921). Одновременно эти идеи подробно разрабатываются в трудах Тынянова. Сначала как трактовка комедии в качестве пародии на трагедию и vice versa («Достоевский и Гоголь», 1923), затем в виде модели литературной эволюции (качание структур в диахронии, созвучное построениям Генриха Вельфлина) [45]45
В «Основных понятиях истории искусств» (1915) Вельфлин постулирует повторяющийся сдвиг от ренессанса к барокко. Если Тынянов сближается с Вельфлином в описании механизмов эволюции, т. е. чисто типологически, то Шкловский эксплицитно использует отсылающую к Вельфлину трактовку барокко на рубеже 1920-1930-х годов, когда говорит об истории своего поколения [Галушкин, 1993, с. 25]. Это не доказывает его знакомства с работами немецкого теоретика, но согласуется с проводимой Бахтиным параллелью между формализмом и «историей искусства без имен» [Медведев, 2000 (b), с. 221].
[Закрыть]. Движение у Тынянова приобретает системный характер, обозначая одновременную соотнесенность эволюционирующего факта с различными рядами значений, которые тоже непрерывно эволюционируют [Тынянов, 1977, с. 272]. Наконец, в трудах Эйхенбаума, хорошо знакомого с идеями венской школы [Там же, с. 527] и живо полемизирующего с ними [Дмитриева, 2009, с. 104–105], динамика истории составляет важнейшую онтологическую категорию метаязыка (критические биографии Толстого, Лермонтова 1922 и 1924 г.), в значительной степени определяя направление исторической самоидентификации и методологических поисков самого Эйхенбаума. Дискретность впечатлений соответствует континуальному характеру реальности, которую они выражают, тогда как беспрестанная смена влияний в литературе отлагается в истории, в тексте, специализирующем время. История репродуцирует и структурирует время, придает ему событийную конкретность: в обоих случаях работает механизм памяти, фиксирующий и возвращающий впечатления.
Представление о движении обнаруживает связь формализма с витализмом. Это идеалистическое течение, имеющее платонические корни, объясняло феномен жизни в терминах «энергии» (ср. схожую терминологию Вильгельма фон Гумбольда в лингвистике). Биологическая ветвь витализма (Ханс Дриш, Эдуард фон Хартманн) была направлена против дарвинизма в теоретической биологии, а философская (Георг Зиммель, Анри Бергсон) – против позитивизма [46]46
Пытаясь найти альтернативу метафизике, витализм, или философия жизни, также провозглашал возврат к реальности, однако, в отличие от феноменологии, апеллировала не к «строгой науке», а к творческому воображению. В России труды этого направления переводились достаточно активно: работа Георга Зиммеля «Проблемы философии истории», обозначившая его отказ от исторического позитивизма, была переведена еще в 1896 г.; на протяжении 1900-х годов появляются переводы Эриха фон Хартманна, Вильгельма Дильтея, Вильгельма Воррингера, с разных сторон разрабатывавших проблематику витализма. Оперативно переводятся и основные тексты Анри Бергсона, причем в 1913–1914 гг. выходит собрание сочинений в пяти томах. Вольная и весьма популярная форма изложения способствовала широкому распространению идей Бергсона, в том числе касающихся природы эстетических переживаний.
[Закрыть]. Корреляциям между идеями формальной школы и философией жизни посвящена отдельная работа [Curtis, 1976], регулярно можно встретить соответствующие упоминания и в основных «историях» направления, в сравнительно недавнем обстоятельном исследовании [Светликова, 2005] витализм упоминается в связи с психологическими ассоциациями формалистской теории, восходящей в итоге к научной психологии Иоганна Фридриха Гербарта (именно его понятийная система вдохновила «темный» язык Тынянова в его новаторских работах о стихе).
Бергсон напрямую повлиял на теорию автоматизации и идею восстановления непосредственности [Curtis, 1976, р. 109–121; Pomorska, 1968, р. 56; Ханзен-Леве, 2001, с. 213; Ямпольский, 1988, с. 109]. В частности, в книге «Литература и кинематограф» Шкловский размышляет о прерывности и непрерывности в механизме восприятия и ссылается на проделанный Бергсоном анализ парадоксов Зенона. В трактате Бергсона «Творческая эволюция» (1907) несовместимость делимого и неделимого движения является основным пунктом опровержения парадоксов стрелы (неподвижность в полете) и Ахилла (невозможность догнать черепаху). Рассуждая о возможности зафиксировать динамику жизни, Бергсон приводит аналогию с кино, что позволяет подойти к природе перцепции. Описывая механизмы восприятия и познания, философ обращается к эвристической модели кинематографа: «Вместо того чтобы рассматривать внутренний процесс вещей, мы помещаемся вне их и искусственно составляем этот процесс. <…> Когда дело идет о том, чтобы мыслить процессы становления или выражать их в словах, или хотя бы воспринимать их, мы просто заставляем действовать известного рода внутренний кинематограф» [Бергсон, 1999 (b), с. 339].
Шкловский некритически принимает и абсолютизирует технологическую природу кинематографа. По его мнению, последний иллюстрирует парадокс Зенона именно потому, что «не движется, а как бы движется. Чистое движение, движение как таковое никогда не будет воспроизведено кинематографом. Кинематограф может иметь дело только с движением-знаком, движением смысловым. Не просто движение, а движение-поступок – вот сфера кино» [Шкловский, 1923 (b), с. 25]. В 1919 г., когда Шкловский писал эти строки для газеты «Искусство коммуны», природа кинематографа была воспринята им негативно, так как вступила в противоречие с его жизнетворческим пониманием искусства. Для описания представлений Шкловского удобно прибегнуть к анахронизму, констатировав, что искусство было для него не вторичной,но первичной моделирующей системой.Искусство освобождает мышление, являющееся, по сути, моделью искусства. «Человеческое движение – величина непрерывная, человеческое мышление представляет собой непрерывность в виде ряда толчков, ряда отрезков бесконечно малых, малых до непрерывности. Мир искусства, мир непрерывности, мир непрерывного слова, стих не может быть разбит на ударения, он не имеет ударяемых точек, он имеет место переломов силовых линий. Традиционная теория стиха, насилие прерывности над непрерывностью. Мир непрерывный – мир видения. Мир прерывный – мир узнавания» [Шкловский, 1923 (b), с. 24] [47]47
Опорный тезис другого трактата Бергсона – «Материя и память» (1896) – гласит: «Всякое движение, поскольку оно есть переход от покоя к покою, абсолютно неделимо» [Бергсон, 1999 (а), с. 603]. При этом, если оно реально, т. е. не зависит от случайных связей между вещами, его можно считать неким константным состоянием материи, а не изменением положения вещей относительно друг друга [Там же, с. 619]. Реальность – это не то, что ощущается, а то, что длится, вмещая в себя частные ощущения.
[Закрыть]. Формалистская феноменология полагает дифференциальными признаками искусства динамику и непрерывность. При этом искусство отождествляется с механизмом мышления; и то, и другое понимается исключительно как реализация принципа остранения и обновления. Как отмечается в позднейшем исследовании, «в такой перспективе смысловое кинодвижение, основываясь не на видении, а на узнавании, превращает кино в знаковую систему, но одновременно выводит кинематограф за пределы искусства» [Ямпольский, 1988, с. 110]. Знак имеет чисто орудийный, практический смысл, будучи дискретной единицей коммуникации в континуальном мире.
Джей Кертис констатирует, что работы «Искусство как прием» и «Тристрам Шенди Стерна и теория романа» обнаруживают прямые переклички с Бергсоном [48]48
Ориентация на эстетику Бергсона в статье «Искусство как прием» отмечалась и синхронной критикой [Жирмунский, 1928 (b), с. 338]. См. также [Thompson, 1971, р. 66; Perisic, 1976, р. 28].
[Закрыть]. Центральное для раннего формализма понятие остранения понимается здесь как универсальная для искусства процедура затруднения и задержки привычного восприятия. Выводя эффект образа из эффекта остранения, Шкловский «истолковывает в качестве фундаментального принципа – фактически, определения – искусства представление Бергсона о том, что комедия борется с негибкостью восприятия в социальной повседневности» [Curtis, 1976, р. 115]. В эстетическом трактате «Смех» (1900) Бергсон формулирует концепцию, позднее повторенную формалистами. «Мы не видим самих предметов; чаще всего мы ограничиваемся тем, что читаем приклеенные к ним ярлыки» [Бергсон, 1999 (б), с. 1376]. Художники же призваны «устранять практически полезные символы, общепринятые, условные общие положения, одним словом, все, что скрывает от нас действительность, чтобы поставить нас с действительностью лицом к лицу». Понятие автоматизации, съедающей «вещи, платье, мебель, жену и страх войны», а также оппозиция «автоматизирующей» прозы и «заторможенного» стиха [Шкловский, 1929, с. 13, 23, 22] образуют целый пласт Бергсона в концепции Шкловского. Имеет соответствующий след и противопоставление видения и узнавания, являющееся фундаментом теории остранения.
В оксфордских лекциях 1911 г. («Восприятие изменчивости») Бергсон продолжает размышления о художнике, начатые в «Смехе»: «Почему, будучи более оторван от действительности, он умеет видеть в ней более вещей, чем обыкновенный человек? Этого нельзя было бы понять, если бы то видение, которое мы обычно имеем о внешних предметах и о нас самих, не было бы видением суженным и опустошенным: к этому нас приводит наша привязанность к действительности, наша потребность жить и действовать» [Бергсон, 1999 (d), с. 934]. Различение практического и художнического видениялюбопытным образом соотносятся с двумя видами узнавания,которые выделяются в более раннем трактате «Материя и память» (1896). Бергсон анализирует здесь природу узнавания (идентификации с прошлым) и приходит к выводу, что работу сознания нельзя ограничить только этой операцией. Человек постоянно пересекает воображаемый порог автоматизма, в темпоральном измерении равный превращению будущего в прошлое. Зафиксированный в памяти образ прошлого постоянно меняется под воздействием «актуальных движений», которые совершает индивид в настоящем. В терминах Бергсона «разыгрываемое» состояние памяти в настоящем является инновацией по отношению к «мечтаемому» содержанию памяти, т. е. совокупности имеющихся у индивида представлений [Бергсон, 1999 (а), с. 582]. То, что предшествует порогу автоматизма, трактуется Бергсоном как данные памяти, а то, что находится за ним, – как результат действия воли, осознание которой и входит в задачу рефлексии. Будучи осознанным, всякое движение воли есть творчество, о чем Бергсон размышляет в «Творческой эволюции» (1907). Сознание, являющееся «пружиной», стимулом развития интеллекта, «представляет потребность в творчестве, но оно проявляется только там, где творчество возможно. Оно засыпает, когда жизнь обречена на автоматизм, но оно немедленно просыпается, когда является возможность выбора» [Бергсон, 1999 (с), с. 288]. То есть человек как субъект творчества, способный к осознанию последнего, постоянно творит свое будущее, в чем ему и помогает искусство – способ иного, непрактического видения. Бергсон считает понятие творчества релевантным не только для художественной, но и для психологической реальности, в результате чего возникает своеобразный креативный универсум, обитатель которого занят постоянным поиском решений. Но попытка зафиксировать порог автоматизации в «практической» жизни обречена на провал; здесь важен сам процесс, а не его фиксация.
У Бергсона два типа узнавания в «Материи и памяти» соответствует двум типам видения в оксфордских лекциях. У Шкловского же остается противопоставление чистого узнавания и чистого видения, что связано с принципиально немиметическим пониманием искусства [49]49
Миметическая сторона языка, впрочем, не игнорировалась, но как бы подавлялась в целях очищения теоретической модели, демонстрирующей возможность конструирования полноценной реальности из «самовитого» слова. Это усложняет интерпретацию формализма как редукционистской модели, поскольку обнаруживает омонимичность понятия редукции: с одной стороны, это приведение одного к другому, с другой – сворачивание, компрессия, конденсация того или иного теоретического принципа, чья заостренная форма позволяет очертить границы применимости метода. Поэтому миметический аспект был и оставался своего рода чувствительным нервом формализма, рассуждавшего о «самовитом слове» с привлечением примеров из повседневного перцептивного опыта (Шкловский, Якубинский) или из фольклорных, т. е. по определению прагматических текстов (Якобсон). Подражание, аналогия, ассимиляция – все эти понятия были в высшей степени актуальны для формалистов и образовывали неоднородное, но единое концептуальное поле, требующее отдельного изучения (о приложении концепции мимесиса к формальной школе см. [Pujante Sanchez, 1992, р. 78]).
[Закрыть]. «Новое» искусство невозможно «узнать», поскольку оно не вызывает в памяти привычные образы. Более того, и так называемое традиционное искусство построено, по Шкловскому, на противостоянии привычному. Говоря словами Тынянова, в этом состоит исповедуемый формализмом «империализм конструктивного принципа». Поэтому видение – это то, что возникает в сознании вопреки узнаванию, или благодаря творчеству. Вне восприятия, которое у Шкловского синонимично рефлексии, искусства не существует. В одной из метатеоретических работ об ОПОЯЗе Эйхенбаум так характеризовал теорию Шкловского: «Ясно, что восприятие фигурирует не как простое психологическое понятие (восприятие, свойственное тому или другому человеку), а как элемент самого искусства, вне восприятия не существующего. Понятие “формы” явилось в новом значении не как оболочка, а как полнота, как нечто конкретно-динамическое, содержательное само по себе, вне всяких соотносительностей» [Эйхенбаум, 1987, с. 384–385].
В таком изложении теория восприятия, разработанная в раннем формализме, выглядит достаточно завершенной и последовательной, поскольку предмет рефлексии ограничен сферой искусства, а не распылен в «спекулятивной» зоне между искусством и жизнью. Парадокс Шкловского состоит в том, что, с одной стороны, практический, автоматизированный мир не имеет никакого смысла, с другой – только в соотнесении с ним и возможно искусство, которое не существует само по себе, а противостоит автоматизации. Если Бергсон говорил о длительности как об универсальном свойстве материи и мышления, то Шкловский постулировал длительность свойством искусства, однако именно с помощью последнего намеревался преобразовать жизнь, вернуть ей реальную длительности, сделать ощутимым процесс ее течения. В 1920 г. в газете «Жизнь искусства» он писал: «В жизни мы летим через мир, как герои Жюль Верна летели с Земли на Луну в закрытом ядре. Но в нашем ядре нет окон. Вся работа художника-поэта и художника-живописца сводится, в первую голову, к тому, чтобы создать непрерывную, каждым своим местом ощутимую вещь» [Шкловский, 1990, с. 99] [50]50
Метафора ядра, лишенного окон, порождает ассоциации с монадой Готфрида Лейбница. Любопытно, что в своей критике Лейбница Бергсон подчеркивает вневременной характер описываемого им бытия, на что указывает отсутствие динамики, трансцендентной по отношению к монаде. «Действительность <…> предполагается целиком данной в вечности» [Бергсон, 1999 (с), с. 394]. Прорубание окон в монаде – это прокладывание пути из мнимой вечности в воспринимаемое время. Задача искусства состоит не только в деавтоматизации, но и в создании исторического измерения. Как показывает формалистская теория сюжета, это связанные вещи. Наконец, разрядка, которой Шкловский выделил местоимение «наше», заслуживает внимание не только тем, что актуализирует концепцию «возможных миров» Лейбница, но и тем, что подчеркивает плюрализм автора. Этой особенностью формалисты особенно дорожили: «Русская интеллигенция, а вместе с ней и наука, была отравлена идеей монизма. <…> Мы плюралисты. Жизнь многообразна – к одному фактору ее не свести» [Эйхенбаум, 1921 (а), с. 9].
[Закрыть]. Тотальная ощутимость равноценна тотальной индифферентности, ибо сводит на нет различие – первое условие ощутимости.