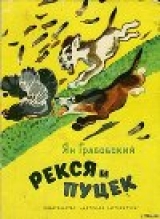
Текст книги "Рекся и Пуцек"
Автор книги: Ян Грабовский
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Чёрный петух

Ну, кто бы мог подумать, что за один день – да что я говорю, за какой-нибудь час! – весь порядок на нашем дворе полетит вверх ногами? И из-за кого, главное? Из-за обыкновенного петуха!
Да, это было для всех нас полной неожиданностью.
Однако факт остаётся фактом.
Пошёл я как-то на рынок. День был базарный. Но, честное слово, я не собирался ничего покупать. Я просто хотел поглядеть, что люди привезли на базар.
Вот хожу я вдоль прилавков: чем полюбуюсь, что потрогаю, то с тем, то с другим продавцом перекинусь словом.
И вдруг натыкаюсь на толстую даму в плоской, как блин, шляпе. Она держит под мышкой чёрного петуха. Петушище ростом с доброго индюка, а глаза у него красные, как кровь. Посмотрел он на меня очень внимательно и, сказал бы я, даже умно. Понравился мне этот взгляд. Я потрепал петуха деликатно по шее. Он – раз! – и клюнул меня в руку.
– Купите кочетка! – предлагает мне дама в блиноподобной шляпе.
Я отговариваюсь тем, что у меня дома уже есть петух, второй мне, мол, ни к чему.
Дама делает вид, что не слышит. Начинает расхваливать своего петуха на все лады. Тычет мне его прямо в глаза, дует в перья, чтобы показать, какой он жирный...
Надо признаться, умела эта тётя зубы заговаривать. Мастерица была!
Не успел я опомниться, как петух уже оказался у меня под мышкой.
Бегу я с ним домой. Бегу что есть духу, потому что покупка моя рвётся как ошалелая. Бьёт меня крыльями! Клюётся! А уж кричит, а уж кудахчет – прохожие останавливаются и оборачиваются.
Дотащил я его наконец до своей калитки и пустил во двор.
Чёрный петух взмахнул крыльями и кукарекнул. Голос у него оказался звучный – сущая труба! Он пропел ещё раз. Поскрёб ногой землю – раз, другой. И важно, не спеша двинулся по двору. Удивительно красивый, переливающийся всеми цветами радуги хвост волочился за ним по земле.
Посреди двора чёрный остановился, снова помахал крыльями, осмотрелся, коротко кукарекнул: «Вот и я!» – доведя тем самым до всеобщего сведения, что отныне начинается его правление.
Началось всё с нашего петуха Беляша. Я и ахнуть не успел, как он уже лежал распластанный на земле. Чёрный сидел на нём и учил его уму-разуму. Соскочил. Взялся за селезня. Так отколошматил беднягу, что тот едва мог пошевельнуться. Тут подвернулась Имка, кошка. Петух – к ней. Кошка – наутёк! Петух – за кошкой! Они пронеслись по двору. Имка вскочила на забор. И петух – на забор! Имка – на крышу сарая. И он – на сарай. Еле-еле успела кошка протиснуться в узенькую щель между досками. Петух заглянул в щёлку, потом сердито забормотал, как индюк.
«Помни, что я тут главный!» – и соскочил с сарая.
В мгновение ока Чапа-фокс и Тупи – большая дворняга – спрятались в конуру, и лишь изредка выглядывал оттуда чей-нибудь побелевший от ужаса глаз.

Милый петушок оглядел весь двор – он был пуст, словно кто его хорошо подмёл – и в третий раз взмахнул крыльями. В третий раз кукарекнул – и направился прямо ко мне.
«А ты кто такой?» – спросил он, исподлобья глядя на меня своими красными бусинам.
И вдруг как прыгнет мне на голову!
...Стыдно признаваться, но улепётывал я в дом не хуже, чем мой Тупи в свою конуру.
С этого дня целых две недели никто из нас не выходил во двор без старого зонтика над головой. Катерина однажды осмелилась пренебречь этой предосторожностью, и пришлось ей целый час просидеть в прачечной. А чёрный петух – мы назвали его Разбойником – расхаживал перед дверью прачечной мерными шагами взад и вперёд, как часовой.
Уйти, снять осаду – этого у него и в мыслях не было. Бедной Катерине пришлось в конце концов надеть на голову бельевую корзину. В этом шлеме она помчалась в кухню. Другого выхода не было!

Чтобы кто-нибудь чужой показался на нашем дворе, об этом и думать не приходилось. Все дела мы улаживали либо на улице, либо в саду. Ведь Разбойник, стоило ему услышать незнакомый голос, вскакивал на забор. И никогда нельзя было предвидеть, на кого и когда он кинется. Ни минуты покоя он нам не давал, Разбойник!
Я даже, по правде говоря, не очень удивлялся, что Катерина всё чаще, всё настойчивее заговаривала о бульоне с рисом. В этом бульоне, по её мнению, Разбойнику было бы самое подходящее место. Не отрицаю, мне было жалко петуха, но жить у себя дома в вечном страхе – это тоже не особенное удовольствие. Так что я уж готов был примириться с неизбежностью...
Так обстояли дела, когда пришла к нам Эдитка, дочка пана Межвы, сапожника, в чьём ведении находилась обувь обитателей нашего дома.
Я очень любил эту маленькую Эдитку. Личико у неё было круглое, как яблочко, на щеках – ямочки. Смешливые карие глаза. А весёлая она была, как щеглёнок!
Надо же, чтобы я заметил Эдитку, когда она была уже на середине двора! А там Разбойник как раз вёл на водопой куриное стадо, и бедного Беляша в том числе... Плёлся наш Беляш, бывший куриный владыка, позади всех кур, и вид у него был смиренный и запуганный.
– Эдка! Берегись петуха! – крикнул я в окно.
А сам схватил зонтик, на ходу открыл его и помчался Эдитке на выручку.
Гляжу, Разбойник, про своему обыкновению, уже взмахнул крыльями, кукарекнул и большими шагами двинулся к девочке.
Я обмер: думаю – того и гляди, выклюет ей глаз, пока я добегу.
– Эдитка, беги! – кричу.
А она, вместо того чтобы бежать, преспокойно присела на корточки. Глядит на петуха и смеётся во всё горло.

Смех у неё был звонкий-звонкий, как колокольчик, и такой заразительный, что хочешь не хочешь, а засмеёшься вместе с ней.
Смотрю, петух остановился. Поглядел на неё одним кровавым глазом, потом другим. И как закричит:
«Кукареку!»
Но в этом крике не было угрозы, скорее – удивление. Потом Разбойник закудахтал глухо, словно кто пустую бочку по мосту покатил, и снова приглядывается к девочке. А Эдитка накрошила немного хлеба – в руках у неё была краюшка – и протягивает ладошку к петуху. Разбойник покосился на неё, поглядел на её протянутую руку и склюнул крошку с ладони. Одну, вторую, третью...
Вид у меня был, должно быть, довольно глупый, потому что Эдитка, взглянув на меня, расхохоталась.
– Я никаких зверей и птиц не боюсь, – говорит. – Бояться – это хуже всего. А если не боишься, самый дикий зверь не тронет! Пойди-ка сюда, Разбойник, я тебе ещё хлебца дам, – обращается она к петуху, который тем временем уже отошёл к своим курам.
И что вы скажете?
Разбойник не только послушался Эдитки, но и позволил ей погладить себя по перьям.
Я сбегал домой, захватил там горсть крупы. Присаживаюсь на корточки возле Эдитки и протягиваю руку Разбойнику. Пришлось подождать, пока он наконец смилостивился и поклевал крупы. Но зато с этой минуты у меня с ним установились приличные отношения. Удалось даже помирить с Разбойником Катерину. Отныне, само собой разумеется, в нашем доме прекратились разговоры о курином бульоне с рисом.

Не думайте, однако, что Разбойник полюбил нас. Увы! Он просто позволял нам жить, терпел нас, но и только. Во дворе по-прежнему хозяйничал как хотел. Чужих не подпускал ни на шаг. Для одной только Эдки делал исключение.
Её он любил и ждал. Иногда вечерами он бывал уже таким сонным, что качался взад и вперёд, тыкался носом в землю. Но стоило ему услышать звонкий смех «Щеглёнка», он кукарекал хриплым спросонья голосом и бежал во всю прыть к калитке или даже на улицу, чтобы поскорее увидеть свою приятельницу. Я думаю, что он любил и уважал её за смелость. Разбойник, что о нём ни говори, был петух рыцарского нрава и умел ценить мужество.
Вы, наверно, догадались, что в конце концов я преподнёс Разбойника Эдитке. Как он вёл себя на новом месте, не знаю. Знаю только, что он время от времени удостаивал нас своими посещениями, видимо решив не оставлять нас совсем без присмотра.
Он всегда появлялся неожиданно. Кукарекал и начинал наводить порядок. Продолжалось это до тех пор, пока не приходила за ним Эдитка. Тут он сразу затихал и покорялся. Маленькая Эдитка делала с Разбойником всё, что хотела.

Да кто, впрочем, мог бы не подчиниться девочке, у которой было такое мужественное сердце! Девочке, встречавшей опасность смехом, звонким, как серебряный колокольчик...
Друзья

Знаете, бывают щенята, которые точь-в-точь похожи на клубок белой шерсти. До того пушистые, что трудно сказать, где у такого щенка хвост, а где голова. И только по трём чёрным пятнышкам – глазкам и носику – можно узнать, где собачка начинается.
Вот и мой Тупи был таким смешным шерстяным клубочком. Приобрёл я его в качестве чистокровного шпица. Был он милый, ласковый, славный пёсик и рос очень быстро, как на дрожжах.
Но чем больше он рос, тем хуже обстояло дело с его породой. Признаюсь прямо, даже совсем худо! Немало находилось таких людей, которые при виде моего Тупи выразительно крутили носом. Иные были так неделикатны, что прямо в глаза ему говорили, что он, Тупи, не что иное, как дворняжка. Самая обыкновенная дворняга! Надо вам сказать, что, к счастью, Тупи мало обращал внимания на такие невежливые выходки. Да и мы тоже. Разве о достоинствах человека судят по тому, что у него, скажем, два родимых пятнышка на носу или курчавые волосы?
Подумаешь, важное дело – порода! Мы знали, что Тупи пёс благородный по натуре, что он нас любит, и этого нам было вполне достаточно.

Когда Тупи стал красивой, рослой собакой, в нём проснулась жилка зверолова. Он начал ходить на охоту. Охотился он на диких кроликов. Несчётное множество этих вредных грызунов развелось в оврагах возле Вислы. Тупи промышлял их всегда в одиночку. Никогда не приглашал с собой на ловлю никого из наших псов.
Вот иду я как-то днём глубоким яром, спускающимся к Висле. Гляжу – на краю обрыва мелькает что-то очень похожее на хвост Тупи. Я свистнул. Тупи тявкнул: дескать, слышу. Ко мне, однако, не идёт. Вертится колесом на одном месте и опять тявкает. Явно, что-то его там держит.
Наконец я разглядел, что Тупи мой недаром так забавно вертится. Он всё время бегает вокруг кого-то, кто потихоньку спускается по скату. Жду. И вдруг вижу – это рыжая такса.
Таксе, как я мог догадываться, не так уж хотелось со мной знакомиться. Но Тупи делал всё, чтобы её уговорить: он что-то нашёптывал ей на ухо – видимо, страшно меня расхваливал. Хорошо, что я не слышал этих похвал, а то мне, наверное, пришлось бы краснеть.
Наконец собаки спустились вниз. Тупи скачет, тявкает, бегает вокруг таксика, а тот стал ко мне боком и косится.
«Тупи мне, правда, много хорошего о тебе рассказывал, – говорит, – но кто знает, можно ли тебе вполне доверять?»

Сказал я и таксику несколько добрых слов. Он не очень возражал, когда я попробовал его погладить. Тупи был счастлив, полизал мне руку.
«Очень был бы рад, если бы вы подружились, – говорит мне. – Это мой самый большой друг!»
Ну, мало-помалу и мы с таксиком стали друзьями. Я назвал его Дудеком.
Долго я ломал голову над тем, откуда бы он мог взяться. Я знал всех такс в нашем городишке и даже в округе и был уверен, что Дудека я до сих пор ни разу не встречал.
А пёс был слишком выхоленный, чтобы можно было его принять за бездомного бродягу. Позднее мне пришлось убедиться, что друг-приятель моего Тупи был даже порядочно избалован. Наша собачья кухня, например, ему была не по вкусу. Он с презрением отворачивался от собачьих лакомств, которыми от души потчевал своего гостя Тупи.
Вот в один прекрасный день приехала к нам знакомая, проживавшая в нескольких километрах от нашего города, и столкнулась с Дудеком, он как раз соизволил посетить Тупи.
– Джимми! Что ты тут делаешь? – вскрикнула она.
Таксик повернулся к ней бочком и покосился довольно неуверенно. Видно, такая у него была манера держаться в тех случаях, когда он считал за благо выждать, что будет дальше. Тупи был менее сдержан: он подлетел к хозяйке таксы и приласкался к ней, как к лучшему другу.
Тут только и узнал я, что мой Тупи ходит в гости в Грубно и что такса делится с ним своими котлетками, а хозяйка таксы так полюбила моего Тупи, что хотела его оставить у себя. А самое забавное – моего Тупи, который, как известно, был неудавшимся шпицем, она признала за сибирскую лайку и назвала его Морозом! Тупи то и другое принял с поразительным спокойствием и даже умильно вилял хвостом, когда его называли совершенно чужим именем.
С тех пор мы оба – как я, так и хозяйка таксы – не волновались, когда наши собаки пропадали. Мы были уверены: беглец либо в гостях у друга, либо на охоте.
Так продолжалось всё лето. Когда начались осенние заморозки, Джимми, очевидно, решил, что погода не особенно подходит для дальних прогулок пешком. Однако он не хотел расставаться с Тупи и поэтому стал ездить к нему в гости. Да, ездить.
Таксик знал о том, что огородник из Грубно ежедневно привозит в наш городок на рынок овощи. С ним-то он и приезжал. Забирался к нему в телегу и прикатывал прямёхонько в город. Тут на дворе поднималось великое веселье!

Иногда Тупи уводил таксу на большую свалку за казармами, где происходили оживлённые собрания лучшего собачьего общества. И там только Джимми показывал, на что он способен. Лаял он так пронзительно, что даже Лорда-добермана, чей голос славился во всём городе, – и того не было слышно!
Но порой в разгаре самого буйного веселья, таксик внезапно умолкал и пускался галопом в сторону рынка. Он бежал во весь дух, чтобы не опоздать. Умный пёс хорошо знал, когда огородник будет возвращаться домой.
Пришла весна, и вновь начался сезон охоты на кроликов. Прекратился даже обмен визитами. Целые дни обе собаки проводили возле кроличьих нор.
Я порой наблюдал за их работой и должен признать, что такса проявляла необыкновенное терпение. Только истинный друг мог быть таким снисходительным. Судите сами. Мой Тупи считал, что охотиться – значит гонять дичь. Гонять с шумом, лаем, визгом. Как только ему удавалось заметить кролика, он очертя голову кидался в погоню. И обычно дело кончалось тем, что преследуемый кролик в самый неожиданный момент прятался в нору и буквально перед носом охотника проваливался сквозь землю. Тупи страшно огорчался. Он скулил, жалобно повизгивал, но кролика уже не было...
Джимми, наоборот, подкрадывался к кроликам потихоньку. Он умел и добывать их из нор. Шум, который поднимал Тупи, только спугивал дичь, мешал таксику охотиться.
Но никогда не приходилось мне видеть, чтобы Джимми ворчал на Тупи или скалил на него зубы. Самое большее – он потихоньку удирал от приятеля, устраивался на другой стороне пригорка и там подстерегал кроликов, которых лай Тупи выгонял из нор.

Так эта ничем не омрачённая собачья дружба продолжалась два года.
Однажды Тупи отправился в охотничью экспедицию и не вернулся. Не было его целую ночь. Утром он примчался запыхавшийся, весь измазанный землёй, с ободранными до крови лапами. Он отчаянно скулил. Всем своим видом он показывал мне: что-то случилось! Что-то такое, с чем он сам справиться не может. Он прыгал вокруг меня и тащил меня к садовой калитке. Я понял, что должен идти с ним. Мы вышли на улицу. Тупи то забегал вперёд, то возвращался, лизал мне руки, торопил.
Дошли мы с ним наконец до оврага, где водилось больше всего кроликов. Тупи остановился над свежераскопанной норой. Нюхал, копал и ежесекундно тихонько повизгивал.
Нетрудно было догадаться, что произошло. Джимми залез в нору, и его завалило землёй. Тупи не смог сам откопать друга и позвал меня на помощь.
Я сбегал домой за лопатой. Копали мы довольно долго. Наконец из-под земли послышалось сдавленное хрипение. Тупи плакал от радости. Он всхлипывал, как человек...

Таксик уже еле дышал. Я отнёс его к ручейку, протекавшему по дну оврага. Обмыл его. Бедный пёсик открыл глаза, но продолжал лежать неподвижно. Встать он не мог. Я, как умел, пытался привести его в чувство. Вдруг смотрю – мой Тупи сорвался с места и понёсся куда-то.
Поглощённый спасением таксика, я не заметил, сколько прошло времени до возвращения Тупи. А вернулся он не один – с ним на дрожках приехала из Грубно хозяйка Джимми. Видно, Тупи, не доверяя моим медицинским познаниям, решил привести её, чтобы она помогла мне спасти его друга.
Таксика увезли, и с тех пор Тупи совсем переселился в Грубно. Только когда Джимми начал поправляться, Тупи вернулся домой. Выражение морды было у него такое радостное, что всякий бы понял: друг его выздоровел!
А через несколько дней друзья явились вдвоём. Таксик был совершенно здоров.
И тут произошло нечто неожиданное.
Надо сказать, что Джимми-таксик никогда не был особенно ласковым. Правда, он обычно вежливо махал мне хвостом и позволял себя погладить, но это было всё. А тут он забрался ко мне на колени и стал лизать мне щёку!
Тупи ошалел от радости. То прыгал вокруг меня, то лизал Джимми морду, то снова принимался лизать мне руку.
«Наконец-то всё плохое миновало! – говорил он. – И снова мы все вместе! Разве может быть большее счастье в собачьей жизни?»
Так скажите, ребята, сами: разве не всё равно, такой у собаки нос или сякой, если у неё такая душа, как у моего Тупи?

Муц, безногий воробей

Столовую для птиц я открывал поздней осенью. Помещалась она в стенной нише. Это было скромное заведение, с весьма неприхотливым меню: крошки, каша, иногда варёная морковь или петрушка.
Непременными гостями были там, понятно, воробьи. Между этими постоянными посетителями завелось у меня много знакомых. С некоторыми из них мы крепко дружили.
Но Муц был, несомненно, случайным гостем. Появился он впервые холодным, неприветливо-серым ноябрьским днём и за первое же своё посещение заплатил ранением. Я догадываюсь, кто его искалечил. Тот самый старый вор-воробей с выщипанным хвостом и жуликоватыми глазами, который всегда поглядывал на меня насмешливо и свысока. Он нахально хозяйничал в моей столовой. Стукал по лбу всякого, кто ему не нравился, устраивал массовые побоища, после которых в воздухе долго носились пух и перья, словно пороховой дым после битвы.
Бедный Муц был ранен в голову, одно крыло у него было надломлено, а правая нога висела только на тоненькой ниточке кожи.
Вылечить крыло было нетрудно, но нога... О том, чтобы она срослась, нечего было и мечтать. Что было делать? Пришлось отнять ему лапку, а к оставшейся культе шёлковой ниткой привязать спичку. И вот Муц стал ковылять на деревянной ноге, постукивая своим протезом, как старый инвалид.
Долгое время воробышек не мог летать. В эту пору мы с ним больше всего и подружились: я не расставался с Муцем. И он привык к моему обществу. Бывал очень недоволен, когда я уходил из дому; радовался, когда я возвращался. А болтал со мной не умолкая, ибо был завзятым говоруном, как, впрочем, и все воробьи.
Муца всё интересовало. Всякий новый предмет он тщательно изучал: осматривал его со всех сторон, остукивал клювом, размышлял, вникал. А когда осмотр кончался, становился передо мной, наклонив набок головку, уставив на меня чёрные бусинки своих глаз, и допытывался:
«Это что? Скажи, что? Что?»
Больше всего интересовал его будильник. Целыми часами вертелся Муц подле него, прислушивался к тиканью механизма, заглядывал снизу, в чашечку звонка. Маленькое зеркальце на столе было для Муца тоже загадкой. Никак он не мог понять, что воробей, которого он видит перед собой, всего только его собственное отражение. Неутомимо пытался найти «того» воробья. То чирикал как только мог умильно, стараясь уговорить его выйти из укрытия, то сердито покрикивал на него, возмущался, растопыривал крылышки для атаки и клевал зеркало. Порой он горько жаловался «тому» воробью на своё одиночество. Прислушивался, ждал ответа. Обманутый в своих ожиданиях, глядел мне в глаза и говорил: «Одно мне только и осталось, бедному калеке, – дружить с тобой, с человеком. Должен всё же сказать, что твои поступки мне не очень понятны».

И верно, Муцек никак не мог понять, почему человек спит, когда солнышко уже встало и каждый воробей просыпается и начинает трудовой день. Едва лишь светало, Муц из клетки, куда я его сажал на ночь, кричал, что пора уже вставать. Чирикал коротко, звонко – раз, два, три – и замолкал. Прислушивался. Потом повторял свой зов – всё громче, всё настойчивее. В конце концов я вставал и подходил к клетке. Муц уже ждал возле дверки. Махал крыльями ликуя. Тут же вскакивал в миску, начиналось купание. Потом он чистился и охорашивался в ожидании, когда в столовой зазвенят тарелки. Как только он слышал, что накрывают на стол, летел туда немедленно, сразу усаживался возле своего блюдечка и терпеливо ждал моего прихода. Беседуя о том о сём, мы завтракали. Муц ел всё. Обожал мясо, особенно варёное. Не терпел только горчицы, перца и всяких соусов. Вздрагивал при виде соли, которую превосходно умел отличать от сахара.
Когда смеркалось, Муц начинал беспокоиться: он не любил ламп. Никак он не мог понять, почему человек не спит, когда солнце уже зашло. Усевшись подальше от света, нетерпеливо чирикал и старался убедить меня, что от ночных занятий пользы мало. Наконец сам летел к своей клетке. Устраивался там и дремал. Но время от времени он просыпался и сонно, вполголоса выговаривал мне: «Ещё не спишь? Пора спать! Спи!»

Так прошла у нас зима. Когда запахло весной, Муц оживился: он чистился, охорашивался, что-то напевал. Начал собирать нитки, лоскутки, тряпочки. Складывал все эти сокровища в своей клетке, всё время что-то приговаривая. Я понял, что мой Муц – не «он», а «она», и что она мечтает о собственном гнезде, о семье.
Как-то мартовским днём Муц, никому ничего не доложив, вылетела через открытую форточку на волю. Легко было догадаться зачем. На липе, что росла в углу садика, уже начались оживлённые воробьиные совещания, игрались свадьбы, заканчивалось распределение квартир для молодожёнов. Я побаивался, не помешает ли счастью Муц её увечье. Прошёл день, прошёл другой. Муц вернулась. Съела всё, что нашлось, забрала свои лоскутки и улетела.
Вскоре я заметил, что у Муц есть муж, что молодожёны построили себе гнездо в абажуре на веранде и что они счастливы. Хотя я не могу сказать, чтобы лично мне муж Муц понравился. Был это, правда, рослый, красивый воробей, но дикий, трусоватый и полный недоверия ко мне. Ко мне, который безропотно согласился на протяжении нескольких длинных, жарких недель даже не заглядывать на веранду, чтобы ничем не омрачить счастье Муц!
Зато Муц была добра и мила за двоих. Когда только могла отлучиться от гнезда, прилетала ко мне, быстро съедала то, что я ей подавал, не переставая щебетать о своём счастье, и возвращалась к детям. Однако ещё лучше почувствовали себя мы с ней, когда этот грубиян, её муж, улетел от неё, сбежал. Вместе с ней мы радовались щебету четырёх малышей, которые становились всё крепче, но – что правда, то правда – и всё прожорливее. Пришлось мне самому заменять им бессердечного папашу. Я поднял на ноги всех знакомых сорванцов в городе. Скупал у них живых мух, дождевых червей. Ну, худо ли, хорошо ли, а воспитали мы с Муц из её детишек дельных воробьёв.
Не обошлось, однако, и без несчастья. Когда Муц учила своих малышей летать, она каким-то образом сломала свою деревянную ногу. Пришлось заменить спичку, как слишком хрупкую, приличным протезом из тонкой проволоки. С такой искусственной ногой можно было без опаски садиться на любую ветку. Хорошая получилась проволочная нога, скажу без хвастовства!
Так спокойно текли наши дни, пока не созрели хлеба. Очевидно, в воробьином мире не полагается сидеть в эту пору дома, хоть бы этот дом и был таким гостеприимным, как мой.
Муц с детьми полетела в поле подбирать зёрна. Гнездо опустело, и с липы, с ясеней уже не доносилось к нам знакомого чириканья. Прекратилось похищение сахара, кусочков булки в часы завтрака и обеда (молодые Муценята были прожорливы и считали – справедливо, впрочем, – что всё в моём доме принадлежит им). Настала, как при всякой разлуке, тишина. Та тишина, которая рождает грусть.
Муц ещё несколько раз возвращалась домой. Залетала в комнаты, всё оглядывала. Потом садилась подле меня и спрашивала, что нового. Вопросы её были коротки, отрывисты, а смотрела она мне в глаза как-то тоже совсем по-другому, чем прежде. Она была теперь сильна и уверена в себе. Видимо, искусственная нога служила ей прекрасно.
К концу лета визиты Муц становились всё реже, всё короче. Потом вовсе прекратились. Муц пошла в жизни своей собственной дорогой. Пусть же ей живётся как можно лучше!
Вот если вы когда-нибудь встретите воробья с проволочной ногой, передайте ему привет от меня. Это, наверно, моя Муц!









