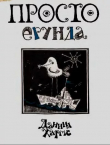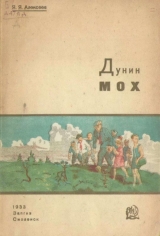
Текст книги "Дунин мох (Рассказ о торфяных болотах)"
Автор книги: Яков Алексеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Почему 16, а не 60?
– Ну, сколько растений здесь растет?
– Шестнадцать.
– Верно. Скажите, много это или мало?
– Не знаем, как сказать.
– Это мало, – говорит Павел Дмитриевич. – На хорошем лугу, если бы вы столько поискали, нашли бы их не шестнадцать, а пятьдесят, шестьдесят, а то и больше. Выходит, что болото куда беднее травами, чем луг или лес. Собранные растения не бросайте. Пусть каждый держит. Мы их рассмотрим и лучшие отберем для гербария. А теперь займемся другим вопросом. Посмотрите на эти сосенки. Почему они такие маленькие?

Болотная сосна.
– Молодые, должно быть.
– Миша, как ты думаешь, сколько лет этой сосенке? Ростом она не больше тебя.
Миша подумал и говорит:
– Лет двенадцать (должно быть потому, что ему самому двенадцать лет).
– А что это на ней? Посмотрите.
Посмотрели – шишка да не одна: шесть, семь, восемь… шишек.
– Ведь шишки бывают только на старых соснах. Придется, видно, определить возраст. Ну-те-ка, ребята, займитесь. Срежьте ее как раз у самого мха. Режьте наискось – на косом срезе легче считать годичные кольца. У кого ножик острый?
Срезали. Стали считать и ахнули: кольца так мелки, что и сосчитать нельзя.
– Ну, кто из вас близорукий? – Близорукие плохо видят вдаль, зато вблизи иной раз очень хорошо видят.
Самый близорукий – Федя.
– Ну, Федя, посчитай. Веди острым концом ножика от средины к краю, – так будет легче считать.
Стал Федя считать, а мы помогать. Насчитали 56 слоев.
– Неужели пятьдесят шесть лет?
– Нет, придется набавить. Корень у этой сосенки глубоко под мхом. Набавьте лет десять.
– Значит шестьдесят шесть лет?
– Да, выходит что эта сосенка совсем не молодая, – почти старушка, много старше тех сосен, которые мы видели сейчас в лесу. У тех высота была метров шестнадцать – двадцать, а здесь – один метр; толщина была двадцать один сантиметр, а здесь сколько?
– А здесь сантиметра два, ну два с половиной.
– А все-таки эта маленькая сосенка лет на двадцать старше тех больших сосен. Как это понять? Почему она такая маленькая?
– Может быть больная?
– Если бы она была больная, за столько лет она бы давно успела засохнуть. Значит, не в этом дело. Будем так рассуждать. У вас держат свиней?
– Ну, да.
– Когда их запускают?
– Да когда же, с весны.
– А когда колют?
– К январю.
– А на сколько пудов вырастают?
– Да у кого как. У кого на три пуда, у кого на четыре пуда, а в колхозе, где живет Сережа, на семь пудов выросла.
– Почему же так неровно растут?
– А это от свиньи – какая свинья задастся.
– Да, от свиньи, – сказал Сережа. – Держат свинью по брюхо в навозе, да кормят травой, вот она и не растет. А корми ее как следует, да сделай теплый хлев, так и у тебя на семь пудов вырастет. А то свинья виновата! Порода по всей деревне одна.
– Ну, вот, ребята, порода и здесь одна; что в лесу, что на болоте, – одна я та же сосна. Если вы семечко с этой сосенки посеете в лесу, вырастет настоящая высокая сосна. А если семечко с лесной сосны вы посеете в болоте, вырастет вот этакая корявая сосенка. Значит, дело в корме, в почве. Надо посмотреть, какая здесь почва. Ну-те-ка, займитесь.
Стали мы выдергивать мох. Сверху он был белый, поглубже оказался зеленый и очень сырой. Еще глубже он стал совсем мокрый – пожмешь, так из него вода льется, как из мокрой тряпки. Глубже мох не такой мокрый – немного плотней, бурого цвета, но видно, что тот же самый, что и сверху. Чем глубже, тем мох становился плотней и темней. Но каждая веточка в нем хорошо видна. Он совсем еще не сгнил. И не только мох, всякие другие растения в нем хорошо видны. Мы нашли в нем листья подбела, корни и стебли пушицы, еще какие-то корни, веточки клюквы с листьями. Все это хорошо видно, хотя и побурело.
Так дорылись до глубины сантиметров 60. Потом пошла вода. Мы рылись и под водой – шел все тот же мох, но уже совсем бурый и разложившийся. Пожмем его в ладони, так он выползает между пальцами, как грязь. Но и в этой грязи все-таки видны обрывки листочков и корешков. Ни песку, ни глины не видно. Рылись, пока достанет рука, потом бросили: видно, что все одно и то же. Павел Дмитриевич сказал, что у нас руки коротки, чтобы дорыться до песка или глины.

– Я не знаю, на какой глубине будет здесь почва, но если до нее, будет метров пять-шесть, я не удивлюсь. Бывают болота и поглубже.
Вся эта темнобурая грязь называется торфом. И весь он получился от сгнивания беломошника и других болотных растений. Называйте его, если хотите, почвой, но судите, богата ли эта почва.
Ну, вспомните из учебника: что растение берет из почвы?
– Растение получает из почвы необходимые для него соли.
– А какие соли? Можете вспомнить?
Стали вспоминать, но вспомнили не все. Соли азота, калия, кальция, фосфора… а дальше не сумели.
– Ну, ладно, дома посмотрите. Так вот эти соли есть и в той почве, которая лежит под торфом. Но добраться до почвы сквозь торф растения не могут, – корни их на такую глубину не доходят. Значит, приходится им довольствоваться тем, что они найдут в торфе. А в торфе есть только то, что осталось от сгнивших растений. Ведь в растении есть соли; это то, что мы называем золой. Но как раз в болотных растениях золы бывает очень мало – три-четыре процента. Это значит, что, если сжечь сто килограмм совсем сухого торфа, останется только три-четыре килограмма золы. Но и эти соли не все могут достаться растениям, потому что остатки трав на болоте разлагаются очень долго. Вот почему так медленно растут на болоте сосны, – им не хватает корма – солей.

Трава поедает животных
– Особенно мало в торфе солей азота. Обойтись без азота растения не могут, и им грозит, можно сказать, азотный голод. Голод заставляет некоторые болотные растения пойти по такой дороге, по которой другие растения не ходят. Возьмите росянку, которую вы собрали. Посмотрите, нет ли у ней завороченных листьев.
Рассмотрели. У Миши оказался завороченный листок.
– Одного мало. Поищите на кочках. Может быть еще найдутся росянки с завороченными краями листьев.
Поискали и действительно нашли еще три таких росянки.
– Ну вот, теперь осторожно отворачивайте завернутый край и смотрите, что там есть.
Миша первый увидал и закричал:
– Мошка, маленькая, маленькая мошка!
– Ну, вот и на других будут мошки или остатки от мошек. Я расскажу вам, в чем дело. Мы могли бы сделать такой опыт: взять очень маленькую мошку и положить на лист растения. Она приклеится. Если бы у нас было время и хватило бы терпения ожидать, мы увидели бы, что к прилипшей мошке начинают наклоняться липкие волоски и плотно приклеивают ее. Потом край листа начинает заворачиваться и совсем закрывает мошку. Так закрытый и заклеенный он остается несколько дней, а потом отвертывается, и вместо мошки на нем оказывается только ее скелет. Выходит, что растение высосало из мошки все соки. Вместо мошки можно взять крошечный, чуть видный глазом кусочек мяса или творога. Через несколько дней от них ничего не останется, – росянка их высосет. Мы привыкли к тому, что животные поедают травы. А вот тут, можно сказать, трава поедает животных. И не одна росянка – есть и другие такие же травы. К западу от нашей области, в бывшей Псковской губернии, затем – в теперешней Эстонии на болотах можно найти растение – жирянку. У жирянки нет липких волосков, зато весь лист липкий, и когда на него сядет мошка, он свертывается в трубочку и высасывает мошку.
У нас в лужах на торфяных болотах встречается водяное растение – пузырчатка. У нее вовсе нет корней, зато на листьях есть пустые пузырьки величиной с просяное зерно. В пузырьках есть дверки. Если до такой дверки дотронется какое-нибудь мелкое водяное животное, дверка отхлопывается внутрь пузырька, туда хлынет вода и захватит с собой животное. Потом дверка закрывается, и животное уже не может выбраться наружу. В пузырьке оно погибает, и растение высасывает его соки. В Северной Америке на болотах есть интересное растение «венерина-мухоловка», у которой две половинки листа захлопываются, как ладони, так быстро, что мошка не успевает улететь, зажимается и тоже высасывается. Таких растений на свете очень много; Они называются «насекомоядными» и живут как раз там, где почва бедна солями. Ну, так болотная почва бедна солями. Это – первая беда для болотных растений. Но есть и другие беды. Вы видели, как много воды в торфе. Сверху беломошник сух, а чуть поглубже он пропитан водой. Если в почве много воды, значит мало чего?
– Мало воздуха.
– Как это должно отзываться на растениях?
– Их корням нечем дышать.
– Лучше сказать – трудно дышать. Это будет вторая беда для болотных растений.
Откуда вода на болоте?
– Теперь скажите: откуда здесь столько воды? На низовом болоте почва была пропитана грунтовой водой, которой некуда стекать. А здесь разве грунтовая вода?
– Нет, здесь не грунтовая вода, грунт здесь очень глубоко.
– Ведь вы знаете, что это болото на горе. Значит, можно ли ждать здесь близко воды в грунте?
– Павел Дмитриевич, верно. Мы ходили в прошлом году за клюквой на это болото. Отсюда зашли к полесовщику напиться, так у него вода оказалась очень глубоко.
– Значит, вода во мху не грунтовая. Какая же это вода? Нужно этот вопрос решить. Решать будем вот как: видите, сверху мох сухой. Соберите горсть самого сухого мха. Собрали? Ну, теперь окуните его в ямку, что вы выкопали. Посмотрите, какой он стал тяжелый. Отчего?
– Он пропитался водой.
– Ну, теперь выжмите. Видите, сколько вылилось воды. Никакая трава, никакой другой мох не может столько забрать в себя воды, сколько беломошник. И никакое другое растение не может так крепко удерживать захваченную воду. Посмотрите, как сух верхний слой мха и какой сырой мох поглубже. Он только сверху высыхает, а внизу остается мокрым даже в сухое лето. А все-таки мы не решили, откуда в нем вода.
– Павел Дмитриевич, так должно быть от дождя. В дождь он водой напитается, а потом и держит.
– Правильно. Так и есть. Вся вода, какая здесь есть, получена из воздуха – из атмосферы, а не из грунта. Поэтому верховые болота и называют болотами атмосферного питания. А низовые болота – это болота грунтового питания. А теперь я расскажу вам о третьей беде для болотных растений, Ну-ка, скажите, что такое торф?
– Торф – это остатки болотных трав.
– А на лугу есть травы? Меньше их там, чем на болоте?
– Нет, конечно, не меньше.
– А торф на лугу бывает?
– Нет, Павел Дмитриевич, не бывает. Там сразу под травой земля.
– А куда же там деваются остатки трав?
– Должно быть, гниют.
– А почему на болоте не гниют? Почему их здесь накопилось пять-шесть метров? Не знаете? Ну, слушайте. Воздух нужен не только для жизни растения, но и для гниения умерших растений. Вы слышали что-нибудь о бактериях?
– Слышали. От них бывают болезни.
– Не все бактерии нападают на человека. Есть много таких бактерий, которые живут в почве и воде. Вот эти бактерии нападают на остатки умерших растений и животных и производят их гниение. Но ведь бактерии – это хотя и очень мелкие, но все же живые существа. Значит, они тоже нуждаются в воздухе. Могут ли они жить в болоте, где так мало воздуха?
– Должно быть, не могут.
– А раз не могут, – значить не будет и гниения. Правда, есть и такие бактерии, которые живут и без воздуха. Они тоже могут нападать на остатки растений и производить их гниение. Но при них гниение идет медленно и неправильно. При таком неправильном гниении (ученые его называют – неполное разложение) образуются газы и кислоты, очень вредные для живых растений. Вот третья беда для растений на болоте. Ну, Федя, пересчитай все беды растений на болотах.
– Первая беда, – что на болоте мало пищи для растений. Вторая беда, – что в торфе мало воздуха. Третья беда, – что в торфе много вредных кислот.
– Правильно, я прибавил бы и еще одну – четвертую беду.
В сухое лето болото сверху все же сильно высыхает. Это тоже вредно для растений.
– Это верно, Павел Дмитриевич. В прошлом году это болото так высохло, что даже горело. Долго, недели три горело. Дым даже у нас в деревне был.
– Ну, теперь скажите: понятно вам почему на болоте так мало растений?
– Понятно. Должно быть не каждое растение может жить в таком плохом месте.
– А какие же могут жить? Почему могут жить на болоте те растения, которые вы здесь собрали? Если вы не знаете, придется спросить у самих растений.
Что рассказали растения
– Что ты, Миша, смеешься?
– Да как же спрашивать у растений. Они же ничего не скажут.
– Скажут, если как следует спросим. Мы и без слов их поймем. А вы лучше скажите мне: какая почва была в том лесу, где мы сосну меряли?
– Там был песок.
– А что, песок – хорошая почва?
– Ну, какая хорошая! На ней ничего не родится.
– Значит, почва плохая. Ну, а сосна на песке растет?
– Растет и даже очень хорошо!
– Не знаете ли почему? А вот ученые дознались почему. Они измерили длину корней у разных деревьев, и оказалось, что ни у одного дерева нет таких длинных корней, как у сосны. Пусть песок беден солями, но раз у сосны много корней, она и из песка насосет, сколько нужно пищи. Можно сказать, что сосна приспособлена для жизни на песке. Длинные корни – это и есть ее приспособление. Эти же длинные корни позволяют сосне и из бедной болотной почвы набрать хоть немного солей. Ну, а какое приспособление есть у росянки? Скажи, ты Сережа.
– Что же, если в болоте мало азота, так росянка может азот добывать из мух.
– Правильно. Не будь у ней такого приспособления, ей на болоте было бы трудно жить. А все-таки бедность болотной почвы еще не главная беда для растений. Главная опасность для растений в том, что почва здесь пропитана вредными кислотами. Федя, ты скажи-ка нам, как соли из почвы попадают в растения. Ведь ты помнишь?
– Я помню, – сказал Федя, – растения своими корнями высасывают из земли воду с растворенными в ней солями и поднимают ее по стеблю в листья. В листьях лишняя вода испаряется, а соли остаются внутри растения.
– А что значит «испаряется вода»?
– Это значит, что она от солнца или от ветра превращается в пар, а этот пар выходит наружу через дырочки в листьях.
– А как называются эти дырочки?
– Они называются – устьица.
– Ну, скажи: если растение станет высасывать воду из болота, не может оно захватить и вредных кислот вместе с водой?
– Ну, конечно, может.
– Не будет это опасно для растения?
– Может быть и опасно, если захватит много вредных кислот.
– Теперь скажи мне, какой лист больше испарит воды – крупный или мелкий? Например, лист лопуха или лист клюквы?
Все мы закричали:
– Ну, конечно, лист лопуха? Какие же у клюквы листья – самые маленькие, да и то очень редко сидят.
– Ну, если так, скажите, ребята – у тех болотных трав, которые вы смотрели, листья очень велики? Посмотрите еще раз.
– Да, что же и смотреть, Павел Дмитриевич. Листья совсем маленькие. И у клюквы, я у голубики тоже не велики, и у брусники, и у подбела. А если у пушицы листья и длинные, зато очень узкие, как нитка.
– Это, ребята, не зря. Если бы у болотных трав были крупные листья, скажем, как у лопуха или подсолнуха, или хоть такие, как у луговых и лесных трав, то эти листья много бы испаряли воды. На место испаренной воды приходило бы из почвы много новой, а вместе с ней и много вредных кислот. Для растений была бы смерть. Значит – маленькие листья у болотных трав можно считать приспособлением?
– Можно, конечно, можно.
– Эта еще не все. Листья у болотных растений не только малы, – они и построены особенно. Посмотрите лист у багульника: сверху он темнозеленый, плотный. На этой стороне у него совсем нет устьиц – дырочек, через которые выходит пар. Все устьица на нижней стороне. А поглядите, какая она. Чем она покрыта?
– Она покрыта какими-то бурыми волосками.
– Эти волоски, как шуба, закрывают устьица от солнца и ветра и уменьшают испарение. И этого мало: посмотрите, как устроен край листа у багульника. Он заворочен вниз и покрывает часть нижней половины и те устьица, которые ближе к краю. Опять же испарение уменьшается. Дальше, возьмите лист подбела. Вы подумали, почему так называется это растение?
– Потому что у него лист снизу белый.
– Потрите его пальцем. Видите – стерлось. Эта белая, как будто пыль, тоже закрывает устьица и уменьшает испарение. А край как устроен?
– Край тоже заворочен. Павел Дмитриевич, посмотрите – у клюквы тоже самое: и белая пыль снизу, и край заворочен. Павел Дмитриевич, и у голубики тоже.
– Ну, вот видите. Эти завернутые края листьев у болотных растений, эти бурые волоски или белая пыль – что это? Разве это не приспособление к тому, чтоб меньше испарялось воды?
– Павел Дмитриевич, у лапландской ивы серебристые волоски тоже приспособление?
– Да, конечно! И они уменьшают испарение. Вот видите, сколько приспособлений есть у болотных растений. Травы, у которых нет таких приспособлений, не могли бы жить на болоте, даже если бы вы их здесь посадили. Вот теперь вы, пожалуй, уже сумеете сказать, почему на болоте растет меньше растений, чем на лугу или в лесу.
– Сумеем. Это потому, что на болоте могут жить не всякие травы, а только такие, у которых есть нужные приспособления.
– Ну, вот видите, растения нам и рассказали, почему они могут жить на болоте. А Миша говорит – не расскажут.
– Павел Дмитриевич, скажите вы нам, как это болото образовалось. А может быть оно всегда было?
– Я об этом вам расскажу, только не сейчас. Посмотрим сначала болото. А то ведь мы один край только видели. Пойдемте дальше.
Мы пошли.
Встреча со змеей
Сначала было сыровато, а потом совсем сухо. Идти по мху очень мягко, а все-таки утомительно. Да и жарко. Воздух такой густой, и запах очень сильный, как будто от смолы, но неприятный, так что у иных даже голова заболела. Игнат говорит, что это от голубики, – много ягод ели. Ее, действительно, у нас зовут «дурница», но только Павел Дмитриевич объяснил, что на голубику зря говорят. Голова болит не от голубики, а от багульника, от его запаха.
Чем дальше мы шли, тем сосенки становились все реже и мельче и кочки ниже. Остальные растения тоже стали мельче и реже, а под конец почти пропали. Зато очень много стало пушицы. Сначала мы все шли кучкой, а потом некоторые утомились и стали отставать. Вдруг Сережа закричал:
– Змея, змея!
Подскочил Игнат, схватил ствол сухой сосны и начал бить змею.

Когда мы подбежали, змея была уже убита, но еще дергалась. Оказалась она не велика, с аршин. Федя было накинулся на Игната.
– Ну, зачем ты ее убил? Ведь она тебя не трогала!
Федя очень жалостливый, – сам никого не обидит и другим не позволяет обижать.
Но Павел Дмитриевич сказал, что Игнат поступил правильно.
– Действительно Федя прав: зря убивать ничего живого не следует: ни лягушку, ни птицу. Но змею жалеть нечего: а вдруг бы вы, не заметивши, на нее настудили? Ведь она ужалит!
– А может быть это не змея, а уж? Ведь уж не кусается.
– Ну, какой же это уж? Ведь у ужа сзади щек желтые пятна, а у этой пятен нет. Это – гадюка. А потом, видите, вдоль спины у ней темная полоса изгибами. Такая полоса бывает только у гадюки. Правда, она не всегда видна, но у этой хорошо заметна.
Павел Дмитриевич пошевелил змею палочкой.
Оказывается, она еще жива – высунула и спрятала жало.
– Вот, могла бы ужалить, – сказал Игнат.
– Да разве змея жалом кусает? Жало – это язык и языком змея только ощупывает. А кусает она зубами. Мы сейчас их посмотрим.
Игнат хотел было схватить змею за голову, но Павел Дмитриевич его удержал.
– Погоди хватать, а то она тебя хватит. Мы иначе сделаем.
Он взял сухую палочку, ножиком расщепил ее с одного конца, в расщеп загнал клинышек так, чтобы края сильно разошлись. Потом надел расщеп на шею змее у самой головки и вынул клинышек. Змею крепко защемило.
– Ну, вот теперь посмотрим. Видите, какая у ней кожа – вся как будто из чешуек, из табличек, очень прочная, не боится царапин. Эта же кожа покрывает у ней и глаза. Посмотрите – ни век, ни ресниц у змеи нет. Кожа над глазами очень прочна и совершенно прозрачна. Поэтому змее нет надобности жмурить глаза, когда она ползет в траве или в кустах, – глаз она не поцарапает. Теперь раскроем рот.
Павел Дмитриевич вставил в рот карандаш и раздвинул челюсти.
– Видите, жало – это раздвоенный конец языка. А вот они и ядовитые зубы. Только два зуба у змеи и есть и оба в верхней челюсти. Если рот у ней закрыт, эти зубы бывают прижаты к небу. А если она раскрывает пасть, зубы отгибаются вниз. В зубах есть трубочки (канальцы), а над каждым зубом в деснах – мешочки с ядом. Когда змея укусит, зубы вонзятся в тело, а потом, когда она сожмет челюсти, зубы прижмутся к небу и нажмут на мешочки. Яд по трубочкам вольется в рану.

– Павел Дмитриевич, а чем змея кормится?
– Обыкновенно, она кормится мелкой живностью, например, мышами. Но чем она здесь кормится – по правде сказать я и сам не не знаю. Посмотрите, как здесь пусто. Сколько мы уже идем по болоту, а не слышали ни одной птицы, не видели ни одной бабочки. Мало здесь трав, да и мало годятся они в пищу. Поэтому и животных здесь мало. Вот только пауков много. Посмотрите, сколько их на мху.
Мы пригляделись и удивились. В самом деле, такая сила здесь пауков.
– Вот, может быть, пауками она и питается. Змею вы возьмите с собой; мы ее положим в банку с формалином, и зимой она пригодится нам для занятий.