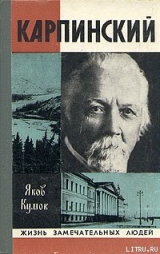
Текст книги "Карпинский"
Автор книги: Яков Кумок
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
Глава 9
«Будем терпеливы, тверды и выносливы...»
Петроград 1919-го и начала 20-х годов нам – по прошествии времен – видится все еще в дыму костров, тысячеголовом волнении митингов и грохоте бронемашин. Тут вина режиссеров кино, прибегающих к эффектным массовкам, в поисках «колорита» пореволюционной поры. Приведем свидетельство современника: следующие строки датированы сентябрем 1919 года. Сохраняем авторскую разрядку.
«И с ч е з л а с у е т а с у е т с т в и й.
Медленно ползут трамваи, готовые остановиться каждую минуту. Исчез привычный грохот от проезжающих телег, извозчиков, автомобилей... Прохожие идут прямо по мостовой, как в старинных городах Италии... З е л е н ь д е л а е т в с е б о л ь ш и е з а в о е в а н и я. Весною трава покрыла более не защищаемые площади и улицы. Воздух стал удивительно чист и прозрачен. Нет над городом обычной мрачной пелены от гари и копоти. П е т е р б у р г с л о в н о о м ы л с я.
В тихие ясные вечера резко выступают на бледно-сиреневом небе контуры строений. Четче стали линии берегов Невы, голубая поверхность которой еще никогда не казалась так чиста. И в эти минуты город кажется таким прекрасным, как никогда.
Во всем Петербурге воздвигается только одно новое строение. Гранитный материал для него взят из разрушенной ограды Зимнего дворца. Так некогда нарождающийся мир христианства брал для своих базилик колонны и саркофаги храмов древнего мира.
Из пыли Марсова поля медленно вырастает памятник жертвам революции...»
Петербург словно омылся...
Но в этом светло-сиреневом прекрасном городе на берегах поголубевшей Невы жилось трудно, голодно, тревожно. Милиция, набранная из рабочих пареньков, не успевала вылавливать бандитов и пресекать набеги грабителей; они совершили налет на Антропологический музей, гордость академии, обчистили квартиру Вернадских...
«Город стоял на отшибе, – объяснял В.Д.Бонч-Бруевич, – с севера к нему ничего не поступало для снабжения, а все, что шло с юга, нередко перехватывалось в пути, и до Петрограда доходило очень немного продуктов. Приходилось слышать, что там положение ученых, литераторов, художников ужасное... В 1918 г. неожиданно умер известный академик, доктор многих иностранных университетов Алексей Александрович Шахматов. Эта неожиданная смерть произвела сильное впечатление».
На академиков эта смерть произвела тем более сильное впечатление, что стояла в ряду других потерь: один за другим умирают Лаппо-Данилевский, Радлов, Федоров... Из Одессы пришло известие, особенно сильно ранившее Стеклова: не стало его учителя Ляпунова. Летом 1917 года он уехал к Черному морю в надежде найти лучшее пропитание и более подходящий климат для больной жены. Не нашел ни того, ни другого. Жена скончалась, и Ляпунов, потеряв надежду вернуться в Петроград, к товарищам, покончил с собой... В его письменном столе нашли рукопись «О некоторых фигурах равновесия неоднородной вращающейся жидкости». Он дописывал ее в последние часы.
Трудно было всем: умирали от голода и несчастий не одни академики. Но ученые мучились тем еще, что зачастую лишены были возможности вести ту напряженную умственную работу, к которой привыкли и без которой жизнь для них теряла смысл. В предыдущей главе мы рассказывали о важных и необходимых исследованиях, развернутых академией в это время; но ученым этого казалось мало. Они привыкли не просто к напряженной работе, а к такой, чтобы поглощала без остатка их дни и ночи; и только такая жизнь представлялась им достойной. И потому теперь, когда в их квартиры на постой или уплотнение (новое словечко в потоке новых слов, к которым надо было привыкать) подселялись (тоже новое словечко) солдаты, матросы, члены их семей или сотрудники невесть откуда возникших комиссий, подкомиссий, отделов, подотделов, для которых срочно требовались помещения, – ученым казалось, что мир рушится: шум, гам, беготня детишек, стук «ундервудов» мешали сосредоточиться. «Уплотненные» жильцы бежали к Александру Петровичу, а тот слал записки Стеклову, подобные этой от 6 июня 1919 года: «В среду в наш дом заходили два матроса «Промбалта» с намерением занять для канцелярии «Водного транспорта» квартиры Фаминцына и Лаппо-Данилевского...» И дескать, следует вступить в борьбу с «Водным транспортом», имеющим в авангарде двух матросов «Промбалта», и постараться отбиться. И вступали! И отбивались!..
Худо было то, что осенью и зимою, когда и дома-то было невтерпеж холодно, нельзя было укрыться в библиотеке и там спокойно почитать и подумать. 7 ноября 1918 года Ольденбург докладывал президиуму, что в библиотеке плюс 7 градусов, и просил сократить часы занятий для ее работников. Плюс 7 в начале ноября, когда жестокие морозы еще не разыгрались: в декабре, январе, феврале стало еще холодней.
Президент академии дома пальто не снимал, а на руки натягивал перчатки со срезанными пальцами – так ловчее было писать. Тут решимся со всей откровенностью признать, что он с детских пор сохранил бережливое, если не сказать, скуповатое, отношение к трем предметам повседневного обихода: к свечам, мылу и сахару. Последний покупался головками и никогда не пиленый и тем паче не песок; хозяин самолично колол головки, сметая ладонью крошки и сахарную пыль, а чай пил вприкуску и недососанный кусочек заворачивал в салфетку.
Ныне же его бережливость получила законное оправдание, и он строго следил, чтобы того же порядка придерживались домашние... правда, это не распространялось на сахар, который вовсе исчез из обихода! Однажды его навестил какой-то иностранный ученый и застал работающим за конторкой при свете единственной свечи; президент был в пальто и своих укороченных перчатках. Иностранец был так изумлен, что, вернувшись на родину, немедленно послал меховые перчатки, вообразив, что президент не в состоянии их приобрести. В «доме» были очень сим позабавлены.
Бонч-Бруевич винит во многом «Петроградский Совет, во главе которого в то время стояли не очень-то заботливые и понимающие положение вещей люди...». Вероятно, это так, но беда еще и в том заключалась – и сам Бонч-Бруевич это отмечает, – что «самый тонкий и самый культурный слой общества», как он называет, «выдающиеся ученые и литераторы были решительно не приспособлены к борьбе за кусок хлеба».
Да, закаленные в борьбе за научную истину, они не ведали борьбы за хлеб. В записках Ольденбурга встречаем описание такого случая: жена известного академика, исстрадавшись смотреть на голодного мужа, тайком понесла на «барахолку» (и еще одно новообразованное и достаточно мерзкое словечко, коим обозначался черный рынок, название, кстати, тоже возникшее недавно, в годы первой мировой войны, но успевшее стать привычным) мужнины сапоги – в надежде обменять на продукты – и тут же попалась и препровождена была в Дом предварительного заключения как спекулянтка. Со спекулянтов взыскивали по всей строгости революционного закона, запросто могли и расстрелять. С большим трудом вызволили бедную женщину.
Зимою 1918 года на паек выдавалась осьмушка хлеба – накануне нового, 1919 года вместо хлеба выдали овес.
Известные слова М.Горького относятся как раз к этому времени:
«Я имел высокую честь вращаться около них в трудные 1919 – 1920 гг. Я наблюдал, с каким скромным героизмом, с каким стоическим мужеством творцы русской науки переживали мучительный голод и холод, видел, как они работали и как умирали. Мои впечатления за это время сложились в глубокий и почтительный восторг перед Вами – герои свободной бесстрашной исследующей мысли. Я думаю, что русскими учеными, их жизнью и работой в годы войны и блокады дан миру великолепный урок стоицизма».
Осенью 1920 года в Петроград приехал Герберт Уэллс, знаменитый английский писатель-фантаст, его книга «Россия во мгле» – о результате поездки – была переведена во многих странах. Он встречался с Александром Петровичем Карпинским, Сергеем Федоровичем Ольденбургом, Иваном Петровичем Павловым. «Они меня забросали целым рядом вопросов о современном научном развитии в странах вне России, и мне стало стыдно своего невежества в этих вопросах... Наша блокада отрезала их от всякой научной литературы. У них нет новых инструментов, нет бумаги, они работают в нетопленных лабораториях. Изумительно, что они продолжают работать, но это так. Павлов производит опыты поразительного масштаба и изобретательности в области психики животных. Манухин открыл способ лечения туберкулеза и т.д.».
Не умея ответить на вопросы о развитии науки, англичанин охотно рассказывал о послевоенном укладе жизни на Западе; утешительного ученые услышали мало.
«Здесь был знаменитый Уэллс (знаменитые «Марсиане» и т.д.), – спешит сообщить подробности Стеклову, уехавшему в Москву в командировку, Ольденбург, – был у меня в Академии, говорили много, и я вынес впечатление, что на Западе война оставила глубокие и печальные следы: страшные нервные потрясения у участников войны (молодежь не может пока усидчиво работать, массы душевно и нервно заболевших), большое взаимное недоверие между разными народами: «чураются иностранцев», «путешествие вне своей страны очень тяжело». Необходимость залечить громадные «материальные» раны повысила значение труда физического и понизила значение труда умственного, что, разумеется, отражается на общем культурном уровне... У нас материальные невзгоды: из пайка для служащих пока ничего не выходит. В сентябре совсем жалованья не платили и выдали 2 октября и то за первую половину сентября, что болезненно ощущали все, особенно в виду непрекращающегося роста цен при закрытии рынков.
Осень дает себя знать простудами и всякими болезнями. Дрова понемногу выгружаются, но пока их еще немного, зато они недурные. Кажется, в Петербурге будет лучше с топливом в этом году. Среди смертей назову Венгерова, в этой несчастной семье за этот год умерли, кроме него: жена, сын, дочь...»
(Письма академиков этой поры торопливы, порывисты, удивляют смешением разнородных новостей, которые спешат вывалить гуртом, боясь чего-нибудь запамятовать; научное сообщение соседствует с забавным эпизодом или трагической вестью. Трагические, впрочем, преобладают...)
Иногда кажется, что стоицизм, потрясший Горького – с равным правом его можно назвать и героизмом, – совершенно не осознавался и вытекал из наивности натуры, ни с чем не сравнимой детскости этих старых людей, подчас принимавшей почти смешные формы.
5 мая 1919 года академия с прискорбием узнала, что скончался московский ее член-корреспондент Климент Аркадьевич Тимирязев. Ольденбург сейчас же поехал на Главный почтамт, чтобы послать телеграмму соболезнования сыну покойного, профессору Московского университета. Телеграмма была подписана, как положено, президентом, вице-президентом и непременным секретарем, но дама в окошке ее не приняла. Сергей Федорович принялся было объяснять всю горестную важность этого письменного акта, но вместо ответа ему выставили предписание, согласно которому прием телеграфных соболезнований, а равно и «каких-либо приветствий запрещен».
– Как? Соболезновать запрещено? – несчастным голосом воскликнул Сергей Федорович.
И долго он не мог успокоиться, переживал, что академия выказывает себя самым невоспитанным образом и нужно подумать о семье покойного, которой стало бы, возможно, чуточку легче, узнай она о печали, пронзившей души академиков, и никак не мог понять, какие такие условия военного времени могут заставить отменить соболезнования...
О бедах, обрушившихся на ученых, написано немало, и свою задачу мы видим не в том, чтобы удлинять список несчастий (хотя этой темы не избежать, представляя читателю разного рода личные и официальные документы – да и не следует специально избегать!). Академия приняла революцию и неизбежные трудности, сопутствующие ей, – это почти дословное выражение, часто фигурирующее в академических документах этих лет. Ученые принимали неизбежность, но это вовсе не значит, что они мирились с ней!
И наша задача состоит в том, чтобы показать, как три великих старца академии, которым она обязана, быть может, даже больше, чем спасением, она обязана им великим примером самоотверженности, который делает русскую академию особенной в ряду всех академий мира, потому что с этого момента русская академия становится знаменита не только своими несравненными научными достижениями, но и несравненной гражданской, человеческой стойкостью, как три великих старца, сами наравне с другими страдая от голода, холода и других невзгод, боролись, искали новые пути развития академической науки, твердо отстаивали свое мнение. Мы можем только восхищаться той смелостью, иногда даже дерзостью, никогда, впрочем, не переходящей границ вежливости, с которыми ученые ставили острые вопросы, никогда не льстя, не заигрывая, не хитря, не скрывая своих трудностей, сомнений и заблуждений.
25 сентября 1918 года Сергей Федорович посетил Луначарского. Он оставил ему письмо, в котором в резкой форме говорилось о необходимости улучшить положение ученых. «Люди умственного труда находятся в особо тяжелом положении, ибо они поставлены в наихудшие условия относительно питания и привлекаются часто к трудовой повинности, а квартиры их не свободны от случайных постоев, библиотеки от разгрома и конфискации... в среде их наблюдается, по заключению врачей, особо сильное физическое истощение, а ряды их тают с чрезвычайной быстротой вследствие болезней, многочисленных смертей и отъездов за границу. От имени Академии отмечена желательность принять следующие меры: прекратить походы против людей умственного труда и охранять властью их безопасность; освобождение от добавочной трудовой повинности; безопасность их жилищ и рабочей обстановки от всяких случайных вторжений; принятие срочных мер для обеспечения лучшего питания...»
Было необходимо в такой резкой форме ставить эти вопросы, потому что, отвлекаемое нуждами фронтов гражданской войны, промышленности, сельского хозяйства и транспорта, молодое правительство не всегда успевало следить за нуждами ученых.
В свое время был создан Совет ученых учреждений и высших учебных заведений. 24 апреля 1919 года академия обращается в Правление этого Совета с письмом «о принятии срочных мер к улучшению питания и существования наиболее слабых научных работников». 6 ноября 1920 года на заседании президиума академии вновь разговор о том же. «Предложено обратиться от имени Академии в Совнарком с запиской, в которой было бы указано на катастрофическое положение научных работников в России и были бы предложены меры к облегчению этого положения». 1 октября 1921 года В.И.Вернадский предлагает внести на рассмотрение общего собрания академиков «заявление о том, что необходимо обратиться к правительству с указанием на то тягчайшее положение, в какое вновь поставлены ученые, не получающие содержания в срок именно в то время, когда при переходе к денежному хозяйству деньги приобретают большое значение. В тягчайшем положении по той же причине находятся и ученые учреждения».
Не под всеми из перечисленных документов подпись Карпинского, но за всеми проглядывает он, ощущается его присутствие, его направляющее участие.
Он часто выступает теперь перед коллегами, но мы сильно ошиблись бы, предположив, что о том только и говорит: о трудностях и о мерах по их устранению.
Он рассуждает о науке. «Настоящие ученые являются свободными рабами истины. Они принадлежат к наиболее необходимым работникам для каждой страны, для всего человечества».
Он говорит о социальном переустройстве России. «Современникам такой перестройки неизбежно приходится нести тяжелые испытания. Но будем терпеливы, тверды и выносливы».
И эти слова ободряли ученых, прибавляли им силы.
Глава 10
О ремонте и реформах
За годы войны пришли в ветхость академические здания. Они нуждались в основательном и неотложном ремонте. И хотя деньги на то у академии теперь были, все равно без поддержки правительственных органов трем старцам с ремонтом было не управиться. Об этом писал в 1922 году в Наркомпрос Владимир Андреевич Стеклов, попутно касаясь и других вопросов, – он иначе не умел. Записка и тем любопытна, что проникнута своеобразным стекловским юмором, то горьковатым, то хлестким, несмотря на то, что это вполне официальное обращение во вполне официальные инстанции. А юмор – свидетельство жизнерадостности, и пусть говорится о предмете вовсе не веселом, но впечатление остается такое, что автора ни на минуту не покидала надежда: все исправится и наладится к лучшему.
«Российская Академия наук, – начинает Владимир Андреевич, – сосредоточившая в своем составе все лучшие ученые силы, приобретшая всемирную славу, не прерывает свою научную работу при почти невыносимых физических условиях». Считает долгом напомнить, что к помощи академии «всегда прибегала и постоянно должна прибегать правительственная власть».
Приводит забавные выдержки из писем Ломоносова, в которых тот жалуется на различные неустройства. «Но Ломоносов еще от отсутствия воды, света и топлива не страдал, здания Академии были еще новые, крыши не протекали, выгребные ямы вычищались без задержки, типография печатала не только все, что нужно, но и что не нужно».
«Жене академика пришлось, – случай этот никак не мог быть забыт, – перед Пасхой продавать сапоги на базаре и за это претерпеть большие неприятности, но в остальном положение Академии становится хуже, чем при Ломоносове».
«Приходится жить под непрестанно давящим чувством, что не сегодня-завтра все здание разлезется по швам, так что кусков не собрать... В Зоологическом музее (второй за Британским музеем, а по необработанным материалам его превосходящий) коллекции портятся, работа ученая и по разработке материала становится невозможной; в Азиатском музее ценнейшие манускрипты покрываются плесенью, тлеют, то же в Музее этнографии и антропологии... Водопроводные трубы лопаются, заливают помещения (в математическом кабинете, например, вода проникла через два этажа и залила часть книг и рукописей, и полтора года назад такой же потоп был дважды в физической лаборатории и других помещениях)...
Как ни печально, – продолжает Владимир Андреевич, и так и видишь изящный жест руками и лукавую тонко-саркастическую улыбку на его лице, – но приходится перейти от мысли о науке к вопросу о нечистотах».
Тем, кто знаком с периодической и эпистолярной литературой тех лет, сия тема вовсе не покажется удивительной или экстравагантной. О вывозе нечистот с Невского проспекта писал в письме В.И.Ленину Горький. Что поделаешь: разруха, и писателям, и «лучшим ученым силам» бывает необходимо от высших размышлений спуститься к самым низшим потребностям быта.
«За 4 года РАН не имела возможности ни разу вычистить выгребные ямы (люки). Удавалось раздобыть всего несколько десятков бочек, лишь слегка вычерпав содержимое 36 люков. Люки засорялись... Несколько раз нечистоты выступали и подмачивали имущество книжного склада. Очистители требуют один миллиард рублей... Отложить невозможно, а средств нет».
Вот такими заботами, и «низшими» и «высшими», жило руководство академии в эти незабываемые годы.
Да не отвернется молодой читатель с брезгливою миною от этих страниц – это Стеклов пишет Луначарскому: выдающийся математик выдающемуся партийному публицисту.
Чрезвычайно нервировали «трех старцев» постоянно фигурировавшие слухи о «закрытии» академии, реорганизации ее, слиянии с чем-то и разделении на что-то... В наше время роль академии в культурной жизни страны и мира столь велика, ее положение кажется столь незыблемым, что трудно представить, чтобы кто-нибудь отважился потребовать «ликвидации» академии. Но тогда такие безумцы (из числа левацки настроенных) находились; мы сейчас приведем документ, в этом смысле показательный.
Это записка (вернее, отрывок из нее) «О реформе деятельности ученых учреждений и школ высших ступеней в Российской Социалистической Федеративной Республике». Создана в Научном отделе Комиссариата по просвещению Союза коммун Северной области. А Академия наук как раз и входила в Союз коммун Северной области.
«Что же касается разновидности, – язвительно и беспощадно замечали творцы записки, – именуемой высшим ученым учреждением типа Академии наук, то таковые подлежат немедленному упразднению как совершенно ненужные пережитки ложноклассической эпохи развития классового общества. Коммунистическая наука мыслима лишь как общенародное, коллективное трудовое жизненное дело, а не как волхование в недоступных святилищах, ведущее к синекурам, развитию кастовой психологии жречества и сознательного или добросовестного шарлатанства».
Красиво сказано! Вероятно, текст составляло бойкое журналистское перо, уверенное в своей лихой правоте. Конечно, мы видим перед собой то, что сейчас принято называть «типичным левацким загибом», однако старикам-то академикам от этого было не легче!
Они и слов таких не разумели: левацкий загиб... Записка рассматривалась на заседании коллегии Наркомпроса. Постановили опубликовать ее. Передать на рассмотрение Государственной комиссии по просвещению с последующим претворением в жизнь.
«Волхование...» «Пережиток ложноклассической эпохи...» Обсуждался план слияния академии и других научных учреждений в Ассоциацию наук (что, конечно, означало исчезновение академии). Были и другие проекты.
26 ноября 1918 года Ольденбург ездил объясняться по этому поводу в Наркомпрос. Он напомнил «о тех крупнейших переменах, какие произошли и во внутреннем строе Академии, и в характере ее работы...». Все же, вернувшись, он сообщил, что «настроение Комиссариата по отношению к Академии не может считаться особенно благоприятным».
Летом следующего, 1919 года опять дебаты по тому же поводу. «Комиссариат не находит удовлетворительным произведенную Академий наук реорганизацию... Хотя Академия именует себя Российской, однако остается несвязанной со многими весьма важными из существующих научных учреждений, выборы академиков остаются прерогативой Конференции Академии наук...»
Тут содержатся уже конкретные указания, и академики принялись их обсуждать (конечно, не торопясь, потому что торопливости президент вообще не любил) – вдруг через месяц возобновляются тревожные слухи...
Ольденбург – академику П.П.Лазареву, 15 августа 1919 г.
«На Академию из Москвы, говорят, надвигается черная туча: Артемьев и Тер-Оганесов имеют какие-то планы полного уничтожения в просто декретном порядке. Науку, конечно, никто и ничто никогда не уничтожит, пока жив будет хоть один человек, но расстроить легко. Поговорите с Красиным, пусть он поговорит с Лениным, тот человек умный и поймет, что уничтожение Академии наук опозорит любую власть. Мы здесь заняты разными проектами реорганизаций для спасения дела, но упорно встает вопрос топлива, и смерть косит: умер М.А.Дьяконов, схороним его в среду – ушла очень крупная научная сила! Гибнет и ученый персонал, умирают и стареют...»
Можно с полным основанием утверждать, что реорганизация академии (в той или иной степени), несомненно, была бы произведена, если бы не В.И.Ленин. Позднее Луначарский вспоминал:
«Наркомпрос имел прямые директивы В.И.Ленина: относиться к Академии бережно и осторожно, не раня ее органов, ввести ее более прочно и органично в новое, коммунистическое строительство».
Прямые указания!
«...Я прекрасно помню, – рассказывал Анатолий Васильевич, – две-три беседы, в которых он буквально предостерегал меня, чтобы кто-нибудь не «озорничал» вокруг Академии. Один очень уважаемый молодой коммунист и астроном придумал чудесный план реорганизации Академии. На бумаге выходило очень красиво. Предварительным условием являлось, конечно, сломать существующее здание на предмет сооружения образцового академического града. В.И.Ленин очень обеспокоился, вызвал меня и спросил: «Вы хотите реформировать Академию? У вас там какие-то планы на этот счет пишут?»
Я ответил: «Академию необходимо приспособить к общегосударственной и общественной жизни, нельзя оставить ее каким-то государством в государстве. Мы должны ее ближе подтянуть к себе, знать, что она делает, и давать ей некоторые директивы. Но, конечно, планы коренной реформы несвоевременны, и серьезного значения мы им не придаем».
Несколько успокоенный Ильич ответил: «Нам сейчас вплотную Академией заняться некогда, а это важный общегосударственный вопрос. Тут нужны осторожность, такт и большие знания, а пока мы заняты более проклятыми вопросами. Найдется у вас какой-нибудь смельчак, наскочит на Академию и перебьет там столько посуды, что потом придется строго взыскивать».
Это исключительной важности заявление, в которое должен вчитаться каждый, кто желает объективно разобраться в тех событиях. Тут не только недвусмысленно высказанное отношение главы государства («...нужны осторожность, такт и большие знания...»), но и признание с его стороны той действительной опасности, которой подвергается академия («...какой-нибудь смельчак наскочит на Академию...»).
Во Владимире Ильиче академики всегда видели защитника своего и доброго опекуна. Осенью 1920 года, когда и голод, и топливный кризис вновь надвинулись на академию, решено было обратиться в Совет Народных Комиссаров с запиской. Текст ее составлялся с большой тщательностью. Варианты обсуждались в кабинете президента. Один из вариантов Александр Евгеньевич Ферсман показал Алексею Максимовичу Горькому, тот дал несколько советов.
Окончательный вариант, подготовленный «тремя старцами» и Ферсманом, представлен был общему собранию 22 ноября 1920 года, обсужден им и одобрен. Вот какое значение придавалось прямому обращению в Совнарком.
В Москву для встречи с Лениным отправилась делегация ученых: Ольденбург, Стеклов, начальник Военно-медицинской академии В.Н.Тонков и Алексей Максимович Горький. Беседа с Владимиром Ильичем состоялась 27 января 1921 года.
Стеклов вез в портфеле перечень дел, который три старца подготовили для обсуждения с главой правительства. О новых ассигнованиях, об улучшении материального положения ученых, о национализации имения покойного академика А.А.Шахматова в Саратовской губернии, чтобы создать там дом отдыха для научных работников (имение было большое: около 30 десятин пашни и 130 леса), о возобновлении международных научных связей и другие.
Все просьбы, обращенные к главе правительства, были удовлетворены. В мемуарах Ольденбурга и Горького встреча с Лениным нашла яркое отражение.
«– Пусть ученые поймут, – пересказывает Сергей Федорович слова Владимира Ильича, – что мы хотели бы сделать для них гораздо больше того, что можем пока сделать. Но когда голодают все, мы не можем даже для самых ценных и нужных нам людей сделать сколько-нибудь значительно более, чем для других.
...Необходимо, чтобы вы, старые работники, идущие с нами, пожили подольше, – Владимир Ильич при этом улыбнулся, – и затем необходимо, чтобы вы не жалели сил и времени на подготовку смены себе, новых научных кадров».
«Помню, я был у него с тремя членами Академии наук, – писал А.М.Горький. – Шел разговор о необходимости реорганизации одного из высших научных учреждений Петербурга. Проводив ученых, Ленин удовлетворенно сказал:
– Это я понимаю. Это – умники. Все у них просто, все сформулировано строго, сразу видишь, что хорошо знают, чего хотят. С такими работать – одно удовольствие. Особенно понравился мне этот...
Он назвал одно из крупных имен русской науки...»
Это было имя Владимира Андреевича Стеклова.








