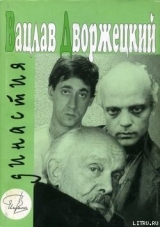
Текст книги "Вацлав Дворжецкий – династия"
Автор книги: Яков Гройсман
Соавторы: Рива Левите
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
Итак, близилась премьера моего первого спектакля, где Вацлав Янович играл инженера Частухина. Перед генеральными репетициями он садился к зеркалу и буквально преображался. Надо сказать, мне нравилось наблюдать, как он гримировался, а он это любил, у него были совершенно потрясающие внешние характеристики образов, и всё рождалось на глазах. Он садился с собственным лицом, а потом то приклеит нос, то поднимет бровь, то что-то подрисует… и рождался внешний образ персонажа.
На генеральной репетиции он выходит на сцену, и мне просто становится дурно, потому что передо мной человек, которого я очень хорошо знала, наш семейный приятель. Он был главным инженером в одном из московских главков, сибиряк по происхождению, типичный интеллигент. И он прямо передо мной. У Вацлава Яновича было какое-то удивительное чутье к воссозданию внешней характеристики образа, не говоря уже о воплощении «жизни человеческого духа».
Меня это совпадение, удивительное попадание в характер сразило в самое сердце. Дворжецкий так играл, как будто знал того человека. Родился его двойник. Тоже инженер, тоже человек мягкий по характеру, интеллигентный, ошеломленно реагирующий на какие-то катаклизмы.
Премьера была 24 декабря 1950 года. Она прошла с успехом, и после премьеры в помещении Театра музыкальной комедии должна была состояться актерская встреча Нового года. Пошли туда и мы…
Пробыли довольно долго: карнавал, поздравления, всё прекрасно. Выходим, погода замечательная, снег сыплет, и на улицах нет народа – просто чудо какое-то. Снег искрится в лучах фонарей, настроение прекрасное. Мы идем, идем, идем, и вдруг Вацлав Янович говорит: «Всё, хватит дурака валять. Я, как ни смешно это звучит, делаю тебе предложение», – и встает на колено. Для меня это было неожиданно, он меня ошеломил… И я, недолго думая, сказала: «Хорошо».
С тех пор 24 декабря мы считали днем решения наших судеб. Причем мы специально этого не афишировали, не докладывали, никому ничего не рассказывали. Я не представляла, как всё это расскажу дома. В Москву поеду нескоро. Написать? Для домашних это небольшой подарок. Во-первых, возрастная разница двенадцать лет. Во-вторых, Владик, сын. Еще у Вацлава Яновича была дочь, которая жила в Иркутске со своей мамой. Она родилась в 1946 году. И масса всяких атрибутов, которые, конечно, в нормальной, обычной семье с восторгом приняты быть не могли. Потом бум, который возник вокруг, мне не нравился, я не любила такого пристального внимания к себе со стороны, да он и сам не мог привыкнуть к тому, что вдруг решил свою судьбу. И это можно было понять: человек за свои 40 лет столько пережил, через такие испытания прошел… У него было ощущение, что никаких обязательств, никакой ответственности за кого-то он не может взять на себя. И вдруг… Я его позднее как-то спросила: «Как же ты такое сказал?» – «Не мог не сказать, потому и сказал».
Тут тоже, наверное, проявилась актерская природа, которая, как мне кажется, определяла всё, что он делал. Он выжил благодаря ей и жил ею всегда.
Так что мы своих отношений не афишировали, только близкие люди знали, естественно. Мы просто за ручку ходили, не расставаясь, а через какое-то время, когда всё уже устаканилось, он мне рассказал очень смешную историю. Оказывается, когда директор театра П. Т. Черемных приехал из Москвы, он сказал Вацлаву Яновичу: «Во-первых, я договорился с молодым режиссером, а во-вторых, я нашел одновременно тебе жену. Она будет твоей женой». Можете себе представить, когда такому человеку, как Дворжецкий, свободному абсолютно, поступавшему как ему хотелось, и вдруг такое сказали! Вот почему в ту первую встречу они меня так разглядывали. А потом уже и сам Черемных мне всё рассказал. Между прочим, Петр Тихонович действительно был очень хорошим директором, хорошо знал свое дело, любил театр. Обожал розыгрыши, эпиграммы, разные необычные поздравления и получал от этого огромное удовольствие.
Так решилась наша судьба. И началась очень интенсивная совместная творческая работа в театре и на радио. Теперь прямой эфир бывает очень редко и считается верхом мастерства, когда человек способен у телекамеры или у микрофона вести свободную беседу или произносить текст, а тогда это было естественно. В радиостудии два человека садились рядом, включали микрофон, и всё шло в эфир. Мне это было исключительно приятно по двум причинам: мы работали вместе, и багаж, накопленный за годы учебы, не лежал мертвым грузом. Я исполняла весь свой институтский и студийный репертуар. Как режиссер делала композиции спектаклей, вела целые оперы. Опера транслировалась из театра, а комментарий вел человек из радиостудии. Таким образом я вела «Онегина», «Демона», читая почти всю поэму. Это было замечательно.
Начались и совместные работы в спектаклях. Вацлав Янович играл очень много, был одним из ведущих артистов. Артистом глубоким, интересным и многоплановым.
Он был способен создавать диаметрально противоположные характеры, что и называется театральным искусством. Как говорил Станиславский, вершина актерской профессии – это импровизационное самочувствие и способность к перевоплощению. Играл, например, в «Анне Карениной» и Каренина, и Вронского. Создал замечательный гротесковый образ генерала Родзянко в «Незабываемом 19-м» Вс. Вишневского и одновременно играл Клайда Гриффитса в «Американской трагедии». Играл Клода Фролло в «Соборе Парижской Богоматери», очень любопытно и оригинально Петруччио в «Укрощении строптивой», кавалера Рипафратта в «Трактирщице» – такой разброс, который под силу не каждому современному актеру, а ему в этом смысле, как говорят артисты, фартило.
Любой приглашенный режиссер, любой режиссер, который вел театр, всегда считал необходимым занять Вацлава Яновича для того, чтобы получился увлекательный, высокохудожественный спектакль. В пьесе «Порт-Артур», где Дворжецкий филигранно играл князя Кирилла Владимировича, был эпизод, который определял успех всего спектакля. Кто бы ни смотрел его из критиков, при анализе девяносто процентов внимания уделял этой работе. Там было всё: и аристократизм, и изощренность, и отпечаток уже подернутого тлением, уходящего общества, и ум, и тонкость души, и вместе с тем ироническое осмысление всего, что происходило. Этот характер был вкраплен жемчужиной в ткань действия.
«Анну Каренину» видеть не пришлось, но мне много рассказывали о спектакле. Главную героиню играла актриса, которая, на какую бы мизансцену ее ни выводили, всё равно поворачивалась лицом к залу. И у Вацлава Яновича всегда была одна задача: поворачивать ее спиной, просто как игровой манок, он так развлекался. Спорил с актерами, что повернет ее и она несколько минут всё-таки будет спиной к зрителю. Замечательная была работа в пьесе Г. Ромашова «Огненный мост» о том, как интеллигенция приходит – или не приходит – в революцию. Я очень любила этот спектакль, поскольку то, что создал в своей роли Дворжецкий, вызывало у меня ассоциацию с булгаковскими «Днями Турбиных». Это не было клеймением белогвардейских офицеров, скорее это являлось попыткой проникнуть в психологию людей, попавших в такую сложную ситуацию, как революция и гражданская война. Еще спектакль «Персональное дело», где он играл человека, которого исключили из партии. А шел 1953 год, когда наконец после смерти вождя пошатнулась система. И для Дворжецкого это стало серьезным проникновением в психологию человека, который попадает в экстремальную ситуацию, связанную, а для него это было важно, с тем, что творится вокруг, в стране. Вацлав Янович всегда связывал роль с тем, что она отображала, мировоззрение персонажа всегда имело для него огромное значение.

Мы с Вацлавом Яновичем вместе ставили пьесу Симукова «Девицы-красавицы» о заводских девушках. Он играл старого рабочего-наставника. Всех удивляет, когда я рассказываю, что он играл рабочего или председателя колхоза, а потом – Каренина или Вронского. Но надо сказать, что он и в жизни был такой человек, легко общался с людьми абсолютно не похожими друг на друга – и с профессурой, и с простыми людьми, которые называли его «Василий Иванович», потому что «Вацлав Янович» им трудно было произносить. Итак, он играл мастера, наставника девиц, а в них Дворжецкий толк понимал, это было весьма забавно…
Вот так в Омске завязался этот узел – на Программа спектакля «Девицы-красавицы» всю жизнь. Тогда же я увидела, как широк круг его интересов, помимо театра. А не зря говорится: первые впечатления очень важны, и то, что мне только приоткрылось в Омске, дальше развивалось и развивалось. Чем бы он ни был занят, занимался этим с полной отдачей. Например, теперь мы все об этом отзываемся с юмором, с насмешкой, но это была жизнь – всех нас заставляли заканчивать университет марксизма-ленинизма. Я это сделала одной левой – только что пришла из института, и мне это ничего не стоило. А над Вацлавом Яновичем я постоянно иронизировала, так как он конспектировал все работы «классиков». При этом доводил меня до белого каления, потому что с кем еще можно было полемизировать? Только со мной, естественно. В силу многих причин: во-первых, он уже понял, что не всегда и не всем можно высказывать во всеуслышание то, что думаешь, во-вторых, я была экспертом, поскольку только что вылетела из-под крыла профессуры. Но с какой тщательностью, с какой ответственностью, причем неформальной, он изучал всякие «антидюринги», осмысливая их, вступая в полемику, на всё имея свою точку зрения! И параллельно с этим своими руками он строил яхту.
Потом у нас появилось новое увлечение: мотоспорт. Мы приобрели мотоцикл БМВ без коляски. Сели на мотоцикл и поехали. Надо сказать, что с ним мне ничего не было страшно, абсолютно ничего. То, что у нормального человека должно было вызывать опасение, страх, куда-то улетучивалось. Дворжецкий – человек волевой, увлеченный, умел рассказать и преподнести всё таким образом, что окружавшие развешивали уши, раскрывали глаза и получали море удовольствия. Итак, сели мы на мотоцикл, мчимся по городу, и я чувствую, что мы что-то очень долго едем, едем и, наконец, врезаемся в забор рынка и останавливаемся. Слава Богу, без членовредительства. Дворжецкий сказал: «Знаешь, а я ведь первый раз сел на мотоцикл». Он просто не знал, как затормозить.
Было, конечно, много всяких волнующих историй, связанных с мотоциклом. Как-то поехали за город, и из-под седла стали вылетать гайки. Я сижу сзади, держусь за него, а гайка с одной стороны выскочила, с другой стороны выскочила. Я тормошу Дворжецкого – он не слышит. Все-таки остановились, посмотрели. Мотоцикл был немецкий, очень хороший, но, как водится, побывал в наших руках, и, оказывается, гайки были недостаточно хорошо прикручены. Всякое бывало. Потом у нас появился мотоцикл с коляской, это уже была просто разъезжающая ложа.
Жизнь вокруг нас бурлила и кипела. В это время начали происходить всякие серьезные катаклизмы. В марте не стало нашего незабвенного «отца, учителя и друга всех народов». Помню, мы вышли из театра и шли почему-то не домой в Газетный переулок, а к почтамту. Я получала все письма до востребования. Встретившийся нам актер эту новость сообщил. Слез у нас не было, не поверили. Вернулись в театр, там уже все всё знали. А через энное время сняли портрет Берии. Ну, опять очень «расстроились», как вы понимаете.
Вацлав Янович отдал Омску восемнадцать лет творческой жизни, в Омском драматическом театре проработал, за вычетом лагерей, около одиннадцати. Туда его пригласила художественный руководитель театра Лина Семеновна Самборская. Это была чрезвычайно колоритная личность. О ней и об атмосфере, царившей тогда в театре, Вацлав Янович рассказывал в беседе с критиком Александром Свободиным.
«Самборская – это было чудо. Она не допускала никакого амикошонства. Требовала, чтобы актеры на улице, где угодно вели себя не так, как „окружающее население“.
Однажды я получил от нее выговор в приказе за то, что из театра нес домой в общежитие два ведра воды. Представляете: я в шубе с бобровым воротником, в бобровой шапке иду с ведрами. Все оглядываются, смотрят: «Вот это – Дворжецкий! Ведущий актер!» Я был известен, имя на тротуаре писали, девчонки всякие окружали, поклонников было полно. И Самборская напомнила мне, как актер должен вести себя в жизни. Ее муж, Шевелев, тоже был режиссером, хотя не имел никакого отношения к театру. Она ему помогала, если нужно. Это был красивый мужчина, высокий, стройный, с крупной челюстью. И у них была пролетка с кучером, кобыла. Пролетка проезжала, и все в городе видели: едет Самборская, главный режиссер, сидит, не оглядываясь по сторонам, направляется в театр. Бывало, так улыбнется всем – в 360 зубов. Одета обязательно как полагается. Навстречу выходят люди, снимают шляпы, целуют руку, в проходе открывают двери, пошла… Такой ритуал. Но, между прочим, если было нужно, она на сцене могла матом покрыть и рабочих, и тех, кто там напорол, и еще кого-то. Гром гремел, «завтра выгоню из театра, и всё!» Вот такой художественный руководитель театра. А когда она выходила на сцену в «Анне Карениной» читать текст от автора… Сидела у рояля, играла и говорила: «Всё смешалось в доме Облонских…» Это было чудом».
Оставаться дольше в Омске Дворжецкий никак не хотел, и меня тоже тянуло уехать. О Москве речи быть не могло, потому что его туда никто бы не пустил. Как только мы об этом заикнулись, в управлении культуры сказали: «Нет. Вас, Рива Яковлевна, мы задерживать не можем, потому что вы три года отработали, а Вацлав Янович плотно занят во всем репертуаре, и мы сможем его отпустить только через два сезона». Мы решили, что другого выхода всё равно не будет. Поэтому я (напоминаю, был 1953 год) подала заявление об уходе, и нам в управлении культуры какая-то дама дала слово, что через два сезона она его отпускает.
И я уехала. Два сезона проработала в Москве. Там о моем браке родным уже было известно, причем мама узнала, что ее дочка вышла замуж, весьма странным путем. Приехал мой двоюродный брат из командировки, из Алма-Аты, а ему, в свою очередь, рассказал один сослуживец, что, мол, был в командировке в Омске, там театр замечательный. И есть такой артист, который очень понравился, он женился на молоденькой девочке, режиссерше. А у брата лицо так и вытянулось: он знал, что я в Омске. Вернувшись в Москву, он пошел к маме,, она вырастила всех папиных племянников, которые остались сиротами, и сказал: «Тетя, я как-то от вас не ожидал! Такое событие, а вы….» Она в ответ: «Какое событие?» Он маме и рассказал о том, что я вышла замуж.
Мама была мудрой женщиной и всегда говорила: «Предупреждать и высказывать неудовольствие нужно всегда до того, как что-то свершилось. А если уже свершилось, то надо только помогать». И когда Вацлав Янович появился, они подружились, и он к маме очень нежно относился. Как-то, когда я была в Омске, он приехал в Москву. Сидят, обедают, еще кто-то в гостях был. Квартира была коммунальная, большая. Звонок в дверь. Соседка впустила молодого человека, который, войдя в комнату, начинает объяснять: «Я приехал сейчас из Казани, а мои родственники из Минска…» Мама говорит: «Знаете что, вот рядом ванная, вымойте руки, сядьте, пообедайте, а потом вы нам всё расскажете». Вацлав Янович, вернувшись в Омск, говорил друзьям: «Ребята, если кто приедет в Москву и негде будет пообедать, придите и сообщите: «Я родственник». Вы только откроете рот, и вам скажут: «Садитесь кушать». Вас хорошо покормят, а потом уже расскажете, кто вы такой».

Короче, прошло два сезона, я, правда, ездила в Омск, ставила по приглашению спектакль в ТЮЗе, потом мы встречались на театральных конференциях, я специально ездила из Москвы, а он из Омска. Так два года кантовались. Многие рассчитывали, что раскантуемся вообще. И в это время я получила приглашение от Н. А. Бондарева, главного режиссера Саратовского областного драматического театра им. Карла Маркса. Первая встреча с Бондаревым была очень интересной. Николай Автономович пригласил меня в гостиницу «Москва». Он там остановился со своей женой, драматургом Елизаветой Максимовной Бондаревой. Когда я появилась, она сразу вышла в другую комнату (номер был люкс), и мы остались вдвоем. Это был высокий, сутуловатый мужчина, с круглой головой, умными и чуть хитрыми глазами. Я понимала, что представляю не только себя, поэтому очень волновалась. И он мне рассказал, что принимает театр, что слышал много хорошего об артисте Дворжецком и обо мне тоже не так плохо говорили, и поэтому он предлагает нам переехать в Саратов. Я, конечно, в какой-то степени робела, но старалась никак этого не показывать. Он задавал всякие вопросы, просил рассказать о Вацлаве Яновиче подробнее.
Как потом уже в Саратове мне говорила Елизавета Максимовна, она ходила по соседней комнате и думала: «Ну что же он так долго мучает эту девчонку, и вообще что это за режиссер – тоненькая, худенькая, так, в общем, ничего девочка, но все-таки девочка». И мы дали согласие: девочка – в качестве режиссера, Вацлав Янович – в качестве актера.
В Саратове мы получили квартиру во дворе театра. С Вацлавом Яновичем приехал в Саратов и Владик, он тогда учился в девятом классе. Дружба наша становилась глубже и сердечнее, и я понимала, что он очень тянется ко мне. Во-первых, у него было ощущение не очень большого возрастного разрыва, во-вторых, с папой отношения складывались всегда непросто, потому что жили отдельно. Владик жил у мамы, а иногда у отца. Но все равно трещина, естественно, для мальчика осталась. А мы с ним очень близко сошлись, я его любила. Мальчик был сложный, потому что обстоятельства его жизни не способствовали формированию простой и легкой личности. Он поступил в школу, и началась наша саратовская жизнь и работа.
Для дебюта артиста Дворжецкого был выбран спектакль «Великий государь», где Вацлав Янович играл Ивана Грозного. В театре это событие обставили очень красиво и празднично. А накануне дебюта, утром он говорит: «Мы уезжаем на охоту, сколько тебе лисиц привезти? Пяток хочешь?» – «Нет, это много, мне трех вполне достаточно».
На том и порешили. Компания любителей охоты и рыбалки там сколотилась очень быстро, и они уехали. И что вы думаете? Открывается дверь рано утром, и к моим ногам падают три рыжие лисы. Я, конечно, была ошеломлена. Все говорили: «Теперь тебе будет шуба из мехов». Всё-таки лис этих отдали в охотничье общество, никаких мехов не было, но факт такой был. И это всё к характеристике того, как он работал. Перед дебютом ему нужен был допинг: глоток свежего воздуха, лес, размяться физически, а потом он сыграл спектакль, сыграл очень хорошо. И город, и театр сразу его приняли. В театре появилась стенгазета со стихами:
Привет Дворжецкому Вацлаву
Он и охотник, и артист.
Сыграл он Грозного на славу
И в тот же день убил трех лис.

Так замечательно встретили его в Саратове. Первые два сезона были просто удивительными. Николай Автономович – очень интересный режиссер, волевой и абсолютно независимый человек. Я это подчеркиваю, потому что, надеюсь, помните, что это были за времена – 1955 год. А через два сезона Николай Автономович, напрочь разругавшись с руководством обкома, хлопнул дверью и уехал из Саратова.
Работа шла чрезвычайно интенсивная. Среди ролей, сыгранных Дворжецким в Саратове, стоит выделить Ивана Грозного, Крутицкого в «Не было ни гроша, да вдруг алтын» – это в моей постановке, что мне было особенно приятно. Сыграл инженера Забелина и был сорежиссером в спектакле «Кремлевские куранты». И когда Николай Автономович уехал, он восстанавливал спектакль. Были такие примечательные работы, как адмирал Макаров в «Порт-Артуре», Каренин в «Живом трупе», Неизвестный в «Маскараде», в «Чудаке» Назыма Хикмета – Наджеми. «Чудак» – мой первый спектакль в Саратове, притом он был освещен моей встречей с Назымом Хикметом. Я приехала в Москву, когда готовилась к постановке, и нас познакомили. Три раза я была у него в гостях, и эти встречи незабываемы. Таких красивых людей можно пересчитать по пальцам: высокий, голубоглазый, пепельно-русые вьющиеся волосы. В беседах с ним чувствовалась удивительная теплота и доброта, невероятная эрудиция, образованность, несмотря на то что он столько времени провел в тюрьме. Поэтому спектакль для меня был одним из самых значимых в моей режиссерской биографии.
Надо сказать, что труппа в театре собралась первоклассная. Было много интересных, сильных артистов, вошедших в историю русского театра. Тогда еще работал такой кряж, монумент русского театра, как Степан Муратов. С ним был очень смешной казус. Он репетировал у меня в спектакле «Светит, да не греет» купца Восьмибратова, и у него был огромный монолог. И я просто уже из себя вылезаю, даю ему задания, высказываю пожелания, просьбы, пытаюсь анализировать, подсказывать – и чувствую, что уже иссякаю, а воз и ныне там. В полном отчаянии говорю: «Степан Михайлович, ну, пожалуйста, теперь вот сядьте и просто расскажите, что там с вами произошло». И когда он начал рассказывать, у меня отвалилась челюсть, настолько было замечательно и точно то, что мне хотелось раскрыть в этом монологе. Муратов был актером стихийного дарования, очень красивый, мы все говорили, что он как пароход, который ходит по Волге и носит его имя. Там же я сделала свои первые педагогические шаги, набирая студию при театре.
Нам очень повезло, потому что создалась хорошая, дружная когорта людей, которые понимали друг друга, а Бондаревы были к тому же очень хлебосольными. Мы собирались вместе не ради застолья. Люди театра не могут не разговаривать о театре, где бы они ни находились. Они дают обет: будем говорить обо всем, только не о театре, но через пять минут начинается то же самое. Это естественно.
Жили мы эти два года творчески интересно. Приезжала масса критиков, анализировались, разбирались спектакли и роли, жизнь била ключом. Ну и, конечно, охота и рыбалка. У нас во дворе жили три так называемые подсадные утки для охоты, одну из них, серенькую, рябенькую, звали Маруська. Тогда же у нас появилась замечательная собака. Вацлав Янович называл ее «сеттер Блютельтон, Каро де Лаверак». Даже в одном из охотничьих журналов был портрет этого самого Каро и подпись: «Собака Дворжецкого».
Однажды Вацлав Янович возвращается с рыбалки с рюкзаком за спиной. У нас в квартире был квадратный холл, три двери из этого холла и поворот в маленький коридорчик, в ванную и кухню. Он входит и говорит: «Ты дай мне полотенце, а я сразу в ванную, потому что сапоги грязные». Я прошла в комнату за полотенцем, а потом вхожу к нему и замираю: в ванне лежит осетр желто-розового цвета и занимает ее всю. Вы представить себе не можете, что это за рыба, когда видишь вот так, рядом. Вацлав Янович сам его разделал, в нем было 4,5 кг черной икры, он ее протер через металлическую сетку, посолил, все сделал как положено, а я сварила из головы уху. Я такого янтарного цвета никогда потом вообще не видела. Посолила, попробовала – живой керосин. Мы тут же, конечно, всё вылили, а тушка оказалась хорошей.
Было много всяких интересных событий, одно из них – появление у нас «москвича». Это сейчас машина не фокус, а вполне естественное явление. Даже наоборот, «москвич» уже становится неестественным явлением, а тогда это «нечто», так мало было персональных машин. Это длиннющая эпопея: встали на очередь в Москве, отмечались, наконец, мы его получили, пригнали в Саратов. Разумеется, сразу захотели учиться. Выехали за город. Я села за руль, не рядом с мужем, конечно, – сидеть рядом с ним, когда учишься, дело просто опасное, – и сразу поехала. Кстати, я потом так и не стала водить машину, потому что поняла: если буду за рулем, то конфликтам и нервотрепкам не будет конца… Хотя потом Вацлав Янович меня упрекал, когда стал терять зрение: «Вот, ты не водишь машину… Так бы мы продолжали ездить».
С появлением машины открылись еще большие возможности. Причем надо сказать, что наша страсть к путешествиям сохранялась очень долгие годы. Началось это с 1954-го, еще в тот период, когда я была в Москве, а Вацлав Янович – в Омске, и мы вместе поехали в Сочи. Наше первое путешествие было замечательным. Мы приехали в Сочи рано утром, поезд пришел в четыре часа утра. Город весь спал, а мы сразу пошли к морю. Стоял штиль, море чуть-чуть волновалось. Так называемый цвет морской волны. Словами его описать невозможно, потому что он то чуть зеленоватый, то голубоватый, переливающийся. Чуть-чуть уже светало, и на горизонте появилось такое розовое покрывало, которое начинало стелиться по морю, а на рейде – парусник «Товарищ». Зрелище незабываемое. У Вацлава Яновича была путевка в санаторий, и мы сняли рядом, буквально через забор от санатория, застекленную веранду, на которой я жила. В это же время в санатории отдыхал один из лучших комиков свердловской оперетты Маринич, который каждый раз брал нам билеты в кино и говорил: «Ваша дочечка тоже пойдет?» Мы очень много ходили, гуляли, лазили по окрестностям. Это было замечательно. У меня есть фотография, где мы вдвоем стоим на камне. Сейчас на это смотреть грустно: какие-то другие люди стоят.
В саратовский период были очень интересные гастроли, почему я и вспомнила о путешествиях. Когда, например, театр поехал в Ригу, мы наш мотоцикл погрузили вместе с декорациями, и в то время как артисты, бедные, мучились, когда им куда-то надо было поехать и посмотреть, мы на мотоцикле объездили всю Латвию. Очень помогало то, что Вацлав Янович разговаривал по-польски и у него была фуражка белая, парусиновая, с околышем. Такие фуражки были тогда еще не в моде и сильно напоминали западные, поэтому никаких вопросов нам не задавали. Театр хорошо принимали. И местное театральное общество с таким вниманием, пониманием, стремлением к тому, чтобы нам было удобно, интересно, заботилось о нас, с любовью показывали город. Когда прошел первый спектакль и артистам подарили по два-три цветочка, мы были в недоумении: «Как, а где букеты?» – тогда в России этого не было принято. А в Прибалтике уже тогда всё было на западный манер.
Так прошли два года в Саратове. Одним из лучших для Дворжецкого был спектакль «Соперницы», который поставил Николай Автономович по пьесе жены. Вацлав Янович играл председателя колхоза. Этот спектакль во многом определял успех театра. Там играли очень хорошо Юрий Иванович Каюров и замечательная актриса, тогда еще очень молодая, очаровательная, потом она тоже играла в Москве, Лиля Шутова. Такое очаровательное женское обаяние, тепло, задор и отдачу я потом очень редко встречала у молодых актрис. «Соперницы» был веселым и умным спектаклем: все проблемы, которые тогда возводились в абсолют, были построены таким образом, что при желании можно было увидеть и негативные, и достойные иронии явления. И вот однажды Дворжецкий, возвратившись с рыбалки, тут же пошел на репетицию. На нем была старая военная фуражка, и во время репетиции, когда он ее снял, у него оказались абсолютно белые большой лоб и лысина в контрасте с загорелым лицом – он же на рыбалке был. Все, конечно, с полчаса смеялись. А потом это стало гримом, он так и гримировался.
Вацлав Янович придумал много трюков, например, попадал в лужу и выливал воду из сапога! Все получали массу удовольствия от его фантазии. Было интересно, весело, накопилось много впечатлений.
Помню первый свой спектакль. Я всегда любила перед премьерой заходить в гримерку к актерам, так и в тот раз зашла к актрисам. Они мне: «Знаете, Рива Яковлевна, ведь сегодня вся профессура города здесь». Я говорю: «Да, хорошо, очень приятно». А потом они мне рассказали, что в Саратове существует традиция: на премьеры приходит профессура, местная интеллигенция, и к мнению этой публики город прислушивается. Ни в Омске, ни в Нижнем Новгороде потом никогда такого не было, а тут я вышла в зрительный зал и поняла – да, сидит профессура в первых рядах. В Саратове в то время была очень сильная консерватория, туда приезжали прекрасные музыканты, Нейгауз и другие. Город жил очень интересной жизнью. Оперный театр, отличная картинная галерея, и надо сказать, что фраза из Грибоедова «…в деревню к тетке, в глушь, в Саратов» тогда уже не соответствовала действительности. Но во всяком случае город гораздо размереннее, спокойнее, менее грубый, менее резкий, чем Нижний Новгород, а зритель был исключительно доброжелательным. Рядом работал в апогее славы, в расцвете творчества Саратовский ТЮЗ, которым руководил Юрий Петрович Киселев. Это был очень интересный театр, с отличными спектаклями. Во многом он конкурировал с нами и репертуаром, и отношением к основам драматического творчества.
После ухода Бондарева в 1957 году началась годовая, я бы сказала, «страдательная» пора. Пришел человек, первый шаг которого меня, несмотря на то что я по натуре склонна к дружбе и во всяком случае к терпимости в отношениях с людьми, поверг в невероятный гнев. Он восстановил чужой спектакль и на афише даже фамилии постановщика не указал. Отсюда началось неприятие этого человека, хотя он был очень хороший актер, гораздо сильнее, чем режиссер. И у нас возникло желание покинуть Саратов во что бы то ни стало. Было много всяких неприятных вещей, в таких условиях жить и работать просто не хотелось. В театре стало неинтересно, а у нас сил еще было очень много.
К этому времени Владик закончил школу. Как-то пришел домой, тогда он учился в десятом классе, и сказал: «Надо кому-то пойти, папе или тебе, в школу, у нас день открытых дверей, и рассказать о том, что такое профессия актера или режиссера». Папа заявил: «Я не пойду», – пришлось вызваться мне. Пришла в школу, в одной комнате собрали сразу два выпускных класса, сидят близко друг к другу… За третьей партой – Владик, вижу, что он нервничает. Ужас! Я никогда не видела его в таком состоянии, он волновался, какое я произведу впечатление. Но все прошло благополучно. Он, бедненький, потом ко мне подскочил: «Я знал, я понимал, что все будет нормально, но я так волновался! Спасибо тебе».
Владик кончил школу и уехал в Омск. Только после выяснилось, почему отъезд был такой неожиданный. Он хотел поступить в мединститут, а отец девочки, в которую он был влюблен (девочка была совершенно прелестная, теперь она очень хороший кардиолог), был там профессором. Потом Владик мне объяснял: «Ты представляешь, если бы я пошел сдавать экзамены в мединститут и провалился? Как мне было бы стыдно!» И он решил исчезнуть, уехать в Омск. В Омске он поступил в военное медицинское училище, закончил его и уехал на Сахалин, где проработал несколько лет: был заведующим аптекой, акушером, принимал роды, принял 84 ребенка. Потом вернулся в Омск и закончил там театральную студию.







