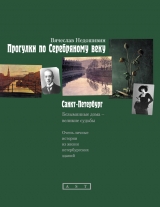
Текст книги "Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург"
Автор книги: Вячеслав Недошивин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Не буду томить тебя, читатель. О любви Ахматовой к Князеву скажет как раз осведомленный Сергей Судейкин. Скажет в Крыму, накануне эмиграции. В «Дневнике» новой жены его, Веры Шиллинг, который опубликован только в 2006 году, он на чей-то вопрос об Ахматовой вдруг заговорит о ее «любовных неудачах». Среди имен Блока, Зубова, Лурье назовет и имя Князева. Ошибка? Вряд ли. Ведь с Блоком у Ахматовой и впрямь ничего не было. Имя графа Зубова, основателя Института истории искусств, Ахматова сама занесет в свой «донжуанский» список, когда начнет составлять его с Павлом Лукницким в Мраморном. А с Лурье, живя в Мраморном же, вновь сойдется, уйдя от Шилейко, о чем рассказ еще предстоит. Так что ее любовь к Князеву, по всей видимости, правда. Хотя она, повторяю, всю жизнь будет как бы затушевывать эту «любовь», ссылаться на «похожие» истории. Например, на самоубийство (за два года до Князева) ее поклонника Линдеберга, вольноопределяющегося артиллерийской батареи. «Всеволод (Князев) был не первым убитым и никогда моим любовником не был, – напишет в комментариях к поэме, – но его самоубийство было так похоже на другую катастрофу, что они навсегда слились для меня». Странно, не так ли? Ведь если Линдеберг любил ее, а она – Князева, который ее отверг, то в чем же похожесть? Только в том, что оба застрелились? И какая тогда из двух «катастроф», простите за цинизм, стала для нее катастрофичней? Не потому ли она все чаще станет говорить и о своем желании смерти? «Заживо разлагаюсь, – смеялась в Мраморном дворце, – пора на Смоленское». И даже скажет: «Так хочется умереть!.. Когда подумаю об этом, такой веселой делаюсь!..»[23]23
Эти слова о желании смерти она будет произносить и позже. Н.Мандельштам вспоминала, как Ахматова однажды сказала об этом литературоведу и общему другу их Н.Харджиеву. «А ему, – пишет Н.Мандельштам, – надоело это слушать, и он вдруг как-то сказал: “Бросьте, Анна Андреевна, вы очень любите жизнь, вот поверьте мне, вы до старости доживете и всегда будете прыгать...”» Она вдруг замолчала, пишет Мандельштам, и очень внимательно на него посмотрела. «Ведь мы же знали, – заканчивает Н.Мандельштам, – ее неслыханную, необъяснимую, неистовую жажду жизни... Она впивалась в жизнь, она когтила жизнь, каждый глоток воздуха был для нее не просто вдохом, а каплей жизни, впитанной... и истраченной с диким вожделением...».
[Закрыть] Наконец, не потому ли и вырвутся у нее потом слова про замужество с Шилейко: «К нему я сама пошла… Чувствовала себя такой черной, думала, очищение будет…»
Впрочем, «черной» она успеет стать и в Мраморном дворце. Ибо здесь, будучи замужем за Шилейко, ухитрится начать сразу три романа. Один очень известный – с будущим мужем, Николаем Пуниным, второй – с Артуром Лурье, в котором опять будет соперничать с вечной подругой, Судейкиной, а третий – тайный до недавнего времени – почти с мальчиком. Если Князев, к примеру, был младше Ахматовой на три года, то он – на одиннадцать лет. Именно с ним при первой встрече в Мраморном Ахматова и упадет, как я писал уже, в обморок. Так вот имя его – Павел Лукницкий. Павлик, Павлуша…
Он появился в ее жизни внезапно. Это случилось 8 декабря 1924 года. Вечером он, долго круживший вокруг Мраморного дворца, поднялся на второй этаж и постучал в дверь квартиры Шилейко. Стучал громче, чтобы побороть робость перед ней – великим поэтом и бывшей женой Гумилева. Собственно, за материалами о Гумилеве – его идоле – и пришел: он писал курсовую о поэте в университете[24]24
Павел Николаевич Лукницкий (1900-1973), ставший «Эккерманом» Ахматовой, родился в дворянской и состоятельной семье. Отец – военный инженер, генерал-майор, доктор технических наук, строитель Волховской ГЭС, мать – художница, увлеченная техникой (в молодости даже летала на самолете с Уточкиным и была одной из первых женщин-автомобилисток). Сына отдали в Пажеский корпус, он вместе с матерью успеет побывать в Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Италии, Греции. В феврале 1917 г., оставит учебу, прибавит себе два года и станет рабочим – сначала на строительстве железнодорожного моста, а в шестнадцать лет – помощником машиниста паровоза. Потом работал продавцом газет, слесарем, грузчиком, кочегаром, строил железные дороги в Средней Азии. В Ташкенте, в университете, познакомится с Б.Лавреневым, а в 1922 г. переведется в Петроградский университет. Именно тогда «заболеет» Н.Гумилевым, о котором соберет редкий по богатству архив, названный им «Труды и дни». В 1929 г. был на три дня арестован ОГПУ (о чем я еще расскажу). Пишут, что тогда и стал секретным сотрудником органов. Возможно, это слухи. Но, во-первых, ему в 1930-х было почему-то поручено руководить укреплением пограничных районов. Во-вторых, на него как на «секретного сотрудника» намекнет генерал КГБ О.Калугин, который читал «дело» Ахматовой, уничтоженное в начале 1990-х гг. А в-третьих, об этом говорил сын А.Ахматовой, Л.Гумилев, который прямо называл П.Лукницкого «майором КГБ при моей матушке»... П. Лукницкий, порвав с Ахматовой, станет членом КПСС, членом Союза писателей (издаст более тридцати книг) и действительным членом Географического общества СССР. Добьется известности как путешественник и альпинист (его именем назван пик на Памире, а другую вершину он уже сам назовет «Ак-Мо» – так зашифрует имя Ахматовой в годы забвения ее при жизни). Во время войны уйдет добровольцем на фронт. А в 1948 г. встретит в поезде девушку по имени Вера, которой начнет читать стихи Н.Гумилева. В поезде они и поженятся. «Прямо в вагоне дальнего следования, – напишет она, – пригласил пассажиров на вагонную нашу “свадьбу”». Ему было 46, ей – 21 год.
[Закрыть].
«Стучал долго и упорно, – вспоминал позже, – но кроме свирепого собачьего лая… никого. Ключ в двери – значит, дома кто-то есть. Подождал минут пятнадцать, собака успокоилась. Постучал еще, собака залаяла, и я услышал шаги. Открылась дверь – и я повстречался нос к носу с громадным сенбернаром. Две тонких руки из темноты оттаскивали собаку… Глубокий взволнованный голос: “Тап! Спокойно! Тап! Тап!” Собака не унималась. Тогда я шагнул в темноту, – пишет Лукницкий, – и сунул в огромную пасть сжатую в крепкий кулак руку. Тап, рыкнув, отступил, но в то же мгновенье я не столько увидел, сколько ощутил, как те самые тонкие руки медленно соскальзывали с лохматой псиной шеи, куда-то совсем вниз, и я, едва успев бросить свой портфель, схватил падающее, обессиленное легкое тело». Нащупывая ногами в полутьме свободные от книжных завалов места, он осторожно донес Ахматову до кровати… Так и познакомились – на пять долгих лет. И так начался этот скрытый на восемьдесят лет роман их.
Будущая жена Лукницкого напишет: он сразу, с первой минуты «понял… что эта женщина его, живая, она его не упустит – не отпустит. Да он и не уйдет… А там – будь что будет…»
Что мы знали об их отношениях раньше, до недавней публикации «интимного», да еще «зашифрованного» (с выдуманными именами) дневника Лукницкого? Знали, что он был «при Ахматовой» мальчиком «на посылках», верным помощником, порученцем, иногда секретарем ее, иногда фотографом – он любил и умел фотографировать. Он пять лет ходил с ней по магазинам, встречал и провожал ее, мерил ей температуру, покупал лекарства, получал по доверенности деньги (в том числе и за Шилейко), бегал, если требовалось, в жилконторы за справками, выгуливал их собаку. Даже обеды, приготовленные его матерью для Ахматовой, привозил на велосипеде, и он же ходил в Эрмитаж с сыном ее, Левой, когда того привозили из Бежецка. А однажды вообще ездил в Бежецк по ее просьбе. И при этом вел два дневника. Один, превратился в давно опубликованную книгу «Acumiana» – редкую по подробностям ежедневную запись жизни Ахматовой (более 2000 встреч), а второй стал дневником их любви, о которой до этого можно было лишь догадываться. За год до смерти Лукницкий напишет: «Эту тетрадь совершенно интимных записей, сделанных мною в 20-х годах, теперь можно раскрыть, так как все “действующие лица”, кроме меня, давно умерли». И расшифровал имена тетради, где Ахматова была Бахмутовой, Гумилев – Волевым, а Мандельштам – Мантовичем…
В первом дневнике он пишет, как она топила печь (это занятие называла «хорошим и приятным»), как приходила к нему домой (Садовая, 8) и в какой дырявой, «очень ветхой» сорочке он заставал ее в Мраморном. «И разве не позор, – возмущался в первом дневнике, – что Ахматова не имеет 7 копеек на трамвай, живет… в сырой и чуждой квартире?» Однажды он даже сказал ей об этом. Ахматова застыла и тихо, но решительно сказала: «Мы с вами тысячу раз об этом говорили, и тысячу раз я вас просила не заговаривать об этом. Идите и не провожайте меня. Каждый человек живет так, как может!..» А в другом дневнике она отнюдь не столь сурова – ласково зовет его «белоголовым», «деточкой», «милушечкой» и спрашивает: «Сладко тебе говорить мне “ты”?», «Ты меня не предашь другой девочке?» В первом дневнике пишет: «И опять скучный Тап, и опять примус… Опять бульон и курица на ночном столике АА, и она в чесучовом платье. Под одеялом, с распущенными волосами и белой-белой грудью и руками. И справа от нее на постели, у стены – книги, записки, заметки…» А в другом – что «под чесучовым платьем – ничего нет… Ушел в 3 часа… Губы хищные…»
Все началось у них спустя два месяца после встречи – 22 февраля 1925 года. В час ночи. «Складываю бумаги, – пишет он, – перекладываю с места на место на столе… “Всегда, когда час ночи, уходить надо!..”» – «Выкурим по папироске», – предлагает она. Как уж соединились их руки в ту ночь, неведомо, но, разглядывая ее жилки у кисти, он вдруг услышит – это та вена, которую вскрывают молодые девушки. И тут же на другой руке ее заметит «крестообразный, тонкий шрам». «И вы?» – изумится. «Ну конечно, – ответит она. – Кухонным грязным ножом, чтоб заражение крови… Мне шестнадцать лет было… У нас у всех в гимназии – у всех, решительно – было…» «Я встал, – пишет Лукницкий, – подошел к ней вплотную, поднял ее с кресла – легко, и отнес, положил на постель…» «Вы будете говорить, что Бахмутова вас соблазняла? – засмеялась она. – Я страшная… Я ведьма… У меня всегда глаза грустные, а сама я веселая… Ну что, ну что, ну что…»
Такой вот дневник. И это далеко не самая сокровенная сцена его. Но ведь мало кто из ахматоведов упоминает о второй ее попытке покончить с собой – первый раз хотела повеситься, как помните, в пятнадцать лет, а через год (это было в Киеве) – вдруг кухонный нож и «крестообразный шрам». И ни один до публикации этих записок не писал того, что она сказала Лукницкому, – что у нее «детей не может быть». А я к тому же был поражен еще, признаюсь, тем фактом, что она, как пишет Лукницкий, каждый день до пояса мылась водой. Он испугался – простудитесь. «Я никогда не простужаюсь, – ответила ему. – Всегда так делаю… За всю жизнь я ни разу не простудилась…» Я другим был поражен – я уже прочел, уже знал, что и Цветаева всю жизнь по утрам мылась до пояса холодной водой. Одни привычки окажутся у двух великих поэтесс…
Да, впервые Лукницкий пришел в Мраморный 8 декабря 1924 года. И ровно 8 декабря, но в 1929-м, войдет сюда в последний раз. «Судьба выдумывает страшные юбилеи», – запишет. Придет помочь ей забрать отсюда последние вещи. Из чувства долга – ибо был уже другим. За полгода до этого, в июле, его арестовали (кажется, за хранение архива Гумилева), и, хотя в тюрьме продержали лишь три дня, он выйдет из нее другим. «Я понял: мировая коммунистическая революция, которая сейчас совершается, – права и дело ее священное… Сколько драгоценного времени, энергии и сил потеряно. Все никак не мог уйти “из барских садоводств поэзии”, из “соловьиного сада”». Это от нее не мог уйти. Через тридцать три года, в 1962 году, за четыре года до ее смерти и за одиннадцать до его (он ведь и был младше ее на одиннадцать лет), они увидятся в Доме творчества в Комарове, и он назовет их прожитую жизнь «разнобережной»[25]25
«Я рад, – напишет в письме к Ахматовой, – неделе общения... после стольких лет разнобережной жизни... Между мною и Вами появилась тектоническая трещина внутреннего... несогласия в отношении... к окружающей нас “современности”. Мне показалось, что Вы не поймете того, что... открывалось все шире мне, не переступите через трагизм и боль нанесенных Вам этим новым миром обид... Но... Вы нашли в себе мужество, волю и разум подчинить личное общему...» Такое вот письмо.
[Закрыть].
Впрочем, вернемся в Мраморный. Отсюда Ахматова перевезла вещи в 1929 году. Бюро, два кресла, трюмо, столик, буфетик со стеклом. Вся эта мебель, оказывается, была из дореволюционной квартиры Судейкиных, когда они жили то ли в доме Адамини, то ли по новому уже адресу (Разъезжая, 16/18). И двуспальная, кстати, кровать, которая, как выяснится позже, была «с историей». Кровать короче обычной, и Ахматова могла лежать на ней только наискосок. Почему короче? Да потому что Олечка Судейкина, расставшись с Сергеем Судейкиным, получив от него и эту кровать, и всю их совместную «стотысячную обстановку» (так не без некоторой злости скажет потом новая жена Судейкина!), став женой композитора Артура Лурье, самолично отпилит от кровати кусок. Та, видите ли, не помещалась в какую-то нишу уже их с Лурье новой квартиры. Лурье, как рассказывала Ахматова Лукницкому, рассвирепел и купил новую кровать. А эта, “отпиленная”, перешла к Ахматовой. «Что же было дальше?» – спросил ее Лукницкий. Ахматова рассмеялась: «А ничего. Их семейная жизнь тем и кончилась…»
Кончилась, добавлю, не без помощи Ахматовой. И даже не без помощи Шилейко, который оказался чудовищно, фантастически ревнив. Вообще он называл Ахматову Акумой, что переводил как «нечистая сила», хотя по-японски, по мнению переводчика И.Иваницкого, это звучит и как «уличная женщина». Видимо, двойное, тройное толкование[26]26
Н.Пунин, оказавшись в Японии, написал оттуда Ахматовой: «Когда я немного познакомился с японским языком, мне твое имя “Акума” стало казаться странным... Я спросил одного японца, не значит ли что-нибудь слово “Акума”, он, весело улыбаясь, сказал: это значит “злой демон”, “дьяволица”... Так окрестил тебя В.К. (Шилейко. – В.Н.) в отместку за твои речи...».
[Закрыть]. Она же стала звать его в ответ – Букан. Когда-то, в стихах 1917 года, она ему написала о тяжелой доле быть его женой: «Ты всегда таинственный и новый, // Я тебе послушней с каждым днем. // Но любовь твоя, о друг суровый, // Испытание железом и огнем…» Позже напишет резче: «Если надо – меня убей, // Но не будь со мною суров. // От меня не хочешь детей // И не любишь моих стихов»…
Стихи ее, мне думается, он любил, и, возможно, все больше и больше. А вот ее, пожив с ней, любил, кажется, все меньше и меньше.
Сначала, еще до встречи ее с Пуниным и Лукницким, этот Букан страшно ревновал ее. Ревновал, представьте, не только к мужчинам – к стихам. Ревновал к письмам, которые принуждал, не читая, уничтожать, и даже к выступлениям ее перед публикой. Более того, из ревности он, уходя по делам из Мраморного дворца, запирал, вообразите, ворота на улицу, чтобы она не могла уйти. Как в средневековье!
А «спасали» ее из заточения в 1920-м как раз Судейкина и Артур Лурье (Лурье при советской власти стал комиссаром музотдела при Наркомпросе, который в те дни располагался – надо же! – в главном корпусе Мраморного дворца, по соседству с квартирой Шилейко). Уж как они договаривались с Ахматовой – неизвестно, но оба подходили к закрытым воротам и ждали ее… Створки этих огромных ворот целы и сегодня. Ныне их закрыть невозможно – они просто «вросли» в землю. А девяносто лет назад Акума была настолько тощей, что легко «выползала из-под ворот, как змея». На улице ее, смеясь, встречали Артур и Ольга. Факт, согласитесь, невероятный, но – красивый! Ответ Букану – «грозному» мужу! Историю эту со слов Артура приводит в своей книге И. Грэм, эмигрантская любовь Лурье…
Впрочем, я привел ее лишь потому, что Ахматова вновь сойдется с Лурье. Она уйдет от Шилейко. И начнутся ее отношения с Лурье еще здесь, в Мраморном. Правда, за четыре года до появления в жизни Ахматовой Пунина, который станет ее последним мужем, и Лукницкого.
И в Мраморном, только в квартире своего приятеля, сотрудника Академии материальной культуры Зографа, встретит свою новую любовь и Шилейко. Это гоже случится через четыре года. Встретит москвичку – Веру Андрееву[27]27
Вера Андреева (1888-1974) была на три года старше В.Шилейко. Окончив Московские высшие женские курсы, работала в Румянцевской галерее, а затем до 1949 г. – в Государственном музее истории искусств. Доцент Московского городского педагогического института. Написала докторскую диссертацию о влиянии древнекитайской живописи на живопись Раннего Ренессанса, но защитить ее из-за резко ухудшихся отношений между СССР и Китаем ей не позволили. Вышла замуж за В.Шилейко в 36 лет, когда он окончательно перебрался в Москву. В письмах Шилейко звал ее «графинюшкой», «птицей», «кенгурочкой», а когда она, будучи беременной, видимо, высказала некие ревнивые чувства по отношению к Ахматовой, написал ей: «Если ты полагаешь, что я вообще никогда больше не должен видеть Ахматовой, – напиши мне, мы об этом поговорим»... Правда, ревновал и саму Андрееву. Ей, не юной уже даме, писал: «Последний раз тебя прошу, Веруся: не показывайся никуда в коротких и открытых платьях. Это – крайняя моя просьба...».
[Закрыть], свою третью и последнюю жену.
Андреева приедет в Ленинград в командировку, и у нее с Шилейко вспыхнет роман. Он будет счастлив с ней, а она, пережив его на сорок лет, навсегда останется верна ему.
Ахматова ни до, ни после, увы, подобным «счастьем» похвастаться не сможет. Она как прежде – помните ее слова? – «никогда не знала, что такое счастливая любовь». Ведь даже Лукницкий, мальчишка, за два года до «идеологического» расхождения с ней, когда убежит из «барских садоводств поэзии» и «соловьиного сада», и тот напишет про нее в стихах: «И плакать не надо, и думать не надо, // Я больше тебя не хочу. // Свободна отныне душа моя, рада // Земле, и звезде, и лучу…»
Почему всегда было так – вот вопрос. Уж не потому ли, что, как признавалась раньше Ахматова, она «спешила жить и ни с чем не считалась»? Не потому ли, что, как «коршун», разоряла «чужие гнезда». Так скажет о ней Артур Лурье, который дважды за жизнь испытал на себе ее чары и который навсегда уедет от нее в эмиграцию…
Впрочем, любовь к Лурье – это новая история. И рассказ о ней – у нового дома Ахматовой.
…Жизнь ее будет еще позапутанней любого захватывающего детектива. Например, долгое время считалось, что брак ее с Шилейко был вообще мистификацией «горбоносого ассириолога». Дескать, не было официальной регистрации. Сама она на старости лет смеялась, что по тогдашним правилам, чтобы жениться, достаточно было заявить об этом в домоуправлении. Шилейко якобы сходил туда, подтвердил, что запись о браке сделана. Но когда потребовалось уведомить управдома о расторжении их брака, то этой записи не обнаружили вообще.
К счастью, это не так. На самом деле брак Ахматовой и Шилейко был заверен в декабре 1918 года нотариатом Литейной части, и был развод – в июне 1926 года[28]28
Правда, Ахматова после развода на какое-то время окажется вообще без фамилии. История изложена в письме П.Лукницкого к В.Шилейко от 4 января 1927 г. Написав ему, что он все перепутал с милицией и народными судами, что в Ленинграде не нашли их с Ахматовой брачного свидетельства, протокола суда и соответствующих записей в книге регистрации браков, Лукницкий сообщает Шилейко «страшный» факт. «1) А.А(хматова). не может пользоваться фамилией, ей не принадлежащей, – управдом отказывается прописать ее под фамилией Шилейко; 2) до внесения исправлений в трудкнижку А.А. не может пользоваться и фамилией “Ахматова", и управдом также отказывается прописать А.А. под этой фамилией; 3) в данный момент А.А. официально не имеет фамилии вообще, т.к. фамилия “Шилейко” от нее по суду отторгнута, а право ее на фамилию “Ахматова” не подтверждено никакими документами...» Следовательно, заканчивает П.Лукницкий, «исправления в трудкнижку А.А. могут быть внесены только тем Моск. Отд. ЗАГСа, которое внесло аналогичные исправления (отметка о разводе) в Вашу трудкнижку... А.А., не желая действовать... без Вашего ведома, обращается к Вам за содействием в разрешении этого вопроса...». Вот так. По моим подсчетам, она жила «без фамилии» – виртуально, как сказали бы ныне, – более полугода: от заочного развода в июне 1926 г. до января 1927 г. Именно тогда скажет: «У меня даже фамилии нет – этого уж, кажется, и у тягчайших преступников не отнимают...».
[Закрыть]. Разведут их в народном суде Хамовнического района Москвы, известна даже фамилия судьи – Кремнева. Так что «мистификация» мистика Шилейко – всего лишь легенда, очередная легенда Ахматовой[29]29
Легенд, которыми А.Ахматова «украшала» потом свою жизнь, как я уже говорил, – множество. Скажем, вспоминая о безумной ревности Шилейко, Ахматова позже, в Ташкенте, в эвакуации, сказала Т.Луговской, сестре поэта, что «ревнив» был и сенбернар Тап, который во всем копировал любимого хозяина. «Шилейко умер, прошло время траура, – пересказывала Луговская ее рассказ, – днем у Ахматовой собрались гости на чашку кофе. Как только сели за стол, на кресло Шилейко вспрыгнула собака. Шла общая беседа, но стоило только Анне Андреевне оживиться и вступить в разговор, как собака Шилейко, рыча, ударила лапой об стол, приподнялась и строго посмотрела на свою хозяйку. Анна Андреевна говорила, что ей стало очень страшно и что она этого взгляда никогда не забудет...» Еще одна легенда?
[Закрыть].
Но вот легенда или нет – слова, сказанные Шилейко о совместных годах их жизни? Он, который и после развода продолжал звать Ахматову в письмах «моя лебедь», «ласый Акум», «добрый слонинька», «солнышко», однажды, когда ученики спросили его: «Как вы могли бросить Анну Ахматову?» – ответил коротко и ясно: «Я нашел лучше…»
5. ЛЕСТНИЦА НА КАЗНЬ (Адрес пятый: ул. Чайковского, 7)
Как же туго перекручена, сплетена история иных петербургских домов! Какие поразительные пересечения случаются, как перекликаются в обычном адресе и повороты истории, и жизнь великих людей России…
Вот по этой улице, по улице Чайковского, тогда называвшейся Сергиевской, Ахматова спешила каждое утро на службу – на свою первую и, кажется, последнюю в жизни. Служила в бывшем Императорском училище правоведения (Фонтанка, 6), где учились когда-то композитор Чайковский, поэт Апухтин и любимый ею еще недавно Борис Анреп. В 1920-м именно здесь открылся Агрономический институт, в факультетскую библиотеку которого и пришла работать делопроизводителем Анна Ахматова. Потом, если верить документам, ее перевели на должность научной сотрудницы при библиотеке, а 7 февраля 1922 года уволили «по сокращению штатов».
Здесь, в библиотеке, нашел ее, к примеру, поэт Михаил Зенкевич (они знали друг друга когда-то по гумилевскому «Цеху поэтов»), «В библиотеке института тоже холодно, но не так, как в Публичной, – пишет он. – В небольшой комнате толпится кучка мужчин и женщин, одетых по-зимнему, – очевидно, библиотекари. “Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь Анну Андреевну Ахматову?” При этих словах из хмурой кучки библиотекарей отделяется высокая женщина и с улыбкой протягивает мне руку: Ахматова!.. Тут же, через коридор, ее комната с двумя высокими окнами, золоченым трюмо в простенке и большим камином. В комнате холодно, нет ни печи, ни даже буржуйки. “Затопите, пожалуйста, камин и подайте нам какао”, – отдает Ахматова распоряжение какой-то немолодой интеллигентной женщине, вероятно ухаживающей за ней из любви к стихам. Мы оба в зимних пальто усаживаемся в кресла, от дыхания идет пар, но камин вспыхивает и празднично трещит сосновыми дровами, и в руках у нас дымятся поданные на подносе фарфоровые чашечки. Да, она осталась все той же светской хозяйкой, как и в особняке, в Царском!..»
«Это какао, – скажет она Зенкевичу, – мне прислали из-за границы. Получили посылки я и Сологуб… от кого-то совсем незнакомого». Потом вдруг признается: «Последние месяцы я жила среди смертей. Погиб Коля, умер мой брат и, наконец, Блок…»
Зенкевич помолчит, а потом спросит ее: «Простите… нескромный вопрос. Но я уже слышал о начале вашего романа с Николаем Степановичем, и даже то, как он раз, будучи студентом Сорбонны, пытался отравиться из-за любви к вам, значит, мне можно знать и конец. Кто первый из вас решил разойтись – вы или Николай?» – «Нет, – ответила Ахматова, – это сделала я. Когда он вернулся из Парижа во время войны, я почувствовала, что мы чужие, и объявила ему, что нам надо разойтись. Он сказал только – ты свободна, делай, что хочешь, – но при этом страшно побледнел, так, что даже побелели губы. И мы разошлись…» Развод, как известно, случился 5 августа 1918 года. Но Гумилев, уже расставшись с ней, сказал ей о разводе: «И зачем ты все это затеяла?..»
А еще у пылавшего камина Ахматова заговорит с Зенкевичем об эмиграции, скажет, что не хочет уезжать за границу: «Зачем? Что я там буду делать? Они там все сошли с ума и ничего не хотят понимать». И только потом, но как-то буднично поведает о расстреле Гумилева: «Для меня это было так неожиданно, – скажет. – Вы ведь знаете, что он всегда был далек от политики. Но он продолжал поддерживать связи со старыми товарищами по полку, и они могли втянуть его в какую-нибудь историю. А что могут делать бывшие гвардейские офицеры, как не составлять заговоры?..» Но про лестницу, про пророческие слова свои на ней, не скажет…
Расстанется с Зенкевичем поздно, когда догорит камин. Прочтет ему только что написанные стихи о смерти Блока, скажет, что Лурье написал к ним музыку, что все это прозвучит, вероятно, на вечере памяти Блока. И – проводит до выхода на улицу, где в подъезде он, как казалось века назад, поцелует ее «узкую руку».
Эх-эх, где искать тот камин ныне? Сохранился ли он?..
В предыдущей главе я говорил, что от безумной, фантастической ревности Шилейко Ахматову «спас» Артур Лурье. Это он «решил вырвать ее, – записывал слова Ахматовой Павел Лукницкий. – За Шилейкой приехала карета скорой помощи, санитары увезли его в больницу…». «А предлог какой-нибудь был?» – задал вопрос Лукницкий. «Предлог? – переспросила Ахматова. – У него ишиас был… но его в больнице держали месяц!..»
За этот месяц Ахматова выехала из Мраморного дворца, поступила на службу в библиотеку и получила от Агрономического института казенную квартиру в двух шагах от места службы.
Адрес нового жилья ее – улица Чайковского, 7. Здесь жила с осени 1920-го по осень 1921 года. Ныне в этом здании запущенная, да простят меня нянечки и сестры заведения, убогая муниципальная больница. А тогда это был дворец – дворец князей Волконских. Но вот странность: Ахматова, кажется, нигде не сообщает, что этот дом принадлежал Волконским. Может, не знала? Ибо с тем, кто жил здесь до нее, она просто не могла не быть знакомой. Сергей Волконский, внук декабриста, в недавнем прошлом директор Императорских театров (ушедший в отставку после того, как объявил выговор «в приказе» бывшей пассии Николая II балерине Матильде Кшесинской), был давним сотрудником журнала «Аполлон»[30]30
До Волконских, насколько удалось выяснить, в этом доме жил М.Сперанский – тот, кого декабристы хотели привлечь в свое будущее правительство. Позже домом владели разные именитые люди: Сумароков (внучатый племянник драматурга), Мордвинова, жена великого медика Боткина, и, наконец, с 1894 г. – Волконские, потомки декабриста-каторжника. До этого семья Волконских жила на Васильевском острове (4-я линия, 17), в прелестном особняке с верандой. Там у отца С.Волконского, крупного чиновника при царском правительстве, бывали Ф.Тютчев, Н.Некрасов, И.Гончаров, А.Майков, Я.Полонский.
[Закрыть]. Журнала, который в числе других создавал Гумилев и в котором Ахматова и печаталась, и бывала (наб. Мойки, 24). Наверняка были знакомы, но, видимо, в слишком уж прошлой жизни! В той, где у Волконского – потомка Рюриковичей – были царские приемы в Зимнем, балы, театральные премьеры, имение в Тамбовской губернии, квартира во Флоренции, римское палаццо Боргезе. А в 1919 году он, Волконский, буквально бежал из дома на Сергиевской и под чужим именем неделю скрывался в Петрограде. Потом вспоминал, что однажды ему захотелось посмотреть на это свое здание в последний раз. «Подошел к дому, позвонил, – рассказывал он уже в эмиграции поэту Сергею Маковскому. – Двери отворил тот же мой лакей… Ахнул, когда узнал меня в моем изодранном пальтишке и панталонах с бахромой. Повел наверх, в “свои” апартаменты, т.е. бывший мой кабинет и столовую… У бывшего лакея нашлись и хлеб, и вино (я узнал бутылку из моего погреба)… На прощание… попросил взять от него “подарочек”. “Ну, что ж? Дари!” – сказал я. Тогда он открыл шкаф, вынул один из костюмов бывшего моего гардероба и поднес мне со словами: “Вот, ваше сиятельство, от меня на память. А то уж очень вы того, обтрепаны!..”»
Сегодня парадный подъезд дворца Волконских наглухо забит. Уж не с 1919-го ли года забит? Я невольно подумал об этом, когда прочел, что Ахматова, ее подруги, Осип Мандельштам, который был здесь дважды и даже привез ей весть о смерти Николая Недоброво в Ялте, – все ходили в две ее комнатки не через этот парадный подъезд – через двор, с Моховой улицы.
Жила Ахматова здесь трудно, голодно, но весело. Весело, потому что «вырвалась» от Шилейко. Вспоминала: «Когда Шилейко выпустили из больницы, он плакался: “Неужели бросишь? Я бедный, больной…” Ответила: “Нет, милый Володя, ни за что не брошу: переезжай ко мне!” Володе это очень не понравилось, – говорила она, – но переехал. Но тут уж совсем другое дело было: дрова мои, комната моя, все мое… Совсем другое положение. Всю зиму прожил. Унылым, мрачным был». Кстати, на Сергиевской и рядом – на Моховой их не раз видела Миклашевская, жена театрального режиссера. «Странная была пара, – пишет она. – Я часто сталкивалась с ними, они тоже получали паек в Доме ученых. Шилейко был страшен, чем-то похож на паука. Он шел понурый, сутулый, мрачный, неся на спине рюкзак с нашим унылым пайком. Космы длинных волос, буйная борода, огромные блуждающие глаза. Анна Андреевна шла следом, худая, бледная до восковой прозрачности, в старомодном шелковом платье, когда-то нарядном, но теперь жалком… Шла она стройной, слегка колеблющейся походкой и чем-то напоминала цыганку, случайно оказавшуюся в голодном городе и нашедшую приют у фантаста-ученого»…
Короче, «весело» жила. То есть трудно. Трудно, потому что «надорвалась от поездок» в Царское Село, к своей подруге Наталье Рыковой, той самой Рыковой, которой посвятит знаменитое свое стихотворение «Все расхищено, предано, продано…» Кстати, один критик в «Известиях» напишет тогда же, что стихотворение это архиреволюционно, поскольку посвящено жене комиссара Рыкова. Ахматова «хохотала очень», запишет Чуковский. На самом деле отец Натальи, профессор-агроном Виктор Иванович Рыков, заведовал в Царском Селе сельскохозяйственной фермой, где несколько раз гостила в голодные годы Ахматова. Возможно, именно он и устроил ее на работу в библиотеку Агрономического института. И именно от поездок к Рыковым Ахматова и валилась с ног. «Пешком на вокзал, в поезде все время – стоя… Уезжала с мешками – овощи, продукты – раз даже уголь для самовара возила… С вокзала… домой – пешком, и мешок на себе тащила…»
Однажды, 16 августа 1921 года, возвращаясь в город, вышла в тамбур покурить. Потом рассказывала: в тамбуре «стояли мальчишки-красноармейцы и зверски ругались. У них тоже не было спичек, но крупные красные, еще как бы живые, жирные искры с паровоза садились на перила площадки. Я стала прикладывать к ним мою папиросу. На третьей (примерно) искре папироса загорелась. Парни, жадно следившие за моими ухищрениями, были в восторге. “Эта не пропадет”, – сказал один из них…»
Да, она – «королева-бродяга», как звали ее друзья, – не пропала ни в голод, ни в холод. Но пропал, был расстрелян недавний муж ее – Гумилев. Именно в этот день в вагоне третьего класса именно этого поезда она, обеспокоенная судьбой арестованного к тому времени Гумилева и пропавшего без вести брата, и написала свое полное пророческих предчувствий стихотворение «Не бывать тебе в живых…» Неизвестно только, когда это стихотворение сложилось – до того, как вышла в тамбур покурить, или после? А ведь как раз в доме на Сергиевской, где ныне больничные палаты, кровати, пилюли и горшки, Ахматова в последний раз принимала у себя Гумилева.
До этого было несколько встреч. В январе 1920-го Ахматова, например, пришла в Дом искусств (Невский, 15) получать какие-то деньги. Гумилев был на очередном заседании. Пока ждала, подошел литературовед Эйхенбаум. Ему Ахматова сказала: «Должна признаться в своем позоре – пришла за деньгами». Тот пошутил в ответ: «А я – в моем: пришел читать лекцию, и – вы видите – нет ни одного слушателя». Потом вышел Гумилев, и Ахматова, сама не понимая почему, обратилась к нему на «вы». Это так поразило Гумилева, что он прошипел: «Отойдем». Они отошли, и он начал ей выговаривать: «Почему ты так враждебно ко мне относишься? Зачем ты назвала меня на “вы”, да еще при Эйхенбауме! Может быть, тебе что-нибудь плохое передавали обо мне? Даю тебе слово, что на лекциях я если говорю о тебе, то только хорошо…»
В другой раз – уже весной 1921 года – она пришла к Гумилеву в издательство «Всемирная литература», которое располагалось тогда на Моховой (Моховая, 36), пришла, чтобы получить членский билет Союза поэтов. Опять долго ждала, чтобы он подписал билет, он был к тому времени председателем Союза поэтов. Когда же он закончил разговаривать с Блоком и стал просить у Ахматовой прощения, что заставил ее ждать, она ответила: «Ничего… Я привыкла ждать!» «Меня?» – обиделся Гумилев. «Нет, в очередях!..»
Потом виделись мимолетно еще дважды: на вечере, посвященном пушкинской годовщине, и в доме Мурузи (Литейный, 24), куда Ахматова забежала спросить адрес Немировича-Данченко… Но сам он пришел к ней в последний раз именно сюда, на Сергиевскую, ныне улицу Чайковского. Пришел по ее просьбе – она узнала, что он видел на юге, откуда вернулся, ее мать. 8 июля 1921 года попросила одну общую знакомую передать ему, что хочет видеть его, а уже 9 июля он немедля явился.
В тот день Ахматова сидела у окна во двор, когда услышала вдруг громкий крик: «Аня!» Гумилева еще не ждала, Шилейко был в санатории – больше звать было вроде бы некому. Кстати, кричать надо было обязательно – требовалось встречать гостей, ибо вход к ней на второй этаж был через этаж третий. Рассказывала: «Взглянула в окно, увидела Николая Степановича и Георгия Иванова». Рассердилась про себя, что он с Ивановым, которого давно не любила, но потом сообразила: Гумилев не мог же знать, что ее мужа, Шилейко, в это время не будет, а одному прийти к бывшей жене считалось, по их старомодным правилам, неудобным…
«Взглянула в окно…» – пишет она. В какое? Я обошел все палаты второго этажа больницы, те, что окнами во двор, – ни угадать теперь, ни найти, как не найти и той комнаты, где в последний раз говорили два поэта, чья совместная жизнь, по выражению подруги Ахматовой, Срезневской, хорошо знавшей их обоих, была «сплошным единоборством». Единоборством в любви, единоборством в творчестве.
«Каждый талантливый человек должен быть эгоистом, – сказала как-то Ахматова и добавила: – Исключения я не знаю. Талант должен как-то ограждать себя». И конечно, главным соперничеством их всю жизнь – и рискну сказать: после смерти! – было соперничество в поэзии. О, какие тонкие, но ядовитые, иногда под маской невинной шутки, иногда скрытые за какой-нибудь аналогией, а порой вообще не понятные никому, кроме них, «стрелы» выпускались ими друг в друга! Для них даже любовь, чувства были зачастую «полем битвы» за первенство в стихах. Она, например, еще будучи замужем за Гумилевым, нашла однажды в его пиджаке записку от женщины. Как вы думаете, что сказала при этом? «А все же, – сказала, – я пишу стихи лучше тебя!» И как бы с сожалением досказала потом Чуковскому: «Боже, как он изменился, ужаснулся! Зачем я это сказала! Бедный, бедный!..» Впрочем, и Гумилев не щадил ее самолюбия и частенько, когда бывал сердит, говаривал: «Ты, Аничка, поэт местного царскосельского значения…» Говорил, но как-то осторожно, остерегаясь ее. Да-да, он, храбрый кавалерист, охотник на львов, дуэлянт, на самом деле, по словам биографа, «всегда как-то боялся ее». А что касается любви их, то была ли вообще эта любовь? Надежда Мандельштам, например, в своей злой «Второй книге» напишет про Ахматову: «На старости ей почему-то понадобилось, чтобы Гумилев нес в душе неостывающую любовь к ней и только потому менял женщин, что ни одна не могла ее заменить… Его она, кажется, не любила никогда. Так, по крайней мере, считали все современники, и она этого совсем не скрывала. Зачем же ей понадобилось утверждать посмертно любовь к себе Гумилева? Она говорила, что в этом спасение Гумилева как поэта…»
И вот – эта последняя встреча. Встреча двух самолюбцев, эгоистов, двух удивительных талантов. О чем же говорили они, не зная, разумеется, что встреча – последняя? Она, например, сказала ему, вернувшемуся с Черного моря, где он мотался на миноносце по приглашению одного адмирала, что надо быть Гумилевым, чтоб в такое время, когда все как в клетках сидят, путешествовать. Похвалила, упрекнула? Гумилев даже не понял – и Георгий Иванов принялся объяснять ему мысль Ахматовой… Потом пожаловалась на Гржебина, издателя, который обманул ее, с которым хотела даже судиться. И Гумилев опять не понял ее – брякнул, что Гржебин прав, и тот же Иванов вновь стал объяснять ему, в чем тут дело, и даже пошутил: «Гржебин не прав уже по одному тому, что он Гржебин»[31]31
«Историю» с Зиновием Гржебиным в какой-то мере проясняет дневник К.Чуковского. 30 марта 1920 г. он записывает: «На днях Гржебин звонил Блоку: “Я купил Ахматову”. Это значит: приобрел ее стихи. Дело в том, что к Ахматовой принесли платье, которое ей внезапно понравилось, о котором она давно мечтала. Она тотчас же – к Гржебину и продала Гржебину свои книги за 75 000 рублей...». Не думаю, что все было так просто, хотя разбираться в чужих издательских договорах, да еще век спустя, – дело безнадежное. Но ныне называют другую сумму – 40 000 рублей, пишут, что З.Гржебин обязался издать ее книги в течение двух лет, но не издал, что не только не хотел передавать права другому издательству, но решил увезти договоры на ее книги за границу – в эмиграцию. Тогда Ахматова, говорят, попросила помочь ей своего друга, пушкиниста Щеголева, который, сказав Гржебину некое «рыбье слово» (так написано!), и вырвал у того договоры буквально в последний момент...
[Закрыть].
Гумилев, повторю, видел в Крыму мать Анны Андреевны и привез бывшей жене горькую весть – сообщение о смерти одного из братьев Ахматовой. Правда, к концу разговора, забыв об этом, позвал ее на вечер поэтов в дом Мурузи. Она, разумеется, отказалась. Он обиделся слегка. Потом Ахматова сетовала: как он не понимал, что после известия о смерти брата она не могла идти веселиться? Еще Гумилев попенял ей, что она мало выступает, мало читает стихов. Ахматова отмахнулась: Шилейко запрещает… Гумилев изумился и, как вспоминала она, не поверил: Ахматовой, считал он, никто и ничего запретить не может…








