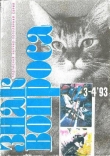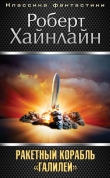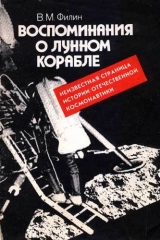
Текст книги "Воспоминания о Лунном корабле"
Автор книги: Вячеслав Филин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Отработка заправки блока требовала своего макета. Его создали. С этим макетом впервые выехали на космодром Байконур и корабелы, ведь за обеспечение точности заправки отвечали они.
Заправку ракетных блоков топливом многие представляют себе как заправку автомобиля. Взял заправочный шланг от колонки, воткнул пистолет в бак, нажал кнопку и залил столько-то литров. Если бы так заправляли ракету, то наверняка ее эффективность упала бы в два раза, ведь точность заправки на бензоколонке доходит до 10 %, не говоря уже о температурной компенсации. Для заправки всего головного блока была создана громадная по тем временам заправочная станция. Все работы по заправке, подготовке компонентов были автоматизированы. Блок устанавливался в заправочном зале, подстыковывались наземные коммуникации и со второго этажа операторской шло управление процессом. Учитывая агрессивность компонентов, хранение их осуществляется под слоем нейтрального газа. В наземных условиях это азот. Но азот уступает более, чем в десять раз по массе гелию, поэтому на ракетном блоке применили в качестве газа наддува гелий. Нужно было перед заправкой подготовить компонент, т. е. провести в наземных системах замену азотной среды на гелиевую. Этот процесс длительный: нужно «выгнать» из компонента растворенный азот и растворить в нем гелий, иначе все это произойдет на борту и неприятностей не оберешься. Как ни планировали мы проводить подготовку компонента заранее, ничего не получилось. На заправку уходили в ночь. Ругали на чем свет стоит химиков, проводящих анализ компонентов, их хроматографы, но те пока не получили положительных результатов, добро на подачу компонентов в блок не давали. Ночные работы всегда тяжелее дневных, но имеют и одно неоспоримое преимущество – начальства меньше. Этим обстоятельством мы пользовались, обходились острые вопросы в организации работ, меньше было апломба, устанавливались доверительные отношения между исполнителями разных организаций.
Топливо в ракету заправляют не в литрах, а в килограммах и тоннах. И чем точнее знаешь содержание компонентов топлива в баках, тем меньшую долю составляют гарантийные запасы и тем большую долю массы можно отдать на полезный груз. Существует много методов заправки ракет, обеспечивающих приемлемое знание количества компонентов в баках. Один из таких методов и отрабатывался на заправочном макете. На блоке Е применили объемно-весовую заправку. Суть ее в том, что, зная объем бака и температуру компонента, можно определить, сколько компонента топлива находится в полном баке и сколько нужно слить, чтобы обеспечить необходимую дозу заправки. Слив лишней дозы происходил в специальные емкости, которые были установлены на весах. Кажется все просто: включай один клапан, перекрывай другие, следи за показаниями на мнемосхеме. Но каждое действие требовало чрезвычайной внимательности, и малейшие оплошности приводили к неприятностям. Не дозавернул гайку – на полу лужа ядовитого компонента, от паров которого не спасает обычный противогаз. Ошибся с командой – подал высокое давление в не терпящие этого магистрали – разрыв! Все тонкости заправки нужно было заранее изучить и отработать.
Работы на космодроме всегда очень интересны. Во-первых, разработчики встречаются со своим изделием, которое пестовали не один год в бумагах, в моделях и агрегатах. Во-вторых, встречаются различные коллективы, создающие технику. На космодроме они превращаются в один коллектив единомышленников, коллектив, для которого изделие превыше всего. Уходят на второй план личные неприятности, неудобства в быту, все силы отдаются изделию. Коллектив космодромных конструкторов, слесарей, испытателей состоит из особых людей. Эти люди, как правило, безумно влюбленные в ракетно-космическую технику, переживающие все неприятности и трагедии, как потерю своего здоровья и здоровья своих родных. Они безмерно счастливы успехом, понимая при этом, что следующий полет, запуск – это опять шаг в неизвестное, эти новое открытие.
Какой подъем царил среди инженеров нашего КБ, КБ «Южное», военных специалистов при работе над первым блоком Е! Смотришь на ракету, она такая гладкая, стройная, и трудно себе представить, что внутри нее находятся сотни кабелей, датчиков, приборов, преобразователей и т. д.
Если ракету представить себе, как электрическую машину, то можно увидеть такие сложные переплетения, замысловатые схемы, что, как говорят, «черт ногу сломит». Кабели, как нервы, пронизывают ракету, охватывают все ее части. Блок Е не был исключением. Учитывая, что строгих аэродинамических требований к нему не предъявлялось, мы расположили много приборов, преобразователей прямо снаружи на силовом переходнике. Это существенно облегчало их монтаж и замену в случае неисправностей. А как определить эти неисправности, отчего они появляются? Что это – дефект схемы, технологии или монтажа? Жизнь ракеты порой зависит от одной кабельной жилы. Поэтому, чтобы исключить все ошибки схем, отработать технологию сборки и замены приборов, создается электрически штатный ракетный блок. Он может не иметь отдельных силовых элементов, быть негерметичным, не иметь теплоизоляции, но по электрике должен быть только штатным!
Поскольку блок Е разрабатывался в КБ «Южное», было сделано два макета: один для отработки автономной схемы самого блока – он остался в КБ «Южное», а другой был отдан нам и установлен на комплексном электрическом стенде всего Лунного корабля. На этом стенде и происходило сопряжение блока по всем параметрам с системами корабля и, в первую очередь, с системой управления. Проверялась правильность прохождения команд, взаимовлияние каналов, помехозащищенность цепей от внешних воздействий, отрабатывалась логика (а теперь говорят алгоритмы) включения систем блока и двигательных установок, а также систем контроля компонентов, систем опорожнения баков, систем измерений и т. д.
Эта отработка настолько очевидна, что не требует дальнейшего пояснения. Она характерна для всех космических аппаратов без исключения. Ведь провести ремонт в космосе дело очень серьезное, и шансы на успех минимальные. Электроиспытания проводят, как правило, опытные инженеры, набившие себе «шишки» не на одном объекте. От них зависит окончательное заключение по готовности к пуску штатного объекта, и то, что они работают сначала на электрическом макете, окупается при подготовке и проверке штатного объекта полностью.
Для комплексных тепловых проверок блока Е был создан тепловой макет. Тепловые расчеты, как и прочностные, проводят с определенными допущениями. Учесть все нюансы по тепловому балансу очень сложно, вот поэтому для тепловиков изготавливают свой макет. Этот макет проходит испытания в специальных термобарокамерах, где отрабатываются режимы расходов в контурах СТР, определяется степень отраженности и поглощения внешних излучений, подбираются теплообменники и т. д. Все тепловые расчеты проводились под руководством специалиста своего дела Ю.И.Мошненко. Он был уверен в своих расчетах и ни о каких паллиативных решениях не хотел слышать.
Для разработчиков антенн создали специальный полноразмерный макет блока. На нем имитировались только внешние обводы. Сейчас многие уже знают на примере комнатных антенн телевизоров, что от их положения, нахождения зависит четкость приема передач. А если перед окном стоит еще и высотный дом в направлении телецентра, достичь хорошего изображения чрезвычайно трудно. Это пример приема. А для Лунного корабля важно было не только принимать, но и передавать информацию. Любой выступающий элемент мог исказить передающуюся диаграмму. Для нахождения максимального передающего сигнала и создается антенный макет. Этот макет ракетного блока передали нам в состав общего антенного макета корабля.
Понимая, какая ответственность ложится на КБ «Южное» и Южный машиностроительный завод, отвечающих за ракетный блок, Б.И.Губанов убеждает директора завода А.А.Макарова изготовить не три блока для огневых стендовых испытаний как ранее планировалось, а целых 20. В ракетной технике вершиной всех экспериментальных проверок являются огневые стендовые испытания блока, при которых в близких к натурным условиях комплексно проверяются все системы ракетного блока. Только их успешное проведение открывает дорогу к летным испытаниям. В КБ «Южное» до этого создавали ракеты боевые или научные, а здесь на ракете летит Человек! Каждый блок перед огневыми испытаниями проходил копровые, динамические испытания и только потом его ставили на стенд. Надежность превыше всего. Все блоки успешно прошли огневые испытания.

Рис. 21. Ракетный блок ЛК
Пройдя тяжелейший путь от осевых линий на чертежах до окончания всех экспериментальных подтверждений, блок был создан. Но хотелось большего – летных испытаний. И здесь нужно отдать должное настойчивости Б.И.Губанова, который добился трех пусков специальных объектов на «семерке» для отработки блока. Испытания прошли удачно. Но об этом расскажем немного позже.
Очень приятно вспомнить это время, когда два крупнейших в ракетной технике коллектива объединились в едином стремлении создать Лунный корабль. Отдадим же им должное. Их опыт, знания, упорство были вознаграждены. К середине 70-х годов штатный ракетный блок Лунного корабля был собран (см. рис. 21). На рисунке хорошо видны навесное оборудование, донный экран, сопла, тепловые крышки, силовой переходник.
СИСТЕМА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В наземных условиях сама дорога определяет трассу движения автомобиля, и если надо сделать поворот влево или вправо, достаточно покрутить руль в нужном направлении, и ваш автомобиль покатится куда надо. Идет взаимодействие колес с дорогой. В космосе нет дорог, а повернуть корабль нужно. Основной двигатель, выбрасывая струю газа, толкает космический аппарат вперед, а как развернуться? В ракетах поворот может осуществляться за счет качания двигателя ракеты или за счет создания разнотягости противоположных двигателей, как было на H1, при этом отбрасываемая струя газа изменяет свое направление относительно центра масс ракеты. Повернули двигатель вправо, ракета совершает разворот влево и наоборот. Для космических аппаратов такой способ непригоден, ведь требуется еще до работы основного двигателя сориентировать и стабилизировать объект в пространстве. Вот поэтому на космические объекты и устанавливают специальную автономную систему исполнительных органов для ориентирования и стабилизации. Такие системы представляют собой отдельные связки микроракетных двигателей, собственные компоненты топлива, систему их подачи и т. д. В последнее время на космических объектах применяется совмещенное хранение компонентов топлива системы исполнительных органов и основной ракетной установки. Это позволяет более рационально использовать имеющиеся на борту запасы. Так сделано на кораблях «Союз» и «Буран». Это, как правило, можно реализовать, когда есть один «хозяин» и основной и вспомогательной двигательных установок.
Поскольку опыта создания микроракетных двигателей в то время у фирмы М.К.Янгеля не было, естественно, просить их делать объединенную двигательную установку ракетного блока ЛК в составе системы исполнительных органов и двигателя разгона было не логично. Мы стали искать другие предприятия, у которых был бы достаточный опыт создания малых двигателей. Сразу обратились к нашим соседям. Эта фирма, которую возглавлял А.М.Исаев. Она разрабатывала двигательную установку для кораблей «Восток», «Восход», а позднее «Союз». Фирма небольшая, ее коллектив опытный и дружный, желание работать с нами было огромным, но возможностей уже не было. Дело в том, что эта фирма разрабатывала все двигательные установки для Лунного орбитального корабля. Нужно было искать других. Обратились к предприятию авиационной промышленности, руководителем которого был В.Г.Степанов, имеющему некоторый опыт разработки микродвигателей.
Встретились, объяснили, что нам нужно. Изготовить и испытать двигатель они брались, а вот целиком двигательную установку с силовой рамой, с топливными баками, с системой подачи топлива к двигателям разрабатывать у них не было никакого желания. Подключился к решению этих проблем академик В.П.Мишин. После долгих и трудных переговоров, в том числе и с руководством Министерства авиационной промышленности, вопрос был решен. Но такое силовое давление на фирму сказалось на первых порах и на взаимоотношениях исполнителей. Нам стали сразу навязывать свою концепцию построения всего блока ориентации. Пришлось подробно излагать наши технические доводы в интересах всего корабля. Мы просили разнести двигатели подальше от оси, так как их воздействие на кабину было ощутимым. Разработчики устанавливали их прямо на топливный бак, и им не было дела до того, что сверху должен стоять стыковочный узел. Постепенно мы преодолевали трудности, стал налаживаться хороший рабочий контакт.
Управляющие двигатели установлены в едином блоке, а таких двигателей было 16:8 двигателей тягой по 40 кгс и 8 двигателей по 10 кгс. Мы понимали, что управление вокруг центра масс будет «нечистым», ведь к моменту добавлялась горизонтальная составляющая по рысканью и тангажу. Управление должно быть только моментным. «Нечистые» силы, как мы называли усилия от двигателей ориентации, добавляли хлопот нашим управленцам. Микродвигатели были сравнительно легкими сами по себе. Это позволило нам установить два независимых контура управления Лунным кораблем. В каждый контур входило по восемь двигателей. Два двигателя тягой 40 кгс обеспечивали управление в плоскости полета (по тангажу). Два двигателя такой же тяги – управление из плоскости полета (по рысканию) и четыре двигателя осуществляли управление вокруг продольной оси (по крену). Эти два контура работали независимо, тем самым обеспечивая надежное дублирование органов управления (см. рис. 22).

Рис. 22. Двигатели исполнительных органов
Дублировать запасы топлива было слишком расточительным, поэтому запасы топлива расположили в двух баках: в один залили окислитель, в другой – горючее. Всего было чуть более 100 кг топлива. Нормальный процесс горения, который происходит в двигателях, требует больше окислителя, чем горючего, поэтому при выработке топлива из баков может возникнуть ненужное возмущение, если баки равноудалены от центральной оси. Нужно было что-то предпринять. И тогда разработчиком А.Серебряниковым было предложено очень простое решение. А что, если силовую раму сделать в виде двойной бочки? Одна побольше, и на нее поставить бак горючего, а другая поменьше внутри первой, и на нее поставить бак окислителя. Это позволит удалить баки окислителя и горючего от центральной оси примерно в пропорции соотношения компонентов топлива, поступающих в двигатель, и снимет ненужные помехи при выработке топлива. Такая конструкция силовой рамы была принята. Мы уже говорили про вибропрочность в ракетной технике. Вот чтобы в этом агрегате не заниматься этой проблемой, после монтажа трубопроводов, кабелей все внутренности между оболочками, где располагались трубопроводы и арматура, запенивались. Получалась трехслойная панель сферической формы, очень прочная и защищающая трубопроводы от вибрации.
Компоненты топлива, находящиеся в баках, нужно уметь еще и подать к двигателям, И подать только компоненты топлива, а не газ наддува или смесь газа наддува с топливом. Начали решать проблему разделения газовой и жидкой сред. Учитывая уже имеющийся опыт фирмы Степанова, а ею были созданы баки с внутренними металлическими диафрагмами, хорошо отработанные и испытанные в полете, приняли металлический разделитель. Металлический разделитель должен укладываться по днищу бака так, чтобы обеспечить минимум непроизводительных остатков топлива. Учитывая изменения температуры в баках, хотя и небольшие, он должен позволять «гулять» жидкости, а сам выдерживать многократные циклические нагрузки.
Вопросов пришлось решать много, в том числе и технологических, включая раскрой листа. Нужна была специальная тонкая листовая сталь, точнее штампы и т. д. Забот разделитель доставил немало.
При создании двигателей блока Е с целью «выжимания» удельных характеристик была применена турбонасосная система подачи компонентов. (Заметим, что на LEM была вытеснительная система.) Для микродвигателей создавать турбонасосную систему подачи топлива было накладно. Да и давление в камерах сгорания было сравнительно небольшим – десятки атмосфер. Это позволяло подавать компоненты топлива к двигателям путем давления газом повышенного давления на металлическую мембрану. Такой способ подачи, хотя и требует повышенного запаса газа наддува (им был гелий), отличается простотой и повышенной надежностью по сравнению с турбонасосной подачей. Сравнение суммарных массовых затрат по блоку двигателей ориентации также говорило в пользу вытеснительной системы подачи.
Безусловно, определяющую роль в этой схеме играли сами двигатели. Создание ракетных двигателей большой тяги всегда проблема. Но опыт был накоплен достаточно большой, в том числе по охлаждению камер сгорания. А в двигателях малой тяги, учитывая их импульсную работу и ограничения (десятком секунд) непрерывной, делать охлаждаемую камеру сгорания и сопловые насадки было неоптимально. Стали подбирать соответствующий материал, смотрели высокопрочную сталь для камеры сгорания, а для сопла – ниобий или графит. Свойства этих материалов должны быть такими, чтобы воспринять большие тепловые и силовые нагрузки, да к тому же быстро рассеять накопленное тепло. Не одну тысячу испытаний прошли двигатели, прежде чем показали свою надежную работу.
Очень жесткие требования к двигателям предъявлялись по минимальному импульсу тяги, или другими словами, по созданию кратковременного минимального силового воздействия на лунный аппарат. Можно ли себе представить, что, скажем, электровоз с миллиметровой точностью устанавливает детскую коляску? Очень трудно. Так и на Лунном корабле. Нужно было уметь удерживать оси корабля в космическом пространстве с минутными угловыми значениями. Вот здесь и получали электровоз, если двигатели не могли быстро реагировать на перерегулирование. Применение самовоспламеняющихся компонентов топлива позволило без лишних усилий обеспечивать их воспламенение в камере сгорания и выход двигателя на режим. Оставалось решить вопрос о быстроте и синхронизации впускных клапанов. В результате общих усилий получили минимальную приведенную длительность импульса тяги около 9 миллисекунд.
Особо стоял перед разработчиками вопрос о способе заправки баков компонентами топлива: уровня здесь не было, а при переливе как быть с мембраной? Выбрали вакуумную заправку и вот почему. Баки двигателей ориентации были рассчитаны на высокое, давление, как того требовала вытеснительная система подачи. Это приводило к значительной толщине оболочек баков. Посчитали, а не сложатся ли они, если из них откачать воздух. Оказалось, нет. Тогда и родилась вакуумная заправка: выкачивали весь воздух из бака до давления одной десятитысячной атмосферы, затем заливали предварительно взвешенную порцию топлива. Кажется очень просто, и разделительная мембрана на месте. Но за видимой простотой скрывались проблемы вакуумных насосов, слива и повторной заправки и многие другие. Задачка была не такая уж простая. Но вакуумная заправка была отработана. Хочется сказать слова благодарности Д.Гилевичу, чей проектный отдел постоянно находился в поиске новых оригинальных решений, все отдавая созданию своего детища.
Создан блок управления. Провели расчеты по затратам топлива, и оказалось, что в 95 случаях из 100 в баках остается неиспользованное топливо. При дефиците масс не использовать его было грех. Стали думать, как это сделать. Двигатели, расположенные от продольной оси на расстояние около одного метра с целью увеличения плеча воздействия, можно было наклонить до 20° к горизонту. Это позволяло дополнительно экономить топливо. Посчитали, что за счет появления продольной силы от двигателей, работающих одновременно, можно использовать остатки топлива и получить выигрыш в конечной массе в 12,5 кг. Б.В.Чернятьев, автор этого проекта, был напорист в реализации его и, несмотря на возражения баллистиков и управленцев, отстоял его у главного конструктора. Специально говорю об этом случае, чтобы было ясно, какая борьба за массу шла на всем пути создания. Ведь внедрение этого предложения требовало доработки уже существующей материальной части. Долго сопротивлялись разработчики, но двигатели наклонили. Так и установили их на блоке, вызывая некоторое недоумение у специалистов, поскольку факелы от двигателей стали слегка подогревать кабину и приборный отсек.