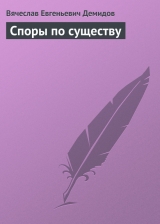
Текст книги "Споры по существу"
Автор книги: Вячеслав Демидов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
10
Какую же позицию занимал по поводу условных рефлексов в начале тридцатых годов Иван Петрович Павлов? Продолжал ли он считать, что лишь ими определяется поведение? Если судить только по статье «Условный рефлекс» в первом издании Большой Советской Энциклопедии (без всяких изменений она была перепечатана и во втором издании), – да. Но не одними статьями исчерпывалась его научная деятельность. Как истинный ученый он не мог пройти мимо новых фактов, а они множились – особенно после того, как эксперименты стали проводиться не только с собаками, но и с обезьянами, свободно бегавшими в вольерах.
На «средах», где обсуждались результаты опытов, проделанных сотрудниками его лаборатории (стенограммы этих бесед, к сожалению, были опубликованы лишь через тринадцать лет после смерти ученого, да к тому же не полностью и с изрядными искажениями), Иван Петрович однажды высказал мысль: «Что бы произошло, если бы всякое животное принимало меры только тогда, когда другое заберет его в свои лапы? Условный рефлекс есть принцип п р е д в а р е н и я (разрядка моя. – В. Д.) фактических явлений».
Разговор этот произошел четвертого сентября тридцать третьего года. А два года спустя Павлов заявил уже нечто такое, что было встречено глубоким молчанием, которое, по воспоминаниям одного из присутствовавших, «не явилось знаком согласия». Что же такое сказал патриарх советской физиологической школы?
На той «среде» обсуждалось поведение обезьяны в одном из экспериментов, когда она стала строить из ящиков нечто вроде пирамиды, чтобы добраться до подвешенного банана. «…Когда обезьяна строит свою вышку, чтобы достать плод, то это условным рефлексом назвать нельзя. Это есть случай образования знаний, уловления нормальной связи вещей».
Слова эти, вызвавшие глухое сопротивление слушателей, были, по сути, повторением того, что Павлов уже говорил однажды: «…Когда обезьяна пробует и то, и другое, это и есть м ы ш л е н и е в д е й с т в и и (разрядка моя. – В. Д.), которое вы видите собственными глазами». Увы, такой подход был слишком радикален для сотрудников, привыкших к строгим правилам теории условных рефлексов, запрещающим слова «думать» и «понимать» по отношению к животным. Участники «среды» с трудом воспринимали странные высказывания своего руководителя.
А он уже чувствовал, что упрямая приверженность старым гипотезам уводит от нового знания, чревата потерей интересных фактов. Он ощущал эту опасность, но никак не предполагал, насколько она близка. Увы, что случилось – то случилось… Обидная потеря права называться первооткрывателями постигла работников Сухумской биостанции, где ученики Павлова исследовали взаимоотношения обезьян в стаде.
То новое, что удалось заметить, экспериментаторы назвали ничего не говорящими словами «двигательная активность» вместо принятого в теории группового поведения термина «иерархия». Им казалось, что термин допустимо применять только к людям. Между тем иерархия в обезьяньем сообществе наблюдалась – факт совершенно новый и неожиданный, никто среди физиологов мира еще не заметил ничего подобного, но… Не тот термин – не то содержание. Два года спустя в иностранном журнале появилось описание аналогичного исследования, сделанного в зарубежной лаборатории. Слова «групповая иерархия» были выделены и сразу стали сенсацией...
Павлов умер. Остались ею последователи. В своем стремлении канонизировать любые высказывания учителя, даже сделанные между прочим, иные физиологи самовольно присвоили себе право судить от имени покойного академика о чужих работах, с которыми были не согласны. Не случайно Анохин, один из учеников Павлова, произнес горькие слова: «Чрезвычайно тяжелым обстоятельством для развития научной школы выступает такое положение, когда все многочисленные гипотезы – и достоверные, и вероятные, и даже сомнительные – вдруг сразу приобретают значение нерушимых догм, абсолютно достоверных истин. История науки показывает, что с этого момента задерживается прогресс научных исследований, прекращаются поиски новых путей, начинается рост вширь, возникает бесконечное дублирование и варьирование незначительных экспериментов без заметных признаков обобщения и движения вперед».
Пользуясь своим положением, эти догматически настроенные последователи организовали в пятидесятом году специальную сессию, по программе посвященную развитию идей Павлова, а на самом деле задуманную как судилище над всеми, кто придерживался иных подходов к проблемам высшей нервной деятельности. В списке «антипавловцев» оказались академики Орбели и Бериташвили, профессора Анохин, Купалов, Гращенков и многие другие.
Был среди них и член-корреспондент Академии медицинских наук СССР Бернштейн, за два года до этого получивший Государственную премию за книгу «О построении движений» и открыто заявлявший о своем несогласии с классической рефлекторной теорией. От него, как и от всех иных, ждали признаний в порочности своих взглядов. Он оставался непоколебим.
Он был вынужден уйти на пенсию, заняться вместо научной работы реферированием зарубежных авторов. Было очень трудно, но назло своим врагам он сделал рефераты из «наказания» источником продуктивнейшей учебы. Юмор не оставлял Николая Александровича в самые мрачные минуты, и он с деланным недоумением разводил руками: «Странно, право, устроена жизнь: мало того, что я читаю умных людей, – мне за это удовольствие еще платят деньги!»
11
Партия решительно осудила методы диктата в науке. В физкультурных вузах стала вновь преподаваться изгнанная несколько лет назад биомеханика. На научных конференциях зазвучали голоса тех, кого долгое время не приглашали на научные форумы. Возродился интерес и к взглядам Бернштейна, особенно после того, как «рефлекторные» методы оказались неэффективными при подготовке рабочих самых сложных профессий – операторов автоматизированных систем.
Попытки поставить человека в положение «промежуточного звена» между загорающимися лампочками и ждущими нажатия кнопками приводили к чрезвычайно низкой надежности такого человеко-машинного комплекса.
В журнале «Вопросы психологии» появилась первая после почти восьмилетнего молчания статья Николая Александровича «Некоторые назревающие проблемы регуляции двигательных актов».
В конце пятьдесят восьмого года он писал в Тбилиси одному из своих ближайших друзей и учеников, Левону Владимировичу Чхаидзе: «…Последний весь месяц прошел у меня в сильнейшем цейтноте и напряжении: статью в «Знание – сила» пришлось дополнять (увеличить ее в полтора раза) по их настоянию и максимально срочно, так как они гонят ее в январский номер. Это требование свалилось на меня неожиданно, когда я был занят письмом статьи по другому, договорному заказу (популярной), и, наконец, тут же подоспела работа по проталкиванию книги «Электронный мозг в медицине», составлению письменных ответов на возражения рецензентов и проч. В результате я совершенно «зашился», даже кровяное давление у меня, впервые в жизни, подскочило вверх на 30 мм… Должен признаться вам – и это говорит весь мой опыт, – популярную книгу писать трудней, чем чисто научную, популярную же статью – еще в 10 раз трудней».
Читая статью в «Вопросах психологии», отчетливо видишь: годы вынужденного бездействия в плане лабораторном, экспериментальном позволили Бернштейну отточить в философском плане давно занимавшие его идеи о связи организма с окружающим миром. В частности, обращаясь к понятию о речи как «сигнальной системе» (в том понимании слова «сигнал», как оно употреблялось сторонниками условно-рефлекторного всегда и во всем поведения человека, то есть как «пусковых» импульсов, за которыми следует действие), Николай Александрович писал:
«…Трактовка «второй сигнальной системы» как системы словесного отображения п р е д м е т о в… что полностью проявляется и в составе словника, применяемого в экспериментах по так называемой речедвигательной методике, представляется результатом глубоко ошибочного смешения двух различных физиологических функций и речевых категорий.
С л о в а к а к с и г н а л ы не образуют никакой особой системы и в роли пусковых фонем полностью доступны многим животным…
С л о в а и р е ч ь к а к о т р а ж е н и е в н е ш н е г о м и р а в его статике (имена) и динамике действий и взаимодействий с субъектом (глаголы, суждения) действительно образуют систему, доступную и свойственную лишь человеку; но обозначать р е ч ь, достигшую этой ступени значения и развития, как с и г н а л ь н у ю систему, значит подменять ее одним из самых несущественных и рудиментарных ее проявлений».
Сегодня может кое-кому показаться, что пафос этих слов излишен, ведь представление о модели мира, формирующейся у человека и животных, стало общепризнанным («Животные приобретают внутреннюю модель внешнего мира, что позволяет им принимать правильные решения о поведении в разных и в том числе в новых условиях среды», «Сложное поведение собак, лошадей, обезьян опирается на внутреннюю картину мира, что рядом авторов обозначается как рассудочная деятельность», – читаем мы в советско-болгарской двухтомной монографии «Ленинская теория отражения в свете развития науки и практики»).
Но то сегодня. А ведь были времена, не так уж удаленные от момента появления статьи в «Вопросах психологии», когда утверждалось, что выдвинуть гипотезу о формировании модели мира в человеческом сознании – значило совершить «антипатриотический поступок, льющий воду на мельницу представителей идеалистического учения в области физиологии». Время разрешило спор. Оно сделало это самым убедительным образом – практикой.
...Природа порой жестоко обходится с родителями. У вполне нормальных людей рождается слепоглухонемой ребенок. В его распоряжении – только обонятельные, термические, тактильные да проприорецептивные сигналы. Этого хватает, чтобы приблизить ко рту палец, который так сладко сосать, ощутить тепло тела матери, а когда ее нет поблизости, почувствовать удар о что-нибудь твердое, потом еще, еще...
Попытки слепоглухонемого ребенка двигаться самостоятельно быстро замирают, их убивает боль. А движение – важнейший способ познания окружающего, без движений нет развития нормальной, человеческой психики. Иван Афанасьевич Соколянский и Александр Иванович Мещеряков, два друга, два психолога, два удивительных человека, осуществили то, что со стороны кажется невозможным: они научились «вручную», целенаправленно, извне формировать у лишенного самых важных органов чувств человека богатую модель окружающего мира, делать его полноправным членом человеческого сообщества!
Первоначальная азбука – самые простые, но при том самые фундаментальные потребности организма: голод и жажда. Многим физиологам когда-то казалось, что у живых существ есть генетически заложенный «поиско-ориентировочный рефлекс». Слепоглухонемые дети показали, что это миф: они хотят есть, но не способны искать пищу. Их этому искусству приходится обучать. Соску отводят от губ ребенка на миллиметр, а когда он это расстояние преодолеет, отводят дальше и дальше. Так формируется моторное поле, модель расстояний, пространственной топологии. Потом на пути губ вдруг оказывается препятствие, его надо преодолеть – отодвинуть или отодвинуться самому.
Ситуации все время усложняются, и все совершеннее овладевает некогда беспомощный малыш своими руками и ногами, все более сложными становятся в его мозгу топологические связи, представления (опять-таки двигательные, моторные) о формах встречающихся предметов. Таков первый шаг.
Потом наступает второй. Педагог вводит ребенка, у которого разбужены все механизмы, нужные, чтобы отыскивать пищу и удовлетворять свои простейшие потребности наподобие животного, в мир человеческих отношений. Это значит – в мир человеческих предметов, ибо именно в сонме различных вещей, называемых «второй природой», и спрятан коллективный человеческий опыт, человеческая культура, не освоив которых невозможно очеловечиться.
Ребенку вкладывают в руку ложку и, двигая его рукой, учат есть.
Вначале он протестует, отталкивает непонятный предмет, его «животному существу» глубоко чужд такой способ питания. Но постепенно в руке просыпается самостоятельность, сначала очень робкая, словно еле теплящийся огонек, – и учитель ослабляет свое направляющее воздействие, отпускает зародившееся «я сам!» на все больший простор. «Совместно-разделенная деятельность», как назвали свой метод Соколянский и Мещеряков, демонстрирует свой триумф: мало-помалу от действий с предметами, имеющими для ребенка жизненно важное значение, его переводят к «ненужным» вещам – игрушкам.
Вначале их ожидает судьба впервые познанной ложки – их отбрасывают, ибо с их помощью нельзя ни пить, ни есть. Однако «совместно-разделенная деятельность» и тут ведет слепоглухонемого ребенка к истине: в тех пределах, которые ему доступны, он начинает играть, все активнее знакомится с окружающим миром предметов.
Ребенок постигает смыслы вещей, и так как эти смыслы уже заложены в вещах изготовившими их людьми, ребенок ощущает через смыслы человеческую сущность этих других людей и одновременно начинает воспринимать себя как человека. «…Нет такой вещи, которая не была бы сгустком человеческих отношений…» – заметил советский философ А. Ф. Лосев.
Иными словами, через предметы и действия с ними слепоглухонемой ребенок строит модель человеческих отношений не только с вещами, но и друг с другом.
Только после этого наступает очередь освоения с л о в а, которое возникает – это теперь уже экспериментально установленный, бесспорный факт! – в деятельности и через деятельность, через труд, когда безумно хочется поделиться своими мыслями с учителем. Рефлекторная методика обучения речи потерпела сокрушительную неудачу: требовалось до восьми тысяч (!) подкреплений, чтобы у ребенка образовалась устойчивая связь между предметом и обозначающим его знаком – абстракцией.
Зато через труд – то есть через внутреннюю модель мира и модель потребного будущего – возникает сначала язык жестов, а потом и слов, приобретающих для ребенка всё более обобщающую, всё более абстрактную окраску. Мощность абстрагирования нарастает по мере того, как в круг общения ребенка входят все новые и новые предметы, с которыми у него возникают д е я т е л ь н ы е связи, обогащающие его модель окружающего мира.
«Рубка зубилом только по недоразумению может называться физическим трудом, так же как по недоразумению в науке может держаться это жалкое разделение на физический и умственный труд», – как же был он прав, Алексей Капитонович Гастев! Даже самое простое движение, если только оно целенаправленно, – движение прежде всего умственное, выработанное (запланированное!) мозгом, в о о б р а ж е н н о е, прежде чем оно будет произведено. Пусть даже этот процесс воображения и не осознается из-за малости времени между «проектом движения» и его свершением.
12
Последнее десятилетие своей жизни Николай Александрович занимался уже не экспериментами, а обобщением того, что было сделано и делалось другими. Именно в это время, как ни странно, у него было больше учеников, чем когда-нибудь прежде.
Татьяна Сергеевна Попова, жена брата Николая Александровича, сказала: «Мне всегда казалось, что у него, сравнительно с его данными, было мало учеников. Вот в пятидесятые годы, когда он сидел дома, приходили люди, приходили очень много, а до того было по пальцам пересчитать. Видно, у них это, у Бернштейнов, было семейное – эта замкнутость, подчеркнутая корректность. Даже Кекчеев уж на что был Николаю Александровичу близок, но и то выдерживалась дистанция...»
Да, известная суховатость в общении была присуща Бернштейну: он, например, всегда обращался к людям по имени-отчеству – что в письмах, что в разговоре. Но было у него и удивительное обаяние, пробивавшееся без всяких с его стороны усилий через внешнюю оболочку предельной щепетильности.
И люди тянулись к нему, становились верными последователями, – люди из совершенно разных областей знания. Громадный кругозор, хорошая математическая подготовка (о ней говорит хотя бы название одной из его статей – «К анализу непериодических колебательных сумм с переменными спектрами по методу взвешенных решеток» – и участие в семинаре крупного советского математика, члена-корреспондента АН СССР Израиля Моисеевича Гельфанда), острое чутье на новое, уменье сопоставлять массу фактов из вроде бы разных областей своей любимой физиологии и не только из нее – все это давало Бернштейну возможность делать неожиданные, далеко идущие выводы.
Значение их с годами осознается все больше. Я видел в Библиотеке имени В. И. Ленина книги Бернштейна и книги других ученых с его предисловиями, журналы с его статьями – они зачитаны до дыр, с подновленными переплетами (подновленными не раз!), с подчеркнутыми строками и абзацами, с восклицательными знаками на полях – свидетельствами внимания и восхищения тысяч и тысяч научных работников.
В характере Николая Александровича была черта, которая делала общение с ним удивительно приятным, – на нее обратил мое внимание один из близких, с тысяча девятьсот сорок шестого года, сотрудников Бернштейна – профессор Виктор Семенович Гурфинкель: «Он не получал удовольствия, разбирая чужие недостатки и промахи. А если случалось все же говорить – высказывался коротко и четко о несогласии, и конец. Даже если видел, что работа неважная, не присоединялся к руготне. А всегда искал в любой работе что-нибудь хорошее. Он мог сидеть и слушать, как в его присутствии драконили какой-нибудь рассказ, а потом сказать, что вот, мол, есть там, знаете, одно хорошее место… Он всячески выпячивал работу сотрудников и вообще умел поднять человека».
И точно ту же мысль и почти в тех же выражениях высказал другой его ученик, профессор Иосиф Моисеевич Фейгенберг: «Он умел очень внимательно слушать и очень жестоко критиковать, но эта критика никогда не была такой, после которой уходишь с чувством: «Ну и дурак же я!..» Нет, его критика наталкивала на новые поиски, и он не только давал тебе эту мысль, он (и это мне кажется куда как более сложной задачей педагога!) заставлял тебя чувствовать, будто эта мысль пришла тебе в голову сама собой».
Обобщение сделанного было для Николая Александровича не подведением черты, а проекцией в будущее. Особенно пристальное его внимание привлекали две проблемы: вероятностная модель мира (во всех работах, кстати, он неизменно подчеркивал, что термин «вероятностное программирование будущего» принадлежит И. М. Фейгенбергу) и математика мозговых процессов.
Вероятностный подход еще более прояснил смысл и неизбежность формирования у живого существа внутренней модели мира – и в том числе предвосхищающего действительность «потребного варианта» будущего.
Окружающий мир не трафаретен, он непрерывно изменяется. Некоторые изменения повторяются с известной регулярностью, другие редки. В любом случае живой организм должен так реагировать на обстановку, чтобы… Чтобы что?
Чарлз Дарвин отвечал: чтобы выжить, чтобы победить в борьбе за существование. Но выживание как таковое не есть цель. Тогда что же заставляет животное действовать так, а не иначе? В этом пункте материалисты XIX века столкнулись с неразрешимым для них противоречием.
Целесообразность поведения они ассоциировали только с осознанием – то есть с человеческой психикой. Признать целесообразность поведения у животных означало для этих материалистов согласиться с тем, что психика есть и у бабочки, и у дождевого червя. И так как даже невооруженным глазом видна разница в поведении, общепринятой стала та точка зрения, что лишенные разума животные действуют «инстинктивно» (что; скрывается за этим термином, предпочитали глубоко не обсуждать), то есть нецелесообразно.
Решение было принято, а задача осталась нерешенной. Она ждала своего часа – прихода в науку новых идей, рожденных кибернетикой. И в первую очередь – прихода идеи п р о г р а м м ы, «предначертания» в переводе с греческого. В генах заложена программа формирования организма из двух слившихся половых клеток. Точно так же кодирование с помощью нуклеиновых кислот, нуклеотидов и аминокислот позволяет создать в организме программу какой угодно сложности поведения – и точно таким же сложным (или простым) может быть сличение, сопоставление программы с реальностью.
Программное поведение дождевого червя, считал Бернштейн, не означает сознания, но и не отрицает возможности того, что у этого примитивного существа имеется модель потребного (но неосознанного, ибо у него нет разума!) будущего. И, стало быть, – программа целесообразного поведения по масштабам червя и мира, в котором он обитает. Перенесите его в другой мир, для которого нет наследственной программы, – и червь погибнет: программа жестка, не способна перестраиваться, да и возможностей воздействия на мир (то есть взаимодействия с ним) у червя так мало...
Но в чем же проявляется целесообразность, если принять такую точку зрения? Физиологи XIX века старались отвечать только на вопросы «как?» и «почему?». Они следовали в этом физике, для которой в неживой природе нет целесообразности, а значит, и вопроса «для чего?».
Ответить на вопрос «как?» – значит описать ход процесса и выразить числами его характеристики. Ответить на вопрос «почему?» означает вскрыть связи явления с другими событиями и вещами, сформулировать законы причинности, создать математические модели – «формулы».
Для науки о песчинке или о мироздании этого вполне достаточно, ибо ни та, ни другое в своем бытии д е й с т в и т е л ь н о не имеют цели. Для рационально мыслящего физика природа подчиняется законам вероятности, и только им. Для рационально мыслящего биолога законы развития живого долгое время обязаны были полностью копировать законы физики.
Так биологи и жили, формулируя вероятностные законы поведения, развития и многие иные, и все вроде бы шло хорошо.
Но все чаще получалось так, что какое-нибудь не очень крупное открытие бросало тень на доброе имя сформулированного закона, – и пошло, пошло... Закон заменяли новым, откорректированным, однако рано или поздно его ждала та же участь. Биологам стало ясно, что они упустили важное отличие живого от неживого и без ответа на вопрос «для чего?» уже не обойтись.
Одной из попыток ответа и было утверждение, что цель живого организма – «выжить». Это, мол, служит движущей силой дарвиновского механизма естественного отбора. Однако математический анализ проблемы, предпринятый Бернштейном, продемонстрировал иное: выживание следует из простого математического уравнения, согласно которому более приспособленные животные б ы с т р е е отбирают пищу у менее приспособленных к данным условиям существования, и «аутсайдеры» вымирают.
Этот финал с роковой неизбежностью наступает всюду, где имеют место динамические процессы, – то есть повсюду на Земле и в космосе, если там где-нибудь есть жизнь. Но вот борьба ли это за существование?
Сколько ни всматривайся в поведение животных, якобы занятых такой борьбой, не заметишь в их поведении агрессивности, характерной для схватки. «Злые волки» существуют только в сказках. Волк не более зол, чем баран, но он хищник и, в соответствии со своей программой поведения, нуждается в пище, что вовсе не означает, что он борется с кем-то из сородичей за свое существование.
Быстроногий волк ест больше, чем хромой или заболевший, отбирая тем самым у них пищу, – но где тут драка? Просто люди, отказывая меньшим братьям в разуме, бездумно переносят на них свои не очень-то симпатичные способы реагирования...
Пытаясь понять разницу между человеком и животным, неизбежно приходишь к тому, что прежде всего следовало бы понять фундаментальную разницу между живым и неживым. А ее современная наука определяет как различное отношение к энтропии, то есть к неупорядоченности своей структуры.
Мертвая материя, от естественных образований до искусственно созданных машин (даже «думающих»!), непрерывно разрушается, теряет первоначальную структуру: облетает краска, ржавеет металл, ползут трещины, выходят из строя электронные компоненты… Энтропия мертвой природы все время увеличивается, если, конечно, кое-где не вмешается человек и не создаст из хаоса руды блестящую отливку, из нее – деталь, а из деталей – станок и тем самым уменьшит энтропию. Однако чтобы машина прожила как можно дольше, она должна как можно меньше работать: ведь у нее нет способности самостоятельно восстанавливать нарушенную структуру.
А живое существо – наоборот. Чтобы существовать, оно должно интенсивно действовать. Только в этом случае все его «части» сохраняют свою структуру, непрерывно самовосстанавливаются. И хотя по вполне понятным причинам (ошибки в генетическом коде и так далее) этот процесс не может продолжаться бесконечно долго, живой организм противится увеличению энтропии. Более того, он по мере развития непрерывно усложняет свою структуру.
Это происходит и чисто физически, и благодаря обучению – то есть благодаря фиксации в памяти разных сведений, а также вследствие совершенствования структур нервной системы, отвечающих за поведение. Организм, противящийся росту энтропии, накапливает в себе ее противоположность – негэнтропию.
Первым подметил это один из отцов квантовой механики, австриец Эрвин Шредингер, и написал книгу: «Что такое жизнь? С точки зрения физика».
И Бернштейн задает вопрос: не означает ли стремление всего живого к росту негэнтропии, что этот процесс запрограммирован природою как ц е л ь существования организма? Ведь встав на такую позицию, нам не нужно рассматривать целеустремленность через призму психологии. Свойства животного, в том числе его поведение, «оказываются выведены из свойств высокоорганизованных органических молекул на какой-то ступени их прогрессивного усложнения».
Так сформулированная цель деятельности – через негэнтропию – поворачивает совсем неожиданной стороной и проблему целеполагания: чтобы обладать такой способностью, организму вовсе нет нужды обладать разумом как способностью «поглядеть на себя со стороны». Достаточно иметь механизм, который различал бы положительные и отрицательные (по отношению к сохранности и совершенствованию структуры организма) результаты столкновений с окружающим миром, а потом закреплял и совершенствовал эту негэнтропийную целесообразность таких столкновений.
Такая целесообразность поведения есть не что иное, «как простое с о о т в е т с т в и е живого существа той задаче, которую ему приходится решать в меру своих возможностей», – заключал Николай Александрович.
Все это подводило к мысли о возможности математического описания работы мозга – описания, которое выражало бы не физиологическое его устройство, а именно целеустремленность, которую у человека называют разумным поведением (мы не забываем, конечно, что разумность поведения человека определяется не только и даже не столько его физиологическим устройством, сколько функционированием личности как общественного существа).
Читая лекции о высшей нервной деятельности в начале века, Павлов говорил: «Пределом физиологического знания, целью его является выразить это бесконечно сложное взаимоотношение организма с окружающим миром в виде точной научной формулы. Вот окончательная цель физиологии, вот ее пределы».
В то время формула эта представлялась похожей на привычные уравнения физики. Однако попытки написать ее неизменно оканчивались неудачей, даже подходы к формуле в конце концов куда-то исчезли! И дело, видимо, было вовсе не в том, что организм «очень сложен». Чрезвычайно сложное поведение мириад молекул воздуха наука ведь умеет описывать уравнениями, обладающими очень большой предсказательной силой...
Обсуждая причину неудач, Николай Александрович обратил внимание исследователей на отсутствие специального математического аппарата, пригодного для описания живых структур: ученые пытаются подойти к живому с теми же мерками, с тем же я з ы к о м, что и к неживому. В самом деле, математика до сих пор рассматривала своими формулами поведение газов, жидкостей, твердых тел, то есть вещей, которые состоят из одинаковых атомов или молекул. Даже такая сложная смесь, как, скажем, плазменная струя, бьющая из сопла ракетного двигателя и состоящая из очень разных частиц, только осложняет дело, но не зачеркивает того факта, что компоненты смеси однородны по отношению к самим себе. Именно о д н о р о д н о с т ь их – причина, по которой к атомам и молекулам можно применить теорию вероятностей. Ведь в ней краеугольный камень – равноправность всех рассматриваемых явлений.
Живой организм устроен иначе. В нем сравнительно немного, в миллиарды миллиардов миллиардов раз меньше клеток, чем атомов в одном грамме-моле неживого вещества. Еще меньше сложных образований – мышц, нервных сетей, органов, – и каждое из них н е п о х о ж е на другое.
Живой организм – принципиально неоднородная структура, а это значит, что законы классической теории вероятностей к нему неприложимы. Попытка будет некорректной.
Новая математика нужна для живого организма потому, что она, по справедливому замечанию Нильса Бора, вовсе не специальная область знаний, вытекающая только из опыта (это было справедливо лишь для элементарной алгебры и геометрии, адекватных со «здравым смыслом»): «Она больше похожа на разновидность общего языка, приспособленную для выражения соотношений, которые либо невозможно, либо сложно излагать словами».
Какой же должна быть эта новая математика? Чтобы быть правильно понятым, Бернштейн предлагает ознакомиться с математической кухней. Она чрезвычайно проста, и многие математики искренне удивляются, почему это люди считают их науку трудной. Ведь в ней всего два класса понятий: номинаторы, то есть объекты (числа или буквенные и иные обозначения), над которыми производятся действия, и операторы – правила этих действий. Только и всего.
Дальше уже начинаются всяческие построения, усложнения. Придумайте новый оператор (правда, это далеко не так легко), и вы сможете совершать действия над новыми, более сложными номинаторами. Те призовут к жизни еще более сложные операторы – и так без конца.
Номинаторы в эпоху «золотого века» математики выглядели крайне просто. Настолько просто, что их очень наглядно изображали в виде графиков на плоскости, в крайнем случае – как перспективно-пространственные «нечто». Сама возможность так поступать – плод и з о б р е т е н и я Декарта, придумавшего систему прямоугольных координат и буквенные обозначения для номинаторов.
Но уже пространства более высоких, чем третья, степеней (то есть требующие более трех координатных осей), – скажем, знаменитое четырехмерное «пространство время», придуманное Эйнштейном и Минковским, не представляется наглядно нашему воображению, привыкшему к трехмерному миру. Формула – пожалуйста, а картинка, образ – увы…






