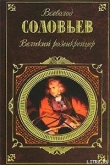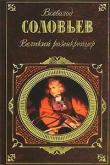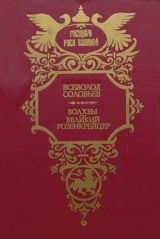
Текст книги "Волхвы. Дилогия"
Автор книги: Всеволод Соловьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Новобрачные на пути из Петербурга в Берлин. Их мчит добрый шестерик, запряжённый в дормез гигантских размеров, представляющий собою чудо немецкого мастерства и немецкой практичности. Дормез этот безобразен на вид и топорен, но зато при первом же взгляде на него можно поручиться, что он вынесет какой угодно путь и какие угодно непогоды. В нём легко и с большим удобством может поместиться шесть человек. В нём не только графиня, но даже и граф, несмотря на свои жердеобразные ноги, могут спать вытянувшись во весь рост.
Днём дормез этот представляет из себя нечто вроде маленького будуара, а ночью превращается в спальню с ворохом перин и подушек. Под привычными и аккуратными руками графского камердинера Адольфа он мгновенно делается в столовую. В нём появляется стол, сервированный на два куверта. Из его таинственных помещений, ящиков и сумок выходят на свет всякие дорожные запасы и припасы.
Жирный Адольф, главным отличительным свойством которого являются налитые кровью глаза и сизый нос, с видимым наслаждением и с сознанием собственного достоинства прислуживает графу и графине. Затем, окончив все свои обязанности и снова превратив дормез из столовой в будуар, он проделывает уморительную эквилибристику, взбираясь своими тучными ногами в толстых шерстяных чулках на высочайшие и широчайшие козлы дормеза. Это восхождение и для более ловкого и худощавого человека крайне затруднительно, для Адольфа же оно с первого взгляда представляется совсем невозможным. Но он каждый раз побеждает все трудности, и графиня, если ей угодно отдёрнуть тафтяную занавеску переднего окна, может любоваться на его широчайшую спину, которая в течение целых часов не шелохнётся и остаётся будто приросшею к козлам. Если графиня отдёрнет занавесочку с небольшого круглого окошечка, помещающегося в глубине дормеза, она может видеть свою камеристку, восседающую среди подушек, ящиков и баулов, в будке, приделанной к дормезу.
За экипажем господ поспешают ещё четыре рыдвана, совсем уже почти бесформенных, похожих на что угодно и в то же время ни на что, но таких же прочных, как и графский дормез. В этих рыдванах помещаются всякие пожитки и остальная прислуга: две прачки, горничная, повар с поварёнком и со всеми принадлежностями походной кухни и, наконец, егерь графа с любимой его собакой Неро.
В первое время весь этот поезд, вся обстановка путешествия занимают графиню и ей очень нравятся: ведь она никогда не выезжала из Петербурга и его окрестностей. Но уже на второй день путешествия и Адольф с его медвежьей ловкостью и сизым носом, и великолепный Неро, на остановках поднимающий восторженный лай, врывающийся в дормез, и изо всех сил старающийся лизнуть графиню в лицо, и все хозяйственные и практичные немецкие сюрпризы дормеза – все сумки, баульчики и прочие – всё это мало-помалу начинает надоедать юной путешественнице. В ней появляется не то что усталость, но нечто, похожее на скуку. А скуки она до сих пор никогда не знала.
С каждым новым днём пути она притом же начинает чувствовать себя неловко, не по себе, и хотя она ещё и не задаётся вопросом, откуда эта неловкость и скука, но если бы хорошенько и серьёзно себя об этом спросила, то должна была бы ответить себе, что и то и другое происходит от её спутника и собеседника.
Да, ей неловко и не по себе с графом, с мужем, которого она сама себе выбрала, с человеком, связанным с нею на всю жизнь. Ни о чём ещё она себя не спрашивает, ничего не решает, но уже чувствует свою непоправимую ошибку. Этот человек, её муж, ей совсем чужой, да и не только чужой, но он ей вовсе не нравится, он ей скучен, неприятен, его присутствие действует на неё подавляющим образом. Она не та, какая была всегда, она будто играет роль, навязанную ей, неприятную, играет с вынужденным внешним спокойствием и с внутренним нетерпением скорее кончить и снова стать собою.
Граф ничего этого не замечает. Он не играет ровно никакой роли, напротив того, он сразу сбросил с себя всякую принуждённость, он до последней степени доволен и по-своему весел. Эта весёлость выражается в том, что он время от времени потирает свои красные, тонкие, с крючковатыми пальцами руки, как-то покрякивает и то и дело повторяет: «Ja wohl!»
Со своей юной подругой он предупредителен до последней степени. Он ежеминутно предлагает ей то то, то другое, берёт её маленькую белую ручку, повёртывает ладонью вверх и нежно и долго целует в самую середину ладони сухими и холодными губами. Он подолгу глядит на полудетское прелестное лицо графини, на её глубокие чёрные глаза, на её горячие, полные здоровой юной кровью губы, на тонкий румянец её нежных подернутых, будто персик, золотистым пушком щёк, на капризный локон, выбивающийся из-под дорожного головного убора. Он глядит, а с какими мыслями и чувствами – этого не разберёшь в его бледных, будто выцветших, будто оловянных глазах.
Он шепчет: «Mein Schatz, mein Herzchen!»
И опять покрякивает, и опять самодовольное «ja wohl» и опять потирание красных рук с крючковатыми пальцами.
Ничего ещё не соображает и ни о чём не думает графиня, но уже эти красные руки, эти крючковатые пальцы, бесцветные глаза и длинный тонкий нос с горбинкой, «mein Schatz» и «mein Herzchen», а пуще всего ощущение его сухих, холодных губ на её ладони и почему-то, ещё того пуще, это самодовольное «ja wohl» ей противны и становятся все противнее, раздражают её всё больше и больше.
А между тем она инстинктивно не только от него, но от самой себя скрывает свои ощущения и впечатления и играет свою роль, то есть всё терпеливо выносит, заставляет себя время от времени ему улыбаться, изредка и очень осторожно, по его требованию прикасаться своими губами к его сухощавой, выбритой перед нею Адольфом щеке. Но ей приходится делать большие над собою усилия, чтобы спокойно выносить его ласки…
Графиня Елена ищет развлечения в том, что может видеть из окна, в постоянно меняющихся картинах и сценах чужой, незнакомой ей жизни. Но час, другой, третий – и эта пестрота начинает утомлять её, теряет весь свой интерес.
– J'ai sommeil! – шепчет Елена и откидывается на подушки в глубине дормеза.
– Schlaf, schlaf, mein Herzchen! – говорит граф, поправляя ей подушки.
Она закрывает глаза. Он глядит на неё несколько мгновений, наклоняется над нею с очевидным желанием поцеловать её, но почему-то воздерживается, отодвигается к своему окну и сидит, весь вытянувшись, как-то выставив вперёд свой горбатый нос и едва слышно напевая какую-то немецкую песню.
Вот графский поезд переехал границу. На немецкой земле граф как бы несколько оживился, в первую минуту даже нечто похожее на огонёк мелькнуло в его молочных глазах. Он с особым усердием стал потирать себе руки и, наконец, не выдержал и, высунувшись в окошко, крикнул Адольфу:
– Nun, Adolph, das ist schon unser Land?
– Ja wohl, Excellenz, Gott sei gelobt! – радостным басом отвечал ему с козел Адольф.
Это естественное и хорошее проявление патриотического чувства господина и слуги не только не было оценено бедной Еленой, но даже тяжело на неё подействовало. У неё защемило сердце, почти так же защемило, как в тот день, когда она хоронила мать свою. Она вдруг после этих радостных немецких фраз почувствовала, что её родина осталась позади, что она на чужбине и одна, совсем одна, что она пленница. Ей вдруг мучительно захотелось услышать звуки русского языка, хотя она и прежде-то не особенно часто на нём говорила и предпочитала ему французскую речь, уже почти всюду слышавшуюся тогда в окружавшем её высшем русском обществе. Немецкий язык, язык её матери и бабушки, всегда ею любимый, бывший языком её интимных бесед с матерью, показался ей теперь совсем чужим, неприятным, неблагозвучным, почти противным в устах графа и Адольфа. И не с кем ей было перемолвиться русским словом; даже её камеристка, сидевшая в задней будке дормеза, была немка. Граф не знал ни одного русского звука и почему-то, как уже заметила Елена, даже относился к этим звукам презрительно. В первые дни пути, слыша какое-нибудь русское слово, он обращался к Елене, насмешливо поводил носом и, кривя рот в усмешке, спрашивал:
– Nun, nun, was bedeutet das? – и при этом, безбожно коверкая, повторял поразившие его слова.
– Aber, Gott, was für eine barbarische Sprache! – всегда заканчивал он.
Тогда Елена спокойно переводила ему слова, и ей и в голову не приходило обижаться на его насмешку над русским языком. Теперь же она в первый раз в жизни почувствовала себя русской.
Эта немецкая земля, земля её мужа и Адольфа, земля её бабушки, показалась ей не только чужою, но и почти ненавистной. Ей невыносимо всем существом захотелось назад, в Петербург, в родной дом, к прежней жизни. Она уже не в силах была играть свою роль. Она неудержимо, громко, почти истерически зарыдала.
Граф изумлённо и как бы несколько тревожно взглянул на неё. Но тревога его тотчас же и прошла, осталось одно изумление. Он спросил её, что с нею, отчего она плачет. Она ничего не ответила и продолжала рыдать.
Он спросил ещё раз спокойным голосом, но очень настойчиво.
– Ах, да оставьте, оставьте меня, пожалуйста! – сквозь рыдания прошептала она, отстраняясь от него с ужасом и брезгливостью. Он медленно и аккуратно вынул из баула флакончик с ароматическим уксусом, положил ей его на колени, а затем отвернулся и сидел молча, вытянув длинные ноги и глядя в окошко.
Наконец рыдания её стихли. Тогда граф обернулся в её сторону и проговорил:
– Успокоилась, mein Herzchen? Ну и хорошо… так плакать и рыдать неизвестно из-за чего не годится для такой умной и образованной особы, как ты… Надеюсь, впредь таких странностей не будет…
Она не взглянула на него, ничего ему не сказала. Она всеми силами постаралась подавить в себе все свои ощущения и продолжать играть прежнюю роль. В ней поднялось новое чувство, ещё не определённое, но сильное. Она сказала себе: «Я никогда не стану перед ним плакать…»
До Берлина оставалось два дня пути, и граф нашёл, что настало время посвятить Елену во всё, с чем она должна познакомиться в качестве графини фон Зонненфельд-Зонненталь. Он несколько часов, очевидно, приготавливался, потому что был крайне молчалив, углублён в себя. Затем он, наконец, приступил к объяснению. Он сделался ещё деревянное, его голова с горбатым носом горделиво поднялась, и он начал мерным голосом и таким тоном, будто совершал какое-то священнодействие, будто вверял Елене глубокую, важную тайну.
Предварительно он объяснил ей, что она теперь уже не княжна Калатарова (Елена едва сдержала своё негодование, когда он безбожно и, очевидно, главным образом из презрения к «варварскому русскому языку» исковеркал её родовое и особенно милое ей теперь имя) и что она должна навсегда отречься от прежних традиций, что она вступает в знаменитый дом графов Зонненфельдов, баронов Зонненталей и должна быть достойной носительницей этого славного имени. Он поспешил добавить, что такою, конечно, она и будет, ибо если бы он на это не надеялся, то не избрал бы её себе в супруги.
Елена вспыхнула и едва удержалась, чтобы с прежней своей детской бойкостью не сказать ему, что для неё вовсе нет особой чести быть графиней Зонненфельд, баронессой Зонненталь, что она княжна Калатарова, и не он ей сделал честь, избрав её, а она ему – согласившись носить его имя.
Но она воздержалась и молча его слушала.
Между тем граф становился всё торжественнее, и его нос поднимался всё горделивее. Он объяснял жене всю историю своего древнего рода, перечислял в мельчайших подробностях все славные деяния своих предков, войны, в которых они участвовали, отличия, которые они получали. Описывал он с точностью учебника географии все поместья и замки, когда-то находившиеся во владении его рода. Он передавал ей историю всех знатных немецких фамилий, с которыми в течение пяти или шести столетий роднились Зонненфельды-Зоннентали…
Дормез останавливался, дверцы отворялись, Адольф, ещё более покрасневший от родного воздуха, появлялся с завтраком, с обедом, с ужином. К дверцам почтительно подходил егерь, с громким лаем врывался Неро. Показывалось здоровое, улыбающееся, немецкое лицо камеристки, почтительно спрашивавшей Елену, не угодно ли графине что-нибудь приказать ей…
Граф останавливался на некоторое время, переговаривался ласково-повелительным тоном с Адольфом и егерем, ел и пил. Но едва захлопывалась дверца и дормез трогался в путь, снова начинался нескончаемый рассказ о Зонненфельдах-Зонненталях.
Елене казалось, что она присутствует на уроке истории и географии. Но так как этот урок продолжался более суток, то, несмотря на всю понятливость и способность ученицы, он стал невыносимым. У неё просто голова туманилась от всех этих неинтересных подробностей чуждой для неё и непонятной жизни. Все эти графы, бароны и фюрсты появлялись перед нею как надоедливые марионетки, прыгали, кривлялись, жили в своих замках, мирились и ссорились между собою, вступали в браки, рожали детей, умирали – и исчезали бесследно, тотчас же забывались ею…
Между тем учитель был неумолим: замечая, что она начинает его рассеянно слушать, он останавливался и задавал ей вопросы, заставляя её доказать ему, что она все понимает и помнит. Если она отвечала невпопад, он терпеливо начинал повторять и говорил ей, что ей необходимо в точности знать всю историю своего рода, что иначе он не может даже представить её своей многочисленной родне. А он желает, чтобы все её полюбили и убедились, что его выбор удачен…
Наконец, уже подъезжая к самому Берлину, граф окончил урок и сидел несколько утомлённый, но довольный, с сознанием человека, благополучно исполнившего важную обязанность.
Оживилась и Елена. Урок был окончен; все графы и графини, бароны и баронессы сразу вылетели из её головы. Это долгое, томительное путешествие кончалось. Графиня стала сама собою, то есть живым, беспечным ребёнком. Она вдруг позабыла всё, что налегло на неё за эти дни как давящая тяжесть, как туман, как мрак.
Она думала о том, что вот она приедет в Берлин и для неё начнётся новая жизнь. Она знала, что попадёт прямо ко двору, в ней заговорило тщеславие, жажда блеска и поклонении. Она твёрдо верила, что очарует там всех, начиная с короля и кончая многочисленной новой роднёю, что она будет занимать первое место везде и всюду. Ведь она знает, что она красавица, ведь все говорили ей, что она поёт, как ангел, и даже вот граф сравнил как-то игру её на клавикордах с игрою святой Цецилии. Она умна, она очень образованна, много знает. Ведь это все правда, и все будут восхищаться ею, её ожидает веселье. Она, как дитя, уже начинала предвкушать это веселье. Она поверила в него – ведь ей так необходимо было в него поверить.
VIIПоздним дождливым вечером подъехали новобрачные к дому графов Зонненфельдов, и с первых же шагов Елену ждало разочарование. Она ожидала, судя по рассказам мужа, встретить чуть ли не царственное великолепие и роскошь. А между тем перед нею в ненастной мгле какое-то тёмное, унылое и небольшое здание.
Отворяется тяжёлая железная дверь, с фонарём и с большою связкою ключей в руках на пороге появляется маленькая, бедно и смешно одетая, старушка-экономка. Оказывается, что родители графа в своём родовом поместии. Дом пуст. Старушка искоса и недоумённо глядит на молодую хозяйку, делает самые уморительные книксены перед нею и графом, что-то бормочет, целует у Елены руку. Наконец она уже более явственно объявляет, что, судя по полученному письму, она ждала молодых хозяев не ранее как через неделю и что поэтому, пусть уж её извинят, в доме не совсем готово. А, впрочем, она сейчас же распорядится ужином и приготовит «экцеленцам» их спальню.
Старушка хлопает в ладоши, пронзительно призывно кричит. Наверху старой каменной лестницы показываются две заспанные немецкие физиономии. Двери хлопают. Какой-то беззубый, ветхий старик в истасканной ливрее приносит восковую свечу в тяжёлом шандале. При бледном мерцании этой свечи да фонаря старушки Елена, опираясь на руку мужа, взбирается по ступеням лестницы.
Они проходят несколько небольших комнат, затхлых и холодных, и останавливаются в столовой.
– Ja wohl! – довольным тоном объявляет граф. – Wir sind zu Hause!
Он дома! А она? Где она?
Она почти падает на жёсткое, как камень, и, как камень, холодное, старое кожаное кресло и тоскливо оглядывается.
Довольно обширная, но невесёлая комната с узенькими окнами, с каменным полом. Выкрашенные в унылый цвет стены, старинная мебель, неуклюжая, запылённая, тяжёлый огромный резной буфет. В глубине комнаты – большой камин, у которого теперь возится беззубый старикашка, раздувая огонь старыми мехами. Граф шагает из угла в угол на своих длинных ногах. Старушка, позвякивая ключами, семенит за ним и что-то ему докладывает, чего Елена не слушает. Граф все повторяет: «Ja wohl!» и в свою очередь что-то приказывает старушке.
Вот она скрылась за дверью. Граф подходит к жене и берёт её за руку.
– О, wie bin ich zufrieden, kuss mich, mein Schatz!.. Да поцелуй меня, твоего мужа, в этом старом дедовском доме.
Законное желание, да и слова хорошие. Но Елена вздрогнула всем телом, целуясь с графом. Ей просто становилось жутко в этом холодном, неприветном доме. На неё находил почти панический страх.
– Как холодно! – тоскливо прошептала она.
Граф поспешно вышел, вернулся с тёплой шалью и закутал ею жену. Но она все дрожала.
– Я велел развести большой огонь в спальне – согреешься… Дом пустой, нетопленный, нас не ждали, – объяснил он.
Старые часы в углу столовой пробили полночь, и каждый их звук тоскливо и больно отдавался в сердце Елены.
Наконец подали ужин. Граф ел с аппетитом и при этом изрядно выпил из принесённой сияющим и лоснящимся Адольфом старой бутылки.
Елена не могла ничего есть. Однако муж почти силой заставил её выпить вина и объявил ей, что это не вино, а настоящий нектар, старое рейнское, какого и в королевском погребе уже немного осталось.
Чудесная душистая влага пробежала теплом по членам графини Елены и несколько согрела её и оживила.
Окончив ужин, граф взял жену под руку и своей торжественной, деревянной походкой повёл её в спальню. Тут Елена застала старушку с ключами и свою камеристку, убиравших комнату.
Камеристка мгновенно скрылась, но старушка не спешила уходить. Она стояла со свечой в руках, тихонько побрякивая своими громадными ключами. Её сморщенное, комичное, какое-то лягушачье лицо сияло видимым удовольствием. Маленькие, слезящиеся глаза её любопытно перебегали с графа на графиню и обратно.
Между тем граф вытянулся во весь рост, горделиво поднял голову и застыл в этой торжественной позе. Свеча, дрожавшая в руке старушки, осветила снизу его лицо, изменяя его черты и делая их крайне некрасивыми и в то же время смешными. Вот рука графа поднялась, не сгибаясь протянулась вперёд, и длинные красные пальцы указывали Елене на что-то.
Она взглянула по этому указанию и увидела огромную старинную кровать под пыльным тяжёлым балдахином. Она сразу и не поняла, что это такое. Её взгляд уловил только горделивое, самодовольное и торжественное выражение в лице мужа и смешную некрасивость этого лица.
Вдруг старушка начала усиленно приседать и желать молодым господам доброй ночи. Теперь не только лицом, но и приседаниями, и звуками, вылетавшими из её беззубого рта, она сделалась совсем похожей на лягушку.
Она пятилась к двери и все приседала, и все квакала. Наконец она скрылась и заперла за собою дверь. Елена не нашла даже в себе силы заняться как следует своим туалетом, в первый раз в жизни чувствуя себя совсем разбитой, ослабевшей. Она мельком оглядела комнату, такую же унылую и выцветшую, как и все в этом доме, такую же холодную, несмотря на огонь, ярко пылавший в камине. Она подошла к кровати и, быстро раздевшись, зарылась почти с головою в мягкие перины. Она лежала, закрыв глаза, просто боясь о чём-нибудь думать. Заснуть бы скорее!
Вот и граф разделся и тоже, как и она, зарылся в перины.
– Вы спите, графиня?
Она ничего не ответила.
– Это родовая наша кровать, она служила уже четырём поколениям нашего рода! – объявил граф, зарылся ещё глубже в перину и мгновенно захрапел.
Елена открыла глаза и смотрела, как от пламени камина унылая комната озаряется неровным, вспыхивающим светом и потом меркнет, как от всех предметов ходят длинные, мерцающие тени. Минуты проходят за минутами, а она все не может заснуть. Вот теперь по всей комнате ей слышится какой-то странный шорох… и вдруг она вспоминает слова графа: «Четыре поколения спали на этой кровати!» И ей начинают мерещиться эти чужие, давно умершие немецкие графы и графини.
Ей чудится, что эти страшные мертвецы подходят к ней и глядят на неё с изумлением и вот-вот сейчас они сдернут с неё свои перины и сгонят её с их родового места. У неё уже зубы начинают стучать от страха. Она всеми силами отгоняет от себя эти призраки. Наконец их нет, они исчезли бесследно, даже странный шорох в комнате прекратился. Но теперь ей противна, ужасна и страшна эта самая кровать чужих умерших людей. Нет, она ни за что не будет спать на этой кровати и жить в этом страшном мрачном доме!
Наконец она заснула и проснулась только тогда, когда муж разбудил её, объявив, что очень поздно, что давно её ждёт завтрак.
При свете дня дом графов Зонненфельд уже не показался Елене страшным, но зато она, обойдя его, разглядела ещё яснее всю его невзрачность. Она не оценила своеобразной художественной печати старины, лежавшей на этом старом доме, который был так непохож на то, к чему она привыкла с детства, чего она ожидала.
Но ведь всё это можно обновить, переустроить, сделать так, как она хочет; ведь достаточно средств на это у самого графа, да и, наконец, у неё – она не бесприданница. Она постаралась поскорее перейти к мечтам о веселье, которое её ожидает. Она весь день с помощью своей камеристки Луизы разбиралась в привезённых из Петербурга вещах и нарядах и спросила мужа, скоро ли он представит её королю и всем родным.
Он отвечал, что скоро, и через несколько дней исполнил своё обещание.
Но каждый новый выезд разочаровывал Елену. Она везде встречала все чужое и неприятное ей. Её всюду встречали ласково и оказывали ей все знаки внимания. Но нигде не находила она того, о чём мечтала: ни блеска, ни роскоши – везде чрезмерная простота и смешные, как ей казалось, странности.
Почти то же впечатление ожидало её и во дворце. После блеска и великолепия Екатерининского дворца, двор короля Фридриха казался очень жалким и бедным. Да и сам король как-то не походил на короля. Он встретил графа Зонненфельда весьма ласково и фамильярно. Он обласкал и Елену, даже взял её за подбородок и сказал какую-то двусмысленность, на которую граф почтительно усмехнулся и которую Елена не поняла. Король задал молодой графине несколько быстрых вопросов о Петербурге, об императрице, о цесаревиче Павле Петровиче, а затем выразил ей, что он очень одобряет выбор Зонненфельда и надеется, что новая немецкая графиня скоро станет ручною и сделается одним из лучших украшений его двора.
– Но графиня очень молода, – прибавил он, – и должна быть внимательной ученицей своих почтенных родственниц.
Он назвал фамилии этих родственниц. Елена ответила, что она уже имела удовольствие с ними познакомиться. Больше ей не пришлось сказать ничего. Король простился с нею улыбкой, похожей на гримасу, и исчез.