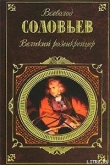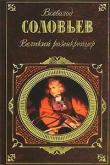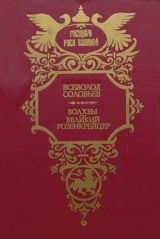
Текст книги "Волхвы. Дилогия"
Автор книги: Всеволод Соловьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Елена пришла в себя. Она уже не была больше во власти графа Феникса. Он освободил её, даже почти забыл. Теперь все его внимание, все его мысли были обращены на Потёмкина. Он видел его в первый раз и внимательно в него вглядывался, старался сразу разобрать его, понять, понять так, чтобы не было ошибки.
Он и приехал в Петербург главным образом для Потёмкина. Потёмкин играл первую роль в его широких планах.
В то время как Сомонов рассказывал светлейшему в чём дело, граф Феникс был весь настороже, готовясь выступить на сцену и произвести на могущественного русского вельможу должное впечатление. Эта минута подошла; теперь ему нужна Елена. Она подготовлена в достаточной мере. Она поможет ему достигнуть сегодня всего, чего можно достигнуть на первый раз.
– Но где же она?
Он ищет её глазами. Её нет. Она скрылась. Но она не может быть ещё далеко. Она не имела ещё времени выйти из дома, уехать. Он сейчас вернёт её, вернёт, не трогаясь с места. Сильная магнетическая связь установлена между ним и ею.
Он мысленно, известным ему способом, призывает её, тянет её к себе незримыми нитями, которыми он её опутал.
Но её нет. Он глядит в ту дверь, откуда она невольно и послушно должна появиться. А её все нет! И ему внезапно становится как-то неловко, тяжело…
Он чувствует, что даром тратит нервную силу, чувствует, что происходит нечто странное, неожиданное, непонятное. Он парализован, обессилен. Но если бы он был внимательнее, если бы менее рассчитывал на свою силу, не думал исключительно о себе, Потёмкине и Елене, он заметил бы, что за ним уже давно следит взгляд светлых, блестящих глаз, что сила этого взгляда сразу оборвала все нити, какими он связал с собою Елену.
Да, она свободна, но ей и тоскливо, и неловко. Голова её тяжела. Она не может больше оставаться в этой гостиной. Она понимает, что сейчас все должны будут снова обратиться к ней, что ей придётся выдерживать допрос Потёмкина. Она спешит воспользоваться предоставленной ей, быть может, на одно только мгновение свободой. Минута, другая – и она уже на крыльце… её карета подана… она приказывает как можно скорее ехать домой.
Она дома, то есть у отца, в своих прежних девических комнатах. Какое счастье, что она вырвалась, что успела вырваться, что не чувствует здесь над собой власти этого непонятного, ужасного человека. Кто он? Но зачем ей о нём думать, надо скорее забыть о нём, надо устроить так, чтобы никто с ним больше не встречался. Она даже вздрогнула всем телом, представив себе его властный, порабощающий взгляд, его дерзкое прикосновение к её обнажённым, покрытым только лёгким газом плечам. Она почти ненавидела этого человека, но к её ненависти и отвращению примешивался страх, какой-то панический страх, от которого трепет проходил по всем членам.
А тот, другой, тоже таинственный человек?.. Её сердце вдруг заныло тоской и болью. Но в это время к ней вошёл её отец. Старый князь Калатаров – теперь никто иначе и не называл его, как старым князем, – носил на себе все признаки преждевременной дряхлости. Спина его сгорбилась, голова будто не совсем твёрдо держалась на плечах и то и дело покачивалась то на одну, то на другую сторону. Он часто среди разговора вдруг замолкал и задумывался, или, вернее, просто совсем переставал думать: нижняя губа его отвисла, глаза начали бессмысленно глядеть в одну точку, по большей части прямо на лицо собеседника. Он ничего не слышал и не понимал. Через несколько мгновений он приходил в себя и всячески старался скрыть своё забытье и рассеянность. Он, очевидно, сознавал это в себе и этим мучился.
Вообще он в последний год начинал избегать людей и, всю жизнь не умевший и часу провести в одиночестве, теперь по целым дням не выходил из дому, никого не принимая, кроме лиц самых близких. Ещё не так давно считавшийся первым щёголем в Петербурге, теперь князь кутался в халат и с утра до вечера шлёпал по комнатам туфлями.
Иногда в нём замечалось волнение, тревога, и никто никак не мог от него добиться их причины. А между тем причина была, хотя и очень странная: старого князя преследовали тени, ложившиеся от предметов. Повернёт он кресло, сядет в него – и вдруг его поразит: отчего это тень от кресла и от него самого такая длинная и ложится именно в такую-то сторону? Вскочит он с кресла и начнёт его всячески поворачивать. А тут заметит тень от стола или от иного предмета и совсем растеряется. Мучают его тени по нескольку часов, возится он с ними, всю мебель переставит. Наконец выбьется из сил и заснёт, а через день-другой опять начинают преследовать его тени – просто чертовщина! Он так и считал это за дьявольское наваждение и принимался за молитву. Но и во время молитвы иной раз бросалась ему в глаза тень от лампадки перед иконой и повергала его в полное уныние…
Князь, войдя к дочери, поцеловал её и сел против неё, запахивая полы своего халата.
– Что же это ты так рано, Ленушка? – спросил он. – Я чаю, у графа Александра Сергеевича народу много, веселье немалое… у него всегда весело да и разъезжаются поздненько… Чего ж это ты?
– Нездоровится что-то нынче, батюшка, – ответила Елена.
– Полно, Ленушка, какое там нездоровье! Да и не годится это тебе вовсе… Ты веселись хорошенько, да жениха себе присматривай… Долго-то так, сама знаешь, быть тебе не пристало.
– Почему же?
– Как почему?.. Все говорят в один голос, что тебе беспременно замуж выходить теперь, чем скорее, тем лучше… Одной тебе быть никак нельзя, никак нельзя – это верно… Только мужа себе выбирай здешнего, Ленушка, не оставляй меня, не уезжай…
– Не уеду, – машинально прошептала Елена.
– То-то… а ежели нездоровится, так ты ляг, да и усни покрепче – сном все и пройдёт… ну Христос с тобой, моя красавица…
У князя с внезапно наступившей старостью явилась и стариковская манера говорить и выражаться. Он стал будто совсем не тем человеком, каким был всю жизнь. И эта перемена в нём была до такой степени поразительна, что Елена, несмотря на всю свою рассеянность, с изумлением на него глядела и его слушала.
Он кряхтя поднялся с кресла, подошёл к ней, набожно перекрестил её, поцеловал в лоб, ещё раз повторил: «Ляг, да и усни хорошенько» – и, шлёпая туфлями, вышел.
Елена не последовала его совету – не легла и не уснула. Она долго, долго, не замечая времени, сидела, прислонив голову к мягкой спинке своего любимого кресла, расшитого искусной рукой её покойной матери. Глубокие, прекрасные глаза её глядели уныло и печально, все лицо побледнело и выражало страдание.
Она невольно думала о словах отца; слова эти навели её на мысли, уже не новые, но никогда ещё до сих пор не являвшиеся ей так ясно, просто и определённо.
Ведь вот она, наконец, добилась того, к чему так рвалась, чего так ждала. Она разведена с мужем; он ей чужой; она свободна. Ещё недавно ей казалось, что именно в этом и заключается всё, что огромное счастье состоит для неё в избавлении от ненавистного ей, невыносимого человека.
Но теперь, когда граф Зонненфельд стал ей чужим, он уже не казался ей ненавистным и ужасным, теперь она не питала к нему никакого дурного чувства. В её сердце не было ни злобы, ни упрёков. Она сразу получила возможность судить прошлое безо всякого пристрастия. Была совершена и с той, и с другой стороны большая ошибка. За ошибку пришлось поплатиться, пришлось страдать… Но ведь и он пострадал, хоть и по-своему, а всё же пострадал. И ей даже стало жаль его… Она подумала тоже, что от неё зависело сократить страдание. Зачем она раньше не освободила и себя, и его? Но, нет, значит, так было надо, значит, именно так и должно было все статься…
Она свободна! Что же дальше? Она ясно видела теперь, что эта свобода не могла быть целью, что эта свобода не что иное, как только первое средство… к чему? К счастью. А счастья нет! Никогда ещё не сознавала она так мучительно ясно, что счастья нет, не было и что без него нельзя ей жить.
Прошёл час, прошёл другой, а она всё сидела неподвижно, глядя в пространство широко раскрытыми глазами, из которых одна за другою скатывались тихие слёзы, и всё думала о том, что счастья нет.
Но вот мало-помалу что-то странное начинало твориться с нею. На неё находило забытье, тихое и сладкое. Будто какое-то жизненно тёплое дуновение носилось над нею, и всю её охватывало и уносило куда-то. Глаза её заискрились, последняя краска сбежала со щёк её. Неподвижная, прекрасная, застывшая, она, очевидно, заснула, но это был странный сон, почти сон смерти…
* * *
В это время Захарьев-Овинов сидел перед своим рабочим столом, среди обстановки той комнаты, которую Елена так ясно видела в графине с водою. Две восковых свечи горели на столе под абажуром, и их слабый свет почти пропадал и терялся: прямо в окно глядела полная, яркая луна, наполняя всю комнату серебром и голубыми тенями.
Отблеск луны падал на лицо Захарьева-Овинова и превращал его в чудное мраморное изваяние. «Новый князь» думал о том, чему только что был свидетелем. Он думал об опыте, произведённом Калиостро над Еленой, и мысленно обращался к «погибшему брату», будто говорил с ним:
«Теперь я знаю все твои силы и все твои средства, знаю, какое громадное, несметное богатство ты мог заключить в себе… Но ты собрал только часть его и безумно, самоубийственно его расточаешь. Ты погиб для вечности, и на тебя ляжет тягость такой ответственности, какой никогда не снести и не выдержать человеку! Тебя окружил, тобой овладел мрак и влечёт тебя к вечной гибели… Ты был зрячим, но ослеп и не видишь чёрную пропасть под своими ногами; ты думаешь, что стоишь на твёрдой почве и не чувствуешь, с какой отчаянной быстротой стремишься вниз, в самую глубину бездны… Мне не спасти тебя, и я за тебя не отвечаю, но я не дам тебе губить тех, кто может подняться к свету и не ослепнуть от его сияния…»
«Да, ты, так же, как и я, сразу увидел и понял, какие чудные задатки таятся в этой прекрасной женщине! Ты поспешил наложить на неё свою руку. Но для чего? Для того, чтобы безжалостно погубить её, для того, чтоб воспользоваться ею, её свежими скрытыми силами для своих жалких, земных целей… И ты не почувствовал, безумный слепец, что на ней уже лежит печать… До тебя я запечатлел её и поведу к спасению!…
«Елена! – прошептал Захарьев-Овинов. – Пришло время… Я хочу лучше узнать тебя… хочу тебя видеть и говорить с тобою…»
Он поднялся с кресла, сделал несколько шагов и остановился. Глаза его сверкнули.
«Елена! Я хочу тебя видеть! Приди!» – в глубокой ночной тишине прозвучал его голос.
Мгновения неслись, и вот перед ним в полосе лунного света появилось как бы лёгкое, белое облако. Оно быстро сгущалось… ещё миг – и Елена стояла перед ним, вся охваченная и пронизанная лучом луны, вся сияющая ослепительной, неземной красотою. Да, это было её лицо, живое лицо, озарённое чарующей, ласкающей улыбкой. Её глубокие глаза с восторгом на него глядели. Это было её живое лицо, а между тем сквозь очертания её полной достоинства и грации фигуры, сквозь складки её белой одежды то яснее, то туманнее просвечивали находившиеся за нею предметы. Это было непонятное существо, оживлённая, одухотворённая грёза…
Захарьев-Овинов оперся о стол, спокойно и торжественно глядел на неё, невольно любуясь ею.
– Елена, друг мой, видишь ли ты меня, слышишь ли? – произнёс он.
– Вижу… слышу… – зазвучал в тишине слабый, но внятный голос.
– Быть может, ты недовольна, что я усыпил тебя и призвал тебя?
– Я… недовольна? О Боже мой, я так счастлива!
По лицу её разлилась блаженная улыбка.
– Тот, кто заставил тебя видеть в воде, смутил он твою душу? Ты его боишься?
– Да, он смутил мою душу… да, я боюсь его.
– Не бойся, он не властен над тобою… я уничтожил его силу…
– Ты! Да, это ты! Милый, о если б знал ты, как я люблю тебя!
Неслышно, как лёгкое дуновение, она двинулась к нему, простирая свои бледные, почти прозрачные руки и глядя на него с обожанием, с восторгом, с беззаветной любовью.
Но он отступил от неё. За мгновение перед тем спокойное лицо его исказилось как бы страданием.
– Ты меня… любишь? Ты «так» меня любишь! Несчастная! – в ужасе прошептал он. – Уйди!
Её руки опустились. На глазах её блеснули слёзы. Глубокий, тяжкий вздох пронёсся и замер. Она хотела сказать что-то и не могла.
Она таяла, испарялась, очертания её лица, её фигуры сливались с лунным светом, и слились с ним, и бесследно исчезли.
Захарьев-Овинов с отчаянием сжал свою горящую голову руками.
«Она меня любит! Любит меня страстной, земной, погибельной любовью!.. А я? А я? Разве я не люблю её? Люблю как презренный, жалкий раб плоти, люблю всем сердцем, всей душою, люблю каждой каплей моей крови!.. Так вот что это значит, вот зачем я здесь!.. Так вот оно, моё последнее испытание!..»
VIIНо что же произошло в гостиной Сомонова после исчезновения Елены?
Граф Феникс оставался несколько мгновений поражённый. Убедившись в необыкновенной чувствительности Елены, в самых счастливых для него и необходимых ему свойствах как телесной, так и духовной её организации, он рассчитывал произвести в этот вечер целый ряд самых интересных опытов. Эта исключительно созданная молодая женщина, так быстро и искусно им подготовленная и настроенная, была в его руках послушным орудием, которым опытный мастер мог распоряжаться по своей воле. Его деятельная мысль, его горячее воображение создали ему, так сказать, целую программу представления, и он должен был непременно очаровать этим представлением всех, а прежде всего очаровать Потёмкина.
И вот этой послушной, гибкой в его руках, как воск, заворожённой им пленницы нет. Её отсутствие спутывает все расчёты, изменяет программу.
Однако не это обстоятельство смущало его и поражало. Ведь ещё несколько часов назад он не знал Елены, не думал о ней. Она явилась для него счастливой неожиданностью и только. Программа с её участием была создана внезапно, по вдохновению. Значит, была другая программа. Придётся вернуться к этой прежней программе. Ему будет несколько труднее. Может быть, впечатление окажется менее сильным – вот и всё. А потом он так или иначе наверстает потерянное…
Но она исчезла! Какая-то неведомая сила разрушила его силу. Он знал, что нужно нечто совсем исключительное. чтобы эта связь порвалась вопреки его воле. Одно только это обстоятельство и поражало его, смущало, лишало на время свойственного ему самообладания и спокойствия.
Однако он быстро овладел собою и с полным достоинством и сознанием своей силы встретил обратившийся к нему взгляд Потёмкина.
– Так вот твой фокусник? Ну, покажи мне его, посмотрим, что за птица, – говорил Потёмкин Сомонову, – дай поглядеть, проведёт ли он меня… а хотелось бы, чтоб провёл – смерть скучно!..
Потёмкин скучал весь этот день, с самого утра. Он уже и так встал левой ногой. Все его сердило, все казалось ему пошлым, глупым, надоедливым, совсем бессмысленным. Только во время долгой утренней беседы с императрицей он несколько оживился.
Он представлял ей широкие, создавшиеся в его мыслях и воображении, по мере того как он их излагал, планы относительно устройства Новороссии.
Он ушёл внезапно прозревшим, озарённым оком в глубь будущих времён и горячо, красноречиво пророчествовал русской царице о громадном значении для России нового, создаваемого им края.
Он увлёк за собой и царицу. Как и всегда, спокойная, рассудительная, боявшаяся увлечений, она поддалась обаянию этого дышащего огнём человека и прониклась верой в его пророчества.
Она одобрила все его решения, планы, и уверенной, твёрдой рукой начертала на поднесённых им бумагах: «Екатерина».
Он был оживлён и доволен, но едва вышел из её кабинета, как его жар, вдохновение, оживление мгновенно исчезли. Он снова почувствовал себя охваченным атмосферой лжи, фальши, интриг и лести. Омерзение и скука овладели его душой. Давно надоевшая, давно знакомая, противная картина! И главное – давно знакомая! Ничего в ней нового, неожиданного, оригинального! Ведь он наизусть знает всех этих людей, насквозь их видит и презирает их глубоко, до отвращения… Придворные женщины! – но ведь он их тоже слишком хорошо знает, и все они, несмотря на красоту свою и молодость, ему приелись, как однообразное, ежедневно подаваемое блюдо. Бывало, и ещё не так давно, красота и молодость останавливали на себе его внимание, заставляли забывать обо всём ином, пленяли сами собою, волновали кровь, сулили минуты забвения и восторга. Теперь уже никто и ничего не сулит ему. Он глядит на этих обдуманно, искусно наряженных, кокетливых красавиц, из которых каждая готова расточать перед ним свои улыбки, из которых ни одна не решится играть перед ним роль неприступной крепости, – он глядит и видит в них только недостатки, и его пытливый, привычный взгляд сразу подмечает в них именно то, что они всеми мерами стараются скрыть… Потёмкин рассеян. Он смотрит исподлобья, как нахмурившаяся туча, он невежлив, даже груб. Ему душно, дышать нечем…
Он уехал. А скука преследует, а тоска сосёт. Хоть бы найти что-нибудь, что-нибудь совсем глупое, дикое, даже безобразное, но только новое, незнакомое, неожиданное – лишь бы развлечься!
Он здесь, и ему как будто обещают что-то. Сомонов в волнении, восторженно передаёт ему об удивительном опыте: под влиянием иностранца бывшая графиня Зонненфельд объявила здесь, сейчас, всем, о его приезде… Да, конечно, она не могла знать, что он приедет. Но ведь это одна только случайность, да и, наконец, что тут интересного? Что тут для него интересного? Ну, угадала и все тут… К тому же это было без него: он ничего не видел и не слышал…
Разряженный в пух и прах, осыпанный дорогими каменьями человек перед ним раскланивается. Сомонов представляет ему заезжего фокусника.
«Граф Феникс – черт знает что такое!..»
Потёмкин взглянул, увидел красивое, энергичное лицо, живые и проницательные чёрные глаза, смело на него глядевшие. Он небрежно кивнул головою на почтительный поклон иностранца, презрительно усмехнулся и подумал:
«Однако, должно быть, шельма!»
Граф Феникс нисколько не смутился, хотя смысл усмешки Потёмкина и даже сущность его мысли были ему ясны. Своим мелодическим голосом, в красивых фразах он выразил русскому вельможе, что гордится честью быть ему представленным и что сделает все для того, чтобы не на словах, а на деле доказать ему своё глубокое уважение.
Потёмкин не находил нужным церемониться и на любезность отвечать любезностью. Какое ему было дело до «этой шельмы» и до мнения, какое о нём составит себе «эта шельма». Ему было скучно. Если ему покажут что-нибудь интересное – отлично! А если нет, он и уедет скучать где-нибудь в ином месте…
Он почти так и выразил это прямо, потребовав, чтобы ему показали что-нибудь интересное. Тогда граф Феникс приступил к осуществлению своей первоначальной программы.
– Ваша светлость, – сказал он Потёмкину, – вы напрасно принимаете меня за фокусника или что-нибудь в этом роде, вы очень скоро убедитесь в своей ошибке, за которую я во всяком случае не претендую. Вы желаете увидеть нечто выходящее из ряду привычных, ежедневных явлений. Если захотите, я вам покажу очень много такого, но во всём необходима постепенность, последовательность: не я начну показывать, а моя жена.
– Ваша жена… графиня Феникс… где же она? – произнёс Потёмкин с такой улыбкой, которая могла бы уничтожить всякого.
Но графа Феникса она нисколько не уничтожила. Изящным и полным достоинства жестом он указал Потёмкину на Лоренцу, сидевшую неподалёку и спокойно глядевшую на говоривших.
Потёмкин взглянул и увидел прелестную женщину. Он сразу, во мгновение ока, сделал ей надлежащую оценку. Она была совсем в его вкусе. Он именно любил подобную неправильную, капризную красоту. Он быстро подошёл к Лоренце… ещё минута – и он уже сидел рядом с нею. Выражение скуки и горделивого презрения сбежало с лица его…
Она щебетала ему что-то на своём странном, смешном и милом французском языке, а он внимательно слушал. Он любезно, покровительственно, ласково улыбался ей. Хорошенькая волшебница заколдовывала его с каждой минутой всё больше и больше.
– Что же, ваша светлость, угодно вам, чтобы моя жена показала что-нибудь интересное и достойное вашего внимания? – спросил граф Феникс.
– Она уже мне показала самое интересное и прелестное – показала себя, – проговорил Потёмкин, не отрываясь от Лоренцы.
Граф Феникс поклонился, благодаря за комплименты. И теперь уже на его губах мелькнула насмешливая и презрительная улыбка.
– Вы очень любезны, князь, – засмеялась Лоренца, в то время как бархатные глаза её загадочно и странно глядели на «светлейшего», – но если мой муж что-нибудь обещает, то он выполняет обещанное, а когда ему нужна моя помощь, я ему помогаю… Друг мой, – обратилась она к мужу, – если тебе угодно, ты можешь приступить к опыту.
Слово «опыт» мигом облетело гостиную. Как перед тем Елена, так теперь Лоренца сделалась средоточением всех взглядов.
Произошло нечто внезапное. Граф Феникс наклонился к жене, положил ей руки на плечи. Затем Потёмкин и все, стоявшие близко, расслышали, как он тихо, но повелительно приказал ей: «Спи!» Он прижал ей глаза указательными пальцами, потом открыл их снова и отступил.
Лоренца будто умерла. Глаза её были открыты, но взгляд их сделался очень странным. Муж подошёл к ней снова, приподнял её с кресла. Она оставалась неподвижной, как статуя, окаменевшей. Она произвела такое особенное и жуткое впечатление и в то же время была как-то так жалка, что многим стало тяжело и неприятно.
Граф Феникс почувствовал общее впечатление, быстро посадил жену в кресло и закрыл ей глаза. Он обратился к Потёмкину, Сомонову и всем окружавшим:
– Прошу вас, – сказал он, – на мгновение оставить её и следовать за мною.
Все прошли в соседнюю комнату, за исключением двух дам, как бы прикованных к месту от изумления и не сводивших глаз с Лоренцы, да Захарьева-Овинова, неподвижно сидевшего в самом дальнем и менее освещённом углу гостиной. Он с самого появления Потёмкина оставался в стороне, и никто не обращал на него внимания.
Между тем граф Феникс запер за собою дверь и сказал:
– Мы оставили её спящей, но это особенный сон, во время которого у человека являются такие способности, каких он во время бодрствования не имеет. Вы убедитесь, что жена моя, хотя, по-видимому, и спит, но всё видит с закрытыми глазами, что она может читать даже мысли человека.
– Будто бы? – воскликнул Потёмкин.
– Так как вы первый громко выразили сомнение в словах моих, ваша светлость, то вас я и попрошу убедиться. Будьте так добры, придумайте что-нибудь, решите, что должна сделать моя жена, и она угадает ваши мысли, исполнит всё, что ей будет мысленно приказано вами. Что вам угодно приказать ей?
– Это уж моё дело! – усмехнулся Потёмкин.
– Да, но в таком случае никто, кроме вас, не примет участия в опыте, и вообще, как мне кажется, опыт будет менее убедителен. Предупреждаю вас, что я не пойду за вами, я останусь здесь, и пусть кто-нибудь сторожит меня.
Потёмкин сдался.
– Хорошо! – сказал он. – Решим так: графиня Феникс прежде всего должна нам что-нибудь пропеть, у неё, наверное, прелестный голос…
– Вы будете судить об этом, она вам споёт…
– Я вовсе не желаю утруждать её, а потому пусть она, окончив пение, выйдет из гостиной на балкон, сорвёт какой-нибудь цветок и даст его мне… Видите… всё это очень нетрудно. Только вы, господин чародей, оставайтесь здесь.
– Не только останусь здесь, но разрешаю связать меня и сторожить хоть целому полку – я не шевельнусь… Идите, ваша светлость, подойдите к ней и спросите, видит ли она вас и ваши мысли? Потом дуньте ей в лицо. Она очнётся и все исполнит.
– Это интересно, – сказал Потёмкин, – государи мои, пойдемте, пусть кто-нибудь останется с чародеем.
Однако никому не хотелось оставаться. Но Потёмкин взглянул на всех, нахмурив брови, и осталось несколько человек. Затем все вышли, заперев за собою двери. Потёмкин подошёл к Лоренце и, любуясь её прелестным, застывшим лицом, сказал ей:
– Belle comtesse, me voyes vous? Видите ли вы меня?
– Да, я вас вижу! – прошептали её побледневшие губы.
Тогда он подумал о том, что она должна сделать и спросил:
– Видите ли вы мои мысли?
– Вижу…
Он дунул ей в лицо, она сделала движение, открыла глаза и несколько мгновений с изумлением глядела вокруг себя. Наконец она, очевидно, совсем очнулась, поднялась с кресла, хотела идти, но внезапно остановилась и запела.
Голос у неё был не сильный, но звучный и нежный. Она пела старинную итальянскую баркароллу. Все слушали её с наслаждением. Потёмкин стоял перед ней выпрямившись во весь свой могучий рост и любовался ею.
Баркаролла окончена. Последний звук замер. Лоренца взялась за голову, будто вспомнила что-то, затем быстро направилась к балкону, отворила стеклянную дверь и через несколько мгновений вернулась с цветком в руке.
Она подошла к Потёмкину, прелестно улыбнулась, заглянула ему в глаза своими соблазнительными глазками и подала цветок. Он поцеловал её маленькую, почти детскую руку…
В гостиной началось шумное движение. Все изумлялись, восхищались, почти все дамы были просто в ужасе. Потёмкин задумался, отошёл от Лоренцы и грузно опустился в кресло.
– Да, это интересно!.. Это Бог знает что такое! – растерянно прошептал он сам с собою, В то же мгновение что-то заставило его обернуться – и он увидел рядом с собою Захарьева-Овинова. Он невольно вздрогнул.
– Князь! – воскликнул он, – ты здесь?
– Минута близка! – произнёс спокойный, так памятный ему голос.
Потёмкин хотел сказать что-то, но будто сразу не мог сообразить. Глаза его опустились. Когда он снова их поднял, Захарьева-Овинова уже не было возле него. Его уже не было и в гостиной.