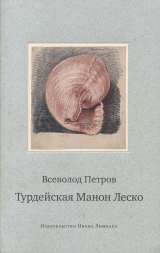
Текст книги "Турдейская Манон Леско"
Автор книги: Всеволод Петров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
X
Лежа на нарах, надумал себе любовь к этой советской Манон Леско.
Мне страшно было сказать себе, что это не так, что я ничего не надумал, а в самом деле все забыл и потерял себя и живу только тем, что люблю Веру.
Я укладывался на нарах так, чтобы видеть сразу весь вагон. Где бы ни появилась Вера, я мог ее видеть. Я поворачивался, как сомнамбула, в ту сторону, где была она. Я был не в силах на нее не смотреть.
Вера появлялась из-под нар с особенной прической, которую стала делать только теперь: волосы были высоко взбиты справа и слева; лицо от этого становилось тоньше и строже. Прическа придавала ей непонятное сходство с фантастическими дамами восемнадцатого века. Губы с утра были ярко нарисованы. Вера двигалась по вагону, а я лежал на нарах и поворачивался вслед за ней.
– Я как на сцене, – говорила мне Вера.
Теперь она почти не убегала. В кинематографе и на танцульках девушки бывали без нее.
Я выходил из вагона один и ждал ее у ближайшего перехода. Мы уходили бродить по лабиринтам среди эшелонов. Они тянулись повсюду и мелькали у меня в глазах. Вера всегда безошибочно находила дорогу. Она меня вела. Когда мы оставались одни, я не мог оторвать от нее губ. Она потихоньку поворачивала ко мне лицо. Я ждал, когда вся она ко мне повернется и быстро, стремительно меня поцелует.
Мы возвращались порознь. У последнего перехода я с ней прощался. Вера шла в вагон, а я приходил туда позднее, один, и взбирался на нары, чтобы снова на нее смотреть.
– Все смешалось в доме Облонских, – сказала мне Нина Алексеевна, когда я взгромоздился на нары, положил голову повыше и сдвинул дорожный мешок, мешавший мне видеть Веру.
– Что вы хотите этим сказать? – официально спросил я.
– То самое, что вы сами знаете. Когда мы ходили в кино, Галопова оставалась в вагоне и видела, как вы целовали Веру.
– Неужели вы ей поверили? – сказал я с негодованием.
– Я ей сказала, что не верю. Но если бы вы только знали, какие мерзости рассказывают о вас в вагоне! Галопова говорит, что вы столкнули маленькую Лариску и та кричала: «Не трогайте Верочку», – а вы ничего не слушали и всюду лезли со своими поцелуями.
– И вы всему этому верите!
– А Левит сказал, что вы завели разврат в нашем вагоне и что по ночам у печки вы черт знает что делаете с Верой. И даже Асламазян – вы ведь знаете, как он к вам расположен, – и тот говорит, что не ожидал от вас этого.
– Я надеюсь все-таки, – сказал я, – что вы не будете верить всем этим пошлостям. Я всегда считал, что в подобных случаях откровенность совсем не у места. Но если уж мы живем настолько впритирку друг к другу, что скрыть ничего нельзя, то я предпочитаю, чтобы вы знали обо всем не от Галоповой, а от меня самого.
– Я тоже так предпочитаю, – сказала Нина Алексеевна.
– Неужели вы думаете, что я влюблен? Разве я похож на влюбленного? – спросил я и повернулся, потому что Вера перешла на другую сторону вагона.
– По-моему, очень похожи, – сказала Нина Алексеевна.
– А между тем это вовсе не так. Но вы ведь сами видите, что Вера какая-то особенная. Она ничуть не похожа на других дружинниц. Те – мещаночки. Они ничего не могут придумать. Все у них страшно обыденно – все их романы, ссоры, надежды, все, чем они живут.
– А Вера – необычайная?
– Вот вы смеетесь над этим. А у нее в самой внешности есть что-то особенное. В ней какие-то черты восемнадцатого века. Она похожа сразу на Марию-Антуанетту и на Манон Леско, – сказал я и снова повернулся вслед за Верой.
– Вы с ней об этом и говорите на ваших прогулках? – спросила Нина Алексеевна.
– Нет, отчего же? У нее есть фантазии, желание славы; она мечтает стать актрисой. Вообще какой-то девический романтизм. Вот мы об этом и разговариваем, – сказал я.
– Вы думаете, что вас никто не видит, а вас все, решительно все встречают, – сказала Нина Алексеевна.
– Не может быть, чтоб уж решительно все, – сказал я с улыбкой.
– А Вера нарочно афишируется с вами, – сказала Нина Алексеевна, – чтобы Розай приревновал ее.
– Но боже мой, что ж тут такого! Я же говорю вам: она меня интересует совершенно литературно, – сказал я.
– Какая уж тут литература! – сказала Нина Алексеевна.
– Вера из породы пламенных людей, живущих вне формы, – ответил я.
– Что еще за пламенные люди?
– По-моему, это понятно, если говорить о гениях, – сказал я. – Вот Гёте, Моцарт, Пушкин – люди безупречные, совершенные. В них все определяется формой. Удел безупречности – завершать и подводить итоги. Не надо думать, конечно, что они не могут быть бурными; но у них сама буря как-то срастается с формой и традицией. А вот Шекспир и Микеланджело – пламенные, со срывами и падениями, но они как-то разрывают форму и прорываются в будущее. Это несовершенные гении, которые выше совершенных: они создают совершенство иного рода. Они наивны, а те умны. Я считаю, что и всех не гениев можно делить на две категории: безупречных и пламенных, в форме и вне формы, то есть с тенденцией в ту или другую сторону. Вот и Манон Леско все время разрывает форму.
– И Вера тоже?
– И Вера вне формы. Она похожа на пламя от свечки: мечется во все стороны, и, наверное, достаточно простого дыхания, чтобы ее погасить.
– Теперь уже ясно, что вы влюблены в нее. Вы весь мир теперь видите через Веру, даже Гёте и Моцарта, – сказала Нина Алексеевна.
– Вы ошибаетесь, – ответил я.
– Мне вас очень жалко, – сказала Нина Алексеевна, – я уверена, что Вера над вами смеется.
– Очень может быть, – ответил я.
XI
Солнце светило так настойчиво, что снег на крыше вагона растаял и по углам повисли длинные сосульки. Ушел эшелон, закрывавший от нас пейзаж. Открылось поле с некрасивыми станционными домиками. Снег сверкал там по-зимнему, а вокруг эшелона натаяли лужи. Все шумно вылезли греться на солнце и широко раскрыли вагонную дверь.
В теплушке стало резко, непривычно светло. Все меня раздражало и казалось мне грубым. Дул мокрый ветер. Люди тоже все погрубели. Левит растолкал всех и с наслаждением подставил свою дряблую физиономию под солнечный луч. Я лежал на нарах и притворялся, что сплю. Над самой головой у меня, по крыше вагона, протопотали быстрые мелкие шаги.
– Это Розай с ума сходит, – сказали девушки, – вылез на крышу и бегает, как козел.
– Вот это настоящий мужчина, – сказала Галопова.
Через минуту Розай, маленький, раскосый, крепкий, весь красный от бега, ворвался в наш вагон. В руках он держал большую ледяную сосульку и с размаху бросил ее в Веру. Я привстал на нарах, чтобы все это лучше видеть. Вера страшно покраснела, стряхнула сосульку на пол и оглянулась на меня.
– Кто со мной на крышу? – крикнул Розай и схватил Веру за руку.
Вера вырвалась, он снова схватил ее.
– Пустите, – сказала Вера, но Розай держал ее цепко.
Я с каменным лицом посмотрел на Веру. Она могла расплакаться или, может быть, могла тут же войти во вкус игры. Все это я видел в ее лице. Вера метнулась в сторону, Розай ее дернул. Оба упали. Он тяжело дышал. Мне показалось, что он ее стал щипать.
– Не надо, – сказала Вера слабым голосом.
– Может быть, вы перенесете вашу игру куда-нибудь в другое место? – недовольно сказала Нина Алексеевна.
Розай не обратил на нее внимания. Он снова наскочил на Веру. Кругом хохотали. Наконец Розай сел, и Вера села рядом с ним. Я спустился с нар, вышел вон из вагона и куда-то пошел по весенним лужам. Вера сделала выбор. Мне было все равно, куда идти. По дороге я столкнулся с Асламазяном.
– Пойдемте со мной, – сказал Асламазян, – представьте, в этих домиках можно достать водку.
– С величайшим восторгом, – сказал я.
Когда мы вернулись, ни Розая, ни Веры не было в теплушке. Мне казалось, что я видел их возле домиков с водкой. Но я не стал смотреть, и, может быть, я ошибался.
– Недурные сцены устраивает ваша Манон Леско, – сказала Нина Алексеевна.
– Да ведь это вполне в местных нравах, – небрежно сказал я.
Вера не приходила. Я чувствовал на себе взгляды всего вагона. Нина Алексеевна смотрела на меня с насмешливым состраданием. Оставаться было невыносимо.
– Ну, пойду изучать восемнадцатый век, – сказал я, взял «Вертера» и ушел.
Я бродил по лабиринту среди эшелонов, там совсем нетрудно было найти дорогу. Если бы Вера мне встретилась, я прошел бы мимо, ушел бы в сторону. «Конечно, я просто смешон ей», – думал я. Но Веры нигде не было.
Я вернулся в вагон, когда все уже улеглись. Вера не приходила. Асламазян меня дожидался. Мы нудно и бесконечно медленно пили с ним водку. Потом я долго лежал с открытыми глазами в темноте и читал себе стихи Олейникова:
Однажды красавица Вера,
Одежды откинувши прочь,
Вдвоем со своим кавалером
До слез хохотала всю ночь.
Действительно весело было,
Действительно было смешно.
А буря за форточкой выла,
И дождик стучался в окно.
XII
Вера пришла только утром и хотела незаметно скрыться под нары, но было слишком поздно: все уже встали, в вагоне шла жизнь.
Она, наверное, хотела прийти пораньше, но безалаберно провозилась и запоздала. Я видел в окошко, как она боязливо выходила из низкого станционного домика и кружной дорогой пробиралась в вагон.
Веру встретили ледяным молчанием. Но шпильки могли начаться в любую минуту. Тишина была опасной. Левит закашлялся на своих нарах.
– Дайте мне зеркальце, Верочка, – сказала Нина Алексеевна и спасла этим Веру.
Напряжение разошлось. Вера засуетилась, разрыла свою корзинку. Побивание каменьями не состоялось. Все внезапно успокоились: в самом деле, ничего не произошло. Вера от меня сторонилась, ни разу не посмотрела. Я выдержал характер: приветливо поздоровался с ней, стал медленно умываться и пошутил с Асламазяном насчет нашего вчерашнего кутежа.
Я вышел гулять со своим «Вертером», не заботясь о направлении. Лучше сказать, я нарочно пошел не туда, где мы обычно ходили с Верой. Но я не успел еще скрыться среди эшелонов, и Вера меня догнала.
Она подошла ко мне и улыбнулась неуверенно и вместе дерзко. Я остановился. Вера ждала и молчала; я не начинал объяснения.
– Вы обо мне думаете гадости, – сказала Вера.
– Нисколько, Верочка, – сказал я.
– А я перед вами ничуть не виновата, – сказала Вера и топнула ногой.
– Конечно, ничуть. Вы мне ничего не обещали; вы вправе поступать, как считаете нужным, – сказал я.
– А я ничего плохого не сделала, – сказала Вера и снова топнула.
– Вы сделали выбор, – сказал я и хотел уйти.
– Нет, – ответила Вера с упрямством.
Я молчал.
– Просто я вам теперь не могу объяснить, есть причины. А потом я, может быть, вам объясню, – сказала Вера.
Я понял, что Вера считает меня идиотом. Потому так уверенно старается меня обмануть. Почему бы мне и не поверить ей? А я из самого пошлого самолюбия захотел показать, что я не такой уж идиот. Нет, я не хотел ей поверить, потому что для меня это было слишком серьезно. Я подумал, что в самом деле ее люблю.
– Я ведь вас ни о чем не спрашиваю, – сказал я.
Вера смотрела вниз.
– Верочка, – сказал я, – все остается по-прежнему. Я продолжаю считать вас удивительной девушкой. Я буду чудесно к вам относиться. Мы будем дружить, если вы захотите. Но только мы больше не будем говорить о любви, потому что соперничества между мной и Розаем не может быть.
– Это ваше последнее слово? – спросила Вера.
– Ну конечно же, Верочка, – сказал я и пошел прочь.
Мы снова, как со свидания, порознь вернулись в теплушку. Вере трудно было держаться: в вагоне установился тон, по которому выходило, что ничего важного не случилось; я был с ней приветлив и холоден, и она подчинялась этому тону; но вместе с тем она чувствовала что-то неконченное в нашем объяснении. Когда я взглядывал на Веру, она делала страдающее лицо; но, должно быть, она и вправду мучилась. Я ушел на нары; Вера тоже спряталась на свою постель. Что-то снизу укололо мне ногу, как будто соломинка или шпилька просунулась между досками. Я привстал, чтобы сбросить соломинку, и в это время Вера ловко всунула мне в руку письмо.
Нельзя было читать его тут же, на глазах у всего вагона. Я схватил шинель и вышел; может быть, я сделал это слишком быстро. Я стоял у чужой теплушки, под паровозом, и читал:
«Простите!!! Простите меня. Я плохая, гадкая, нет, хуже – отвратительная пустая девчонка. Я не оправдываюсь перед вами. Я не могу спокойно писать, мне не связать в целое мысли. А хочется все рассказать вам о себе. Все, все. Вы бы поняли, в чем я прошу простить меня. Вас и ваше сердце. Ведь я знаю, что ему больно.
Я поступила страшно неправильно. Но поверьте, совесть все время мучила меня. Сердце болело. А сейчас что с ним! Да и со мной не лучше.
Мне так хочется поцеловать моего умного, хорошего друга. И со слезами просить это простить.
Как я сейчас себя ненавижу!
Вы можете не изменять своего решения. Но мое сердце просит вас или совсем забыть меня, или простить. Простить за то, что вы полюбили меня. Все могло бы быть иначе. Я виновата. И еще за то, что я сделала вам так больно. Ведь и в том, что у многих нет ко мне уважения, тоже я сама виновата.
Поймите меня и простите. Но лучше не думайте обо мне. Может быть, все пройдет само собой. А я буду молиться. Ваша В.».
Я так впился в это письмо, что не видел Веры, которая все время стояла рядом со мной. Я постарался сделать равнодушное лицо, но у меня вышла какая-то гримаса. Я взглянул на Веру.
– Если б вы знали, какое у вас было лицо, когда вы читали, – сказала Вера.
– Я думаю, самое обыкновенное, – сказал я.
– Нет, хорошее, хорошее. Я теперь знаю, что вы не то, чем хотите казаться, – сказала Вера.
– Я ничем не хочу казаться, – сказал я, – вы написали прелестное письмо. Такое же прелестное, как вы сами. Но я ничего не могу ответить вам, кроме того, что сегодня уже говорил.
– Вы меня не прощаете, – сказала Вера.
– Бог мой, мне не в чем прощать. Вы не виноваты передо мной, – сказал я и пошел в вагон.
Вера не трогалась с места. Я отошел несколько шагов и вернулся назад.
– Вы только не думайте, Верочка, что я вас презираю или что-нибудь подобное, – сказал я, – вы хорошая, очень хорошая. Пойдемте теперь в теплушку.
С этого свидания мы вернулись вместе.
XIII
Я весь вечер не видел Веру – она ушла под нары и не показывалась. В вагоне о ней уже не говорили. Там возникло новое событие: воспользовавшись отлучкой капитанши, Галопова высекла маленькую Лариску, которая сверху плевала ей в суп. Все с жаром обсуждали – должна ли она была это сделать или не имела на то никакого права.
Левит ревел и сам плевался по этому поводу, но, в общем, одобрял порку и очень хотел распространить ее дальше, на саму Галопову и некоторых других. Капитанша рыдала на своих нарах так долго и неестественно, что даже сама высеченная Лариска обратилась к ней с вопросом: «Что ты воешь, ревушка-коровушка?» – и была наказана вторично. Сама Галопова, задрапированная в платок, с одинаковым презрением выслушивала любые взгляды на это дело, даже те, которые клонились в ее пользу. Видно было, что наконец она приложила к жизни любимую свою мысль и доказала, что она не хуже других.
Потом запели песни, хотя капитанша продолжала страдальчески стонать и время от времени высовывала голову со своих нар, грозя убить Галопову. Теплушка дрожала. Было, должно быть, поздно, когда все угомонились и после пережитых волнений крепко заснули.
Я сел у огня и всю ночь просидел один. Мне было грустно, что я возвращаюсь в пустую, безмерно пустую жизнь. Я хотел думать о другом и вспомнил прежние свои мысли, которые были мне дороги, – о том, что я вернусь когда-нибудь с войны и буду жить особенной жизнью – мерной, замкнутой и сдержанной, в которой не будет ничего, кроме мыслей. Я представил себе книги, скульптуру, занятие музыкой. Все это не имело больше никакой цены для меня, потому что уводило от Веры. Я подумал, что Вера высокомерна со мной и выходит победительницей в наших объяснениях. Мне показалось, что ее письмо написано свысока. Я достал и снова прочитал письмо и увидел, что в нем нет единственно нужного мне: там не было сказано, что Вера меня любит. Мы с ней были совсем чужими. Мы ни в чем не совпадали. Она была во мне, как пуля в ране. Я не мог перестать ее чувствовать. Я ревновал ее как-то не так, как ревновал бы другую. Что бы она ни сделала, мне все в ней казалось прелестным. Я вспомнил, как на днях все сердились на Веру за какую-то грубую выходку по отношению к подруге, а я сказал с абсолютной искренностью: «Ведь это же мило». В самой ее резкости я видел одну только девическую прелесть, а в падениях – ту трепетность, о которой думал, когда сравнивал Веру с пламенем свечки.
«Все равно я не могу не любить ее, – думал я, – только теперь это никого не будет касаться, даже самой Веры; это будет моим делом, таким же особенным, как все мои мысли, которые не касаются никого».
Я потушил фонарь, пошагал по теплушке взад и вперед с папиросой, а потом сразу вспрыгнул на свои нары. Я не мог решить иначе, да, в сущности, это не было решением – это было неотвратимой судьбой. Мне по-прежнему было печально и даже страшно, но в этой печали и в страхе жило уже ощущение безмерного счастья.
XIV
Не знаю, как это случилось, но утром, когда я проснулся, во мне уж не оставалось ни грусти, ни беспокойства. Было только счастье, счастливая уверенность, что все пойдет именно так, как должно идти. В то же утро мы тронулись наконец из Л***, где мне было так тяжело. Перед самым отъездом Вера со смущенным лицом сунула мне записку:
«Боже мой! Что мне делать! Сегодня утром, когда вы вышли, случилось то, чего я никак не ждала. Я очень несчастна, все, что я делаю, как мне кажется, хорошо, – обязательно кончится плохо. Маленькая Лариска увидела фотографию, которую вы мне дали, и, конечно, закричала на весь вагон. Все поняли, что вы и я вместе на фотографии. Я защищала вас как могла, спокойно и хладнокровно. А что было у меня на душе! Боже! Каждый день какие-нибудь новости – печальные. С каждым днем я себя ненавижу все больше. Сейчас так неспокойно, тяжело на душе. Мне кажется, что вы будете сердиться. Я больше не могу писать. Вера».
Я не мог ответить ей сразу, потому что поезд пошел и шептаться с ней на глазах у всех было неловко.
– Что такое случилось без меня в вагоне? – тихонько спросил я Нину Алексеевну.
Она смотрела на меня очень сердито.
– Новые выходки вашей Манон Леско, – сказала она, – я ради вас прихожу ей на помощь, но, в общем, ни вы, ни она совершенно не стоите этого. Пускай бы над вами хохотали, какое мне до этого дело!
– Да что же случилось?
– Вы ей подарили фотографию? Это так на вас похоже. Вы ухаживаете за ней по всем правилам дачных романов, – сказала Нина Алексеевна.
Я покраснел.
– Ну не то чтобы я ей дарил… – сказал я.
– Когда вы ушли, Вера подозвала к себе Лариску и стала показывать ей картинки и на каждой картинке учила узнавать знакомых. Там и меня где-то нашли, в виде какой-то дамы с зонтиком. А потом дело дошло до вашей фотографии. Конечно, Лариска вас моментально узнала и закричала с восторгом. Все захотели посмотреть, а Вера стала прятать, прямо из рук вырывала. Тут уж совсем стало ясно, что это именно ваша фотография. Вера это нарочно делает; ей, после приключения с Розаем, нужно какое-то средство утвердить себя, – сказала Нина Алексеевна.
– По-моему, это как-то наивно, – сказал я.
– Ну да, ведь это же мило. Вы изучаете восемнадцатый век. А вы не знаете, какой обезьяний гогот поднялся в вагоне и как трудно мне было прекратить это, – сказала Нина Алексеевна чуть не со слезами.
– Я вам очень благодарен, – сказал я.
– Вы мне нисколько не благодарны. И вы не понимаете, как роняет вас это соперничество с Розаем, – ответила Нина Алексеевна.
– Ну, мой друг, вы видите какие-то драмы там, где их вовсе нет. И притом я даже не хочу понимать, о каком соперничестве вы говорите, – неискренне сказал я и отошел к печке, потому что Вера была там. Поезд в это время загудел, приближаясь к станции.
– Верочка, все это вздор, неужели вы в самом деле волновались из-за вздора, – закричал я на ухо Вере.
Когда поезд остановился, я вышел из вагона, и Вера моментально прыгнула вслед за мной. Я сказал ей, что сегодняшний день у меня счастливый и поэтому – но только на один сегодняшний день – ей прощается все. В доказательство я сдержанно поцеловал ее в щеку.
– Я знаю, почему вы счастливый. Вы просто меня разлюбили, – сказала Вера.
– Мы не говорим на эту тему, – сказал я.
– Вы не хотите меня целовать, – сказала Вера.
– Нет, отчего же? – сказал я и снова слегка поцеловал ее в щеку.
– У вас какие-то смешные поцелуи, от которых можно умереть, – сказала Вера.
А я был так счастлив и так любил эту неверную, милую Веру, что никак не мог допустить ее смерти. Впрочем, она сама взяла в свои руки всю инициативу и просто повисла у меня на губах.
Мы еле успели вернуться в теплушку. Поезд снова тронулся. Мы колесили по всяким станциям, возвращались назад, останавливались на запасных путях, потом снова тронулись и ехали без остановки всю ночь. Мне не хотелось уходить на нары; я сел у печки, и Вера осталась со мной. На ходу теплушка звенела и вздрагивала. Мы говорили полным голосом, потому что никто нас не слышал.
– Значит, вы не разлюбили меня, – сказала Вера и взяла меня за руку.
– Мы с вами совсем не говорим на эту тему, – ответил я, – сегодняшний день уже кончился.
– И вы больше не счастливы? – спросила Вера, но я не ответил, осторожно отодвинул руку и стал говорить Вере, какой она будет удивительной актрисой.
– У вас уже есть главное, Верочка, у вас есть какой-то естественный артистизм, – говорил я.
Вера перестала мне отвечать и смотрела в огонь.
– Иду спать, – сказал я и ушел на нары.
Вера осталась одна. Я долго не мог заснуть и смотрел, как Вера с расстроенным лицом сидит у огня. Ей тоже нужно было принять решение.








