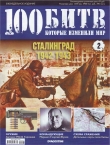Текст книги "Московские тетради (Дневники 1942-1943)"
Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
[…] От детей письма и посылка: носки и 100 штук папирос. Комка прислал превосходнейшее письмо – обширное и ясное. Неужели этому быть писателем? И грустно, и приятно.
Различие в понимании слова «искусство». Приходила женщина-журналист из «Литературы и искусства», просила написать статью о выставке «Великая Отечественная война». Я отказался. Она при мне звонила какому-то критику. Тот отказался наотрез. Она сказала: «Я не была на выставке, но теперь и не пойду – все отказываются писать. А нам велено развернуть на две страницы». А все дело в том, что хочется, чтобы агитацию называли искусством, а искусство – агитацией. Правда, если б выставку назвали прямо агитацией, то туда никто бы не пошел, но ведь и сейчас никто не идет. […] По-моему, надо действовать благороднее – да, агитки, да, плакаты, написанные маслом по холсту, да, неважно сделано, но ведь другого нет ничего? Так давайте же попробуем хотя бы через агитку рассмотреть жизнь! Ведь видим, хотя и стекло запыленное и засиженное мухами, но все же не стена! […]
15 ноября. Воскресенье
Днем переделывал «Проспект Ильича». Так как глава о еретиках напугала наших дурачков, то я ее выкинул. Эта глава была стержнем, на котором висела глава вступительная – песня о «проспекте Ильича», и поэтому пришлось выкинуть и первую главу, а раз выкинул – надо менять и заглавие. Я назвал роман «Матвей Ковалев».
[…] Вечером – вернее ночью – зашли седой Довженко, важно рассуждавший об искусстве, его жена с великолепно сросшимися бровями, Ливанов с женой. Критиковали положение в искусстве страшно! Только когда я сказал, что критиковать-то мы критикуем, а сами все равно глядим в рот верхам, то критика смолкла. Вздор какой! Делают минет, а гордятся девственностью. Довженко скорбно и с гордостью спрашивал:
– Почему не прорвалось за все время ни одно произведение? Почему окровавленное, истерзанное, оно не взошло перед нами?
Я сказал, что нечего гордиться эпохой и считать себя великими. Все эпохи были велики, как и все войны казались их современникам ужасными. Только тогда, когда мы будем считать себя обыкновенными, тогда появится великое искусство. Если мы все обыкновенны, то нет ничего страшного в наших мыслях, и их можно выслушать, а мы считаем себя столь великими, что никого не слушаем, а только приказываем и кричим, да удивляемся, что приказаньям этим плохо подчиняются.
Выпал первый снег, плотно.
16 ноября. Понедельник
Исправлен «М.Ковалев». занятие оказалось более сложным, чем предполагал. Из Ташкента события рисовались несколько в розовом свете. Эта розовая дымка пафоса и реет над романом. Здесь же в Москве, конечно, больше серости, чем розовости. После войны, года три спустя, роман в розовой дымке, наверное, был бы хорош, но сейчас, пожалуй, несколько слащавый. Вот я и снимаю эту слащавость. Трудно, ибо можно, невзначай, снять столько мяса, что и кость обнажится.
Безмолвие города по-прежнему висит надо мной. […]
И, – опять писал. Тамара ушла к брату. Пишу. Пробовал читать «Элементы логики», нет, не получается. Мысли бегут в сторону, жить не хочется, надежд, – трудно сказать, что никаких, ибо я мечтатель, – но, даже и при моей мечтательности и вере, – мало, хоть бы умереть случайно как-нибудь. Я боюсь, что из уважения к советской власти и из желания ей быть полезным, я испортил весь свой аппарат художника. Когда-то давно я изрезал на отдельные страницы словарь Даля. Я никогда не прибегаю к справкам словаря и мне казалось, что перепутанные как попало страницы легче читать. Я взял горсть страниц сюда, в номер, и теперь читаю их с наслаждением, почти совершенно непонятным. […]
Телешов, которому в среду справляют 75-летний юбилей, не берет литерный обед в столовой, потому что не позволяют средства. […]
Вчера Ливанов говорил, что с 1-го декабря введут погоны, ордена будут на лентах, денщики… они ужинали у какого-то генерал-полковника, и в номере, возле стола обедающих, с вечера до 4-х утра, простоял, вытянувшись в струнку, какой-то капитан. Ливанов сжалился и поднял бокал за его здоровье. Генерал сказал: «А!» Выпили, но капитана к столу не пригласили. […]
17 ноября. Вторник
Утром пошел к герою Н.Бочарову. Небольшого роста, горбоносый, белокурый, начавший лысеть молодой человек в гимнастерке и синих брюках. В 1939 году он аплодировал мне, будучи командиром взвода танкового полка во Львове, в Доме Красной Армии, когда я читал отрывки из сценария «Александр Пархоменко». Сейчас он – помощник командующего армии по политчасти. […] И вот теперь, три года спустя, я сижу в его номере и записываю его рассказ. Человек перешагнул гору, а я за это время?
Позвонили из «Нового мира», торопят с романом.
18 ноября. Среда
Утром родственница Маруси, нашей домработницы и воспитательницы детей, вернее няни, принесла мне бумаги. Ей 27 лет, простенькая, худенькая, в платочке, работает печатницей. Тамара спрашивает:
– А где ваш муж, Паша?
– А он под Сталинградом. Он в штабе Жукова, их туда перебросили.
– Какой у него чин?
– Да и не знаю, точно. Вроде капитан, что ли!
По прежним масштабам, Жуков вроде генерала Брусилова, – кто же был бы тогда этот капитан? Сын банкира, крупного промышленника, университетское, может, и академическое образование, – а теперь? И жена его не придает этому значения, да и он, небось, не очень – «направили на работу – и работаю». Отрадно, но и грустно.
Иногда думаешь, что знания отстают от должностей. Ложь «Фронта» не в том, что таких событий не бывает, что люди не хотят учиться, а в том, что учиться некогда, да и не у кого и самое главное – короткое время. Мы его укорачиваем, столетие хотим вместить в пятилетку, а оно, окаянное, как лежало пластом, так и лежит. […]
Тамара пошла к брату. Бедняга лежит уже неделю почти. От донорства он обессилел и болезнь переносит плохо – 38,7, он уже бредит.
Зашел в квартиру на Лаврушинском. Холодно. Трубы не нагреты. На лестнице темно. Переулок разгружен и подметен. Ни звука, ни телеги, ни автомобиля. Утром оттепель, к вечеру подтаяло. Небо в тучах и льдинки на асфальте блестят как-то сами по себе. Снег в канаве грязный.
[…] Весь город в кино: первый день идут «Три мушкетера».
19 ноября. Четверг
Обедал в Союзе, рядом с Леоновым. При дневном убогом московском свете видно, что он сильно состарился. Пониже щек морщины, углы губ опущены, лицо дергается. Зашли к нему. Кактусы. Мне кажется, он их любит за долговечие. Смотрели книгу «Правда о религии в России» – неправдоподобно, хорошо изданную. Так издавали только Пушкина в юбилей его смерти. Книга внушает какое-то горькое, неприятное чувство. Религия и попы не только не раздражают меня, но удивляют и наполняют уважением. Следовательно, вопрос здесь не в религии и попах, а в чем-то другом. Книга мне кажется нескромной, визгливой. Если это для заграницы, то все равно там книги издают лучше, и никого не удивишь, не поразишь. […] Леонов, как обычно, ничего не говорил о себе конкретно, а вздыхал неопределенно: что будет после войны, кто уцелеет, как дотянет, взорвется ли Германия сразу или будет тянуть? Также неопределенно и я ему отвечал, с чем и расстались.
Вечером – художник Павел Дмитриевич Корин. Раньше него пришла жена, круглолицая и молчаливая. Теперь она разговорчива – но говорит языком, как бы определить, популярным, книжным. Так, например, она совершенно точно, словно для экскурсии, описала, как в Музее изящных искусств провалился от бомбы стеклянный потолок, чердак завалило снегом (это было в прошлом году) и когда оттаяло, то потекло в подвалы, где лежали картины. Летом картины вытащили в зал – сквозняк от выбитых окон просушит. Их обтирали пуховками. Белая плесень образовалась от лака. Но, очищать нельзя, т. к. мастичного лака нет… попозже несколько пришел Корин, в бобровой шубе, в сапогах и черной суконной рубахе – и тоже изменившийся, если не внешне, то внутренне. Он стал суетлив. Разговор шел об их жизни здесь, и как они писали плакаты в Большом театре. Упомянули о Кончаловском, о его религиозности. Тогда Корин сказал:
– Чтобы говорить о своей религиозности, надо выстрадать это право. Хорошо теперь быть религиозным, когда это можно, а что раньше? Кончаловский – артист. Талантливый, свою полку будет иметь в истории живописи, но это только художественная кожура, а не великий художник, как А.Иванов, Суриков, Серов, Нестеров. А он ведет себя как великий, и – не умно. Он не религиозен. Он играет в религиозность, как, впрочем, играет и в искусство.
От Кончаловского перескочили на капусту, которую заготавливает Корин, чтобы питаться зимой. С трех огородов он собрал два мешка картофеля, и тем сыт. В прошлом году, когда в городе ждали немцев, он отрастил бороду: «Я с виду моложавый, а борода у меня седая, думаю – не возьмут на работы». […] Два месяца, пока были запасы и пока ждали немцев, он не выходил из дома, и только ночью ходил гулять с собакой. Да растил бороду. Корин напоминает Леонова, Клюева. Когда они ушли, Тамара сказала:
– Может, это случайное наблюдение, но все наши знакомые, которые религиозны, из Москвы не уехали. […] Приехала Екатерина Павловна Пешкова.
20 ноября. Пятница
[…] Тамара пришла от Пешковых, принесла письма от детей, с припевом: «Здесь все хорошо, лучше, чем в Москве». Должно быть, им не очень хочется в Москву.
[…] Поздно ночью позвонил Ливанов. Пошли к нему. Он сидит расстроенный, без пиджака. В «Правде» напечатана статья о «Фронте», доказывающая, что Художественный и Малый театры ничто по сравнению с театром Горчакова. Т. е. Ливанов оказался в таком же положении, как и Горлов, которого он свергал в роли Огнева. Механически положение с комсоставом перенесено в область искусства. Ливанов метался, ворошил остатки волос, кричал о себе, что он погиб, уйдет из театра:
– Мне дали понять, что это не пьеса, а играли «Фронт» как директиву!
Около часа пришел Корнейчук – с ватной грудью, поднимающейся к подбородку. Военный портной сказал ему: «У нас все генералы на вате». Было собрание генералов в Доме Красной Армии по поводу его пьесы. Началось с того, что генерал-лейтенант, с лицом как абажур, сказал:
– Известно ли товарищу Корнейчуку, что «Фронт» играется в Берлине?
Словом, охаяли, как могли.
21 ноября. Суббота – 22 ноября, воскресенье
Вечером были у Бажанов, здесь же в гостинице. Жена его рассказывала о трехмесячном, непрерывном бегстве. […] В воскресенье никуда не выходил, читал «Логику». […]
В десять – поразительное сообщение о нашем наступлении в районе Сталинграда. Понесли потери 18 немецких дивизий: 13 тысяч пленных, свыше 300 орудий. По гостинице начались телефонные звонки, поздравления… ночью, в постели, я подумал – снега еще мало, холодно – удачная погода для наступления? Или же это – демонстрация для того, чтоб оттянуть силы с другого фронта, где наступают немцы.
24 ноября. Вторник
Сидел вечером Бабочкин. Он прилетел из Ленинграда, а завтра отправляется в Ташкент. – «… Я не знаю почему это, может быть, закон природы, но дистрофиков – истощенных ненавидят. В вагоне ругаются: „Эх ты, дистрофик!“ Я был в Колпине. Городка нет. […]
– Ленинград в самом узком месте отстоял Ижорский батальон рабочих. Они держали это место девять месяцев. И теперь позади переднего края обороны посадили овощи […]
– Когда в Смольном посмотрели нашу картину, директор Путиловца сказал: „Ну что вы там какую-то муру снимаете? Вот вам пример, как мы жили. Звоню утром в гараж – нужна машина. Не отвечают. Звоню без пользы полчаса. Пошел сам. Горит печка. У печки кто греет руки, кто ноги, а кто просто дремлет шоферы, да вы что, мертвые? – кричу. Они действительно мертвы“.
– В Александринку зимой собрались уцелевшие актеры. Спали, лежали. Наиболее слабые были в котельне, где всего теплее.
Один актер сказал Бабочкину: „Из сорока я один уцелел“. […]
– Несмотря на то, что город в кольце и фронт начинается у Нарвских ворот, охотники все же ищут и находят зайцев. А заяц-то может убежать к немцам! Но заяц – капитал – 5 тысяч рублей. Пальто стоит 200 рублей…
– Актеры ходили по нарядам, ночью под обстрелом, на вечера. В рюкзаках, обратно, несли воду. Холодно. И вместо воды – расплескивалась приносили иногда на спине ком льда».
Фронт. Бабочкин в гвардейской дивизии полковника Краснова. Он переправил через Неву дивизию, без потерь, – и увел обратно, заняв на том берегу позицию. Немцы думают, что стоит дивизия, а там рота. Когда дивизия стала гвардейской, он приказал отрастить усы, а женщинам – сделать шестимесячную завивку. Бывший агроном. В Финскую войну командовал в этой же дивизии взводом. […]
Мимическая сцена – как едят хлеб в Ленинграде: закрывает ломтик, оглядывается. Отламывает кусочек с ноготок, и его еще пополам. Кладет в рот, откидывается на стуле, и с неподвижным лицом ждет, когда крошка растает во рту, глотает. И опять к куску…
– «Ленинград, да, бомбят. По четыре налета в день. Все дома выщерблены, исковерканы. Вдруг видишь какие-то фанерные декорации, колонны на месте дома. У трамвайных остановок – зенитки».[…]
Во время рассказа – включаем радио. Сводки – «Три дивизии взяты в плен, 1100 орудий…» Необычайная радость охватывает нас. Бабочкин говорит:
– Осень. Как спелые яблоки потрясли, так они и осыпаются. Я думаю, к новому году – конец.
То же самое сказала Тамаре сегодня уборщица в номере.
– Товарищ Сталин обещал к концу года, ну и сбудется. Он этих Рузвельтов так подтянет, что они в месяц все дела закончат. […]
25 ноября. Среда
Холодные учреждения, грязь – и словно бы ветер в комнатах. У входа часовой – мальчишка, в будке – девушка в шинели с красными треугольничками на отворотах шинели. Это – ЦК ВЛКСМ. Множество неуютных комнат. Здесь, по-моему, больше, чем в ЦК партии должно быть торжественности, тепла и вежливости. Нет! С трудом нашли стенографисток. В накуренную комнату – два кресла, обитых дерматином, два стула, окурки и обрывки газет на столе, под стеклом телефон ЦК – вошли двое – юноша и девушка. Юноша, белокурый, лет восемнадцати, в куртке и валенках, девушка широколицая, румяная, в шинели и сапогах, постарше, ей лет 20–22. Это – партизаны, оба из Калининской области, прожили и воевали с немцами месяцев по восемь. Чтобы они разговорились, я сказал – кто я такой: «Может быть, читали в школе или видели фильм „Пархоменко“? Книг моих не читали, но мальчик видел фильм: „Во-о, здорово!“
„Волнуясь и спеша“, крутя папиросную бумагу, но по школьной привычке не осмеливаясь закурить при старшем, мальчик стал рассказывать. Боже мой, что видел этот бойкий и смелый паренек! А что видела и испытала девушка? Я не буду записывать здесь их рассказы, так как напишу – по стенограмме – их рассказы отдельно. Для книги… Расставаясь, я сказал:
– Ну, теперь читайте, что напишу о вас.
Конфузливо улыбаясь, девушка сказала:
– Если уцелеем, прочтем. Мы ведь завтра улетаем на ту сторону. […]
26 ноября. Четверг
Днем переделывал роман. Сходил в Лаврушинский, взял книги… Вчера, хотя и сообщалось о 15 000 пленных, все же сводка многих, видимо, смутила. Уже поговаривают, что немцы в начале наступления не могли ввести в бой авиацию, теперь же ввели (а значит, остановили наши войска?).
[…] Вечером пришел П.Л. Жаткин. Был он полгода или больше у партизан. Рассказывал, как шел, голодал, служил банщиком, многое путал, так что если бы он рассказывал так следователю, который допрашивает партизан, перешедших фронт, вряд ли бы Петру Лазаревичу поздоровилось. Но, разумеется, страшного с ним случилось много, и нет ничего неправдоподобного в том, что дочь партизана убила отца-предателя и принесла в отряд его голову, или что комиссар отряда отрубил семидесятидвухлетнему старику предателю, ведшему немцев на партизанский отряд, руку. Или принимают в отряд, испытывают виселицей – струсил, значит, предатель, стал ругаться наш. […]
В полночь – „В последний час“. Наши с Запада, я так понимаю, вышли на восточный берег Дона. Значит, немцев действительно зажали? Среди трофеев, конечно, самое поразительное – 1 300 танков. Ведь это же целая армия! И также удивительно, что мало винтовок – 50 тысяч. А пленных 61 000.
Сегодня месяц, как мы в Москве.
29 ноября. Воскресенье
Художник Власов из Ленинграда. Послан был к партизанам – и остался у них. […] Сейчас он начальник разведки в штабе партизан. О партизанах рассказывал мало, больше о Ленинграде: как голодали, хоронили (в ящике от гардероба, в детской коляске). Как утром у Медного всадника кто-то положил трупик ребенка, ангельски прекрасного. Его заносило снегом. Дня через два, художник увидел, что мягкие части трупа вырезаны. Хозяева вначале сами собак не ели, а дарили их трупы друзьям, позже стали есть. Существо рафинированное, ученик В. Лебедева, носит высокие ботинки, на шнурках, ватные штаны, заграничную куртку.
30 ноября. Понедельник
Вечером пригласил Корнейчук. Разговорились – и просидели до пяти часов утра. Говорили опять о слабости искусства, о его плохой пропагандистской роли; я что-то рассказывал им.
2 декабря. Среда
Даже и не знаю, почему – одолела лень, что ли? – три дня не записывал. Вечером, когда у нас сидели гости, позвонил Корнейчук и говорит:
– А мы ждем вас!
– Почему?
– Да ведь мы же сговаривались, что ты будешь у нас читать повесть о море.
Оказывается, спьяну я пообещал прочесть „Вулкан“.
[…] Пошли опять к Корнейчуку. Он боится жены и старается быть точным. Тамара напомнила ему, что он обещал года три тому назад приехать к нам на дачу и тоже не приехал. Напекли пирогов, ребята говорили: „Спасибо товарищу Корнейчуку за счастливое детство“. Увы, он не помнит этого.
Он рассказал о школе партизан-подрывников, как приходят и уходят, как шестнадцатилетняя девушка была счастлива, уходя, что видела А.Корнейчука и В. Василевскую, как их вдвоем на фронте посылали в дивизию, которая перейдет в наступление, и как по дивизии сообщили, что они приехали:
– Это, брат, не шутка.
Странная слава! Корнейчук мне нравится. Ванда Василевская, сухая, строгая, старающаяся быть революционеркой, тоже хороша по-своему. […]
Обещал читать „Вулкан“, Корнейчук уговаривал, чтоб жена не обиделась. Он ее боится ужасно и, мне кажется, не очень любит. Она же, наоборот, не боится его, но любит ужасно. Если они рассказывают что-либо, то перебивают друг друга.
… Скоро начнется, говорят, с пятнадцатого, переосвидетельствование белобилетников. По новому правилу брать в армию будут всех, кто хоть сколько-нибудь годен. Правил роман. Успешно.
3 декабря. Четверг
[…] Разыскивал „Вулкан“. Этой окаянной повести не везет. Нашел рукопись, но не хватает последних не то трех, не то четырех страниц. Как быть? Читать без конца? „Гордая полячка“, не приведи бог, обидится еще больше.
[…] Читал Н.Карина „Классификация всех видов“. Любопытно.
5 декабря. Суббота
Скользко. Падает снег. Идти трудно. Я побывал в Клубе писателей, съел отвратительный обед, зашел к дочери Мане, но никого там не застал, пошел по книжным магазинам – книги плохие, втридорога, продавцы все незнакомые, меня никто не знает. В филателии в течение года не поступало марок Отечественной войны. Устал. Иду, сутулый, унылый. […]
Вечером пошли к Надежде Алексеевне. Она сидит в спальне. Палисандровая кровать покрыта синим вышитым китайским покрывалом и украшена деревянной гирляндой. Цветы, туалетный стол, столик из карельской березы, сферический столик, столик красного дерева. Она сидит в собольей шубке на кушетке красного дерева, прикрыв ноги пледом. Седая дочь Шаляпина рассказывает о том, как управдом расхитил архив ее отца, как племянник Шаляпина жил на то, что он „племянник“, как она читает от Литературного музея. Надежда Алексеевна стала жаловаться на Ливанова: пришел в гости, выпил, не дал играть Шостаковичу, заставил молчать А. Толстого, – и просидел до девяти часов утра.
Жена Толстого принесла фотографию мужа и карикатуры. Алексей Николаевич давал пояснения, а затем:
– Прогнозы. Немцев побьем. Сейчас сокрушают Италию. Ведь что сказал Муссолини? Представьте, что вождь, скажем, Сталин, сказал бы: „Бегите из городов в деревню“, что бы с нами сделалось? Гм… Убежать можно, даже в пещеру залезть, а карточки от кого получать, продовольственные?
Михалков – его заиканье признали за ранение – носит ленточку тяжелого ранения. Кружков из „Правды“ был редактором фронтовой газеты, Михалков поехал туда за орденом. […]
Возвращаемся. Нам вручают извещение гостиницы – к восьмому числу очистить номер, так как срок истек.
6 декабря. Воскресенье
Заканчиваю правку романа. Роман стал ясней, но стал ли он лучше сомневаюсь.
Читал у Ванды Василевской и Корнейчука „Вулкан“. Прошло немножко больше года – и как далеко все это, и как грустно читать! И такое впечатление милой грусти было у всех.
7 декабря. Понедельник
Вечером М. Ройзман, принес странное сообщение. Вчера Лозовский собрал писателей, работающих в Совинформбюро, и ругательски-ругал перед ними союзников и, в частности, Англию, называя их и некультурными, обманщиками и т. д. Писатели разошлись в смутном настроении.
– Неужели еще воевать с Англией? – спрашивает Ройзман.
…Дождались „Последних известий“ – ибо Жаткин при встрече со мной сказал, что слушал английское радио, сообщившее, что началось воздушное наступление на Европу: волнами, по 300 самолетов, разрушались французские и голландские города… Ничего такого не сообщили. Было только странное – все время шли сообщения из Советского Союза, и только в конце были три крошечные телеграммы из-за границы, на три минуты. Может быть, это и случайно, а может быть, и знаменательно. Недаром же из Ташкента пишут, что генеральши сказали: „Война скоро кончится, на фронт ехать не нужно“.
Чем кончится? Сепаратным миром? Уходом немцев из России?
8 декабря. Вторник
[…] Позвонили из Союза писателей и попросили у меня экземпляры романа „Проспект Ильича“. „Как можно больше, так как роман выставляется на Сталинскую премию“. Тамара сказала, что есть один экземпляр, его можно дать в четверг, и если им хочется читать, то пусть перепечатают.
В Сибири был у меня знакомый писатель Антон Сорокин, принесший мне много пользы, а того более вреда. Ему казалось, что обычными путями в литературу не пройдешь. И поэтому он, живя в Омске, прибегал к рекламе, называя себя „Великим сибирским писателем“, печатал свои деньги, имел марку – горящую свечу. Однажды он напечатал визитные карточки. Под своей фамилией он велел тиснуть: „Кандидат Нобелевской премии“. Я сказал ему: „Позвольте, Антон Семенович, но ведь вы не получали Нобелевскую премию?“ Он, криво улыбаясь в подстриженные усы, ответил: „А я и не говорю, что получил. У меня напечатано – кандидат, а кандидатом себя всякий объявить может“.
Боюсь, что Союз писателей заказывает мне на визитной карточке: „Кандидат Сталинской премии“.
[…] Исправил, наконец, роман.
Из… черт ее знает, не то Пермь, не то Вятка!… приехал А. Мариенгоф. Вошел походкой, уже мельтешащей, в костюмчике, уже смятом и не европейском, уже сгорбленный, вернее, сутулящийся. Лицо красноватое, того момента, когда кожа начинает приобретать старческую окраску. Глаза сузились. Боже мой, смотришь на людей и кажется, что состарилась за один год на целое столетие вся страна. Состарилась, да кажется, не поумнела! Недаром же в этой стране родился такой сатирик – Салтыков-Щедрин, – перед которым и Свифт, и Рабле, а тем более Вольтер – щенки в сравнении с догом.
Темный двор. Темнейшая лестница. Идем, держась за перила. Зажигаем спички и стараемся, экономя спички, при свете этой тонкой щепочки разглядеть возможно больше этажей. Нашел номер квартиры. Дверь на замок не заперта. Отворяем. Длинный темный коридор. Налево – двери. Там живут. Направо – ниши, в них две ступеньки вверх почему-то, и там тоже двери, тоже живут. Дом лишен электричества. Открываем дверь, – посередине комнаты печечка и в ней чуть-чуть светит огонек. Вокруг печки – люди. „Нет, здесь не живет“, – отвечает либо женский, либо старческий голос. В другой комнате и печки нет. Светит коптилка. Вокруг коптилки – люди. „Нет, здесь не живет“. А вокруг снега, утопающие во тьме, голод, мороз, война. Ух, страшно на Руси, Михаил Евграфович!
10 декабря. Четверг
[…] Из Свердловска приехала О. Д. Форш, бодрая, веселая, говорящая много о работе и упомянувшая раза три-четыре о смерти. Она рассказывала, как ездила по Средней Азии, как видела Джамбула, который сердился на фотографов, съевших его яблоки. Перед уходом она сказала:
– Мне очень любопытно узнать, что происходит сейчас в Германии. Робеспьер, Демулен и прочие вожди французской революции родились в масонских клубах. А народ легковерен и глуп. Мне помнится, Штейнер ругал русских, „свиней, нуждающихся в пастухе“. Где-то там в теософических кругах, родился и воспитан этот истерик, марионетка Гитлер, за спиной которого стоят… не теософы ли» Это ужасно интересно.
Будучи в юности антропософкой, она и сейчас считает движение это мощным, из которого можно вывести гитлеризм. Уэтли – «Основания логики», которого я читал недавно, говорит в одном месте: «Слабый довод бывает всегда вреден, и так как нет такой нелепости, которой бы не признавали за верное положение, коль скоро она, по-видимому, приводит к заключению, в справедливости которого уже прежде были убеждены».
11 декабря. Пятница
Вечером пошли к академику Комарову, президенту Академии наук. Ольга Дмитриевна обещала прочесть свою пьесу, еще не оконченную, – «Рождение Руси» о Владимире Святом, (Киевском). На улицах тьма невыразимая, идут трамваи с фиолетовыми фонарями, с лицом, приплюснутым к стеклу, ведут их вожатые, на остановках темные толпы, говорящие об очередях и где что выдают. Какой-то любезный человек проводил нас до самых дверей особняка Комарова. Лестница. Трюмо. Вешалка. Лепные потолки и стены окрашены голубой масляной краской, запах которой все еще стоит в комнатах. Горят люстры. Много книг. Мебель в большом зале в чехлах, а на стене ковер с вытканным лицом Комарова. Вот уж подлинно «Комарик»! Сидит старичок с разными глазами, словно бы фарфоровыми, да притом взятыми из разных лиц, на груди орден и значок депутата, седая жена с черными бровями и пушком на верхней губе, скупая и злая.
[…] Пьеса Ольги Дмитриевны похожа на ее жизнь в этом тепло натопленном доме, но холодном по существу своему. Балаган, годный, может быть, для оперы, куда можно совать всяческую чушь, но для драмы? А, может быть, как раз и для сцены хороша будет? […] Признаться, мы покривили душой, чтобы старуху ободрить – расхвалили. Ведь у нее, бедняги, даже калош нет, и Фадееву пришлось писать наркому о калошах, на что сегодня получили сообщение, и Кашинцева, секретарь Фадеева, сообщила о том Тамаре.
12 декабря. Суббота
Эренбург, в новом костюме, однако кажущемся на нем засаленным, сидит в кресле и потягивает коньяк. У ног вертится облезшая черная собачонка, которую «кормили всем, даже сульфидином, но не выздоравливает». Я посоветовал давать водку. Костюм осыпан пеплом, губы толстые, еле двигаются и цвет у них изношенной подошвы. Он важен необычайно.
– Меня удивило, – говорит он, – что Пастернак ко мне не зашел. Ведь хотя бы из любопытства. […]
Он не глуп. Я стал говорить, что сейчас люди устали – романы не должны быть длинны, а фразы надо делать короткими. Он сказал:
– На меня удивлялись и негодовали, что я пишу без вводных предложений. Но ведь науськивают без вводных предложений?
Затем я стал выспрашивать, что он думает о дальнейшем. Он сказал, что война кончится так же, как и началась, – внезапно, внутренним взрывом. Я сказал, что это аналогия с 1918 – 1919 годом. Он сказал, что, возможно, он ошибается, но американцы произведут внутренний переворот в Германии, перетянув к себе, скажем, Геринга, как перетянули они Дарлана«…они готовы контактовать с кем угодно, лишь бы в Германии не было Советов. И германцев они не так уж ненавидят. Англичане испытывают к германцам большую ненависть, а мы этого не понимаем, и американцы нам ближе». […]
Читал старенькую книжку Бэна «Об изучении характера» (1866 год), где доказывается, что френология – последнее достижение науки, – и доказывается очень убедительно, также как был недавно убедителен Фрейд, Кречмер и как будут в дальнейшем убедительны сотни ученых, объясняющих человеческие поступки и мечты. Позвонил ночью Минц и предложил поехать в Латышскую дивизию под Сталинград. Наверное, поеду… Ведь дело идет о войне, да еще вдобавок современной.
Рассказывал Эренбург. В Совнаркоме мучились: как писать какого-то награжденного «Ёлкин» или «Елкин». Молотов полушутя позвонил в ТАСС и сказал: «А мы, знаете, решили ввести букву „ё“». И – началось. Стали ломать матрицы, вставлять в машину «ё», доливать на словолите шрифты, на пишущих машинках буквы нет, так две точки над «ё» ставили руками, полетели приказы… Переполох продолжается – доныне. На другой день, к удивлению страны, появилось «ё», видимо, для того, чтобы удобнее писать на заборах «…на мать»!
Ночью разбудил голос, глухо читавший что-то внизу, под полом. Я вскочил, вставил штепсель – радио закричало, перечисляя трофеи. Трофеи большие, настроение – было упавшее, – у жителей, несомненно, завтра поднимется.
14 декабря. Понедельник
Днем болела голова. Ходил в Лаврушинский, перебирал книги. В квартире холодно и грязно. Я взял денег в сберкассе, написал записочку, как депутат, в деревообделочный завод где-то за Савеловским вокзалом, чтобы Анне Павловне выдали обрезков. Анна Павловна еле ходит от слабости – видимо, все, что добывает, скармливает дочери. Я оставил денег побольше, да что купишь на эти деньги?!
Завернул в «Известия». Равинский предложил мне напечатать в газете отрывок из романа, статью о капитане Сгибневе, которую я сейчас пишу, и статью о партизанах. […] Только поговорили о партизанах, ан они тут как тут. Пьем вечером с Тамарой чай, звонят Бажаны: не придете ли повечеровать. Пришли к Бажанам. Разговор о пошлости М. Прево, роман которого я дал прочесть Нине Владимировне; о Пастернаке, вечер которого состоится завтра, и его манере чтения и что, возможно, он прочтет отрывки из «Ромео и Джульетты». Разговор почему-то перекинулся на то, что я сейчас делаю, – я сказал о статье, описывающей организатора партизанского, и спросил у Миколы Платоновича:
– А ведь у вас, наверное, есть партизаны знакомые?
Дело в том, что Микола Платонович редактирует газету «За Радянську Украину», которую сбрасывают с самолетов по оккупированной Украине.
– Есть хороший партизан, да он лежит в больнице. Хотя, позвольте!..
Он снял трубку и почтительно стал разговаривать с кем-то, приглашал зайти. Через полчаса пришел человек с мясистым лицом, подстриженными усами, черными, со шрамом на лбу, в ватных штанах и грубых сапогах. Это – Герой Советского Союза Федоров, бывший секретарь Черниговского обкома, ныне вождь украинских партизан «генерал-лейтенант Орленко» на Украине и «генерал-лейтенант Сергеев» в Белоруссии. В Москву кроме Федорова прилетели еще двое.