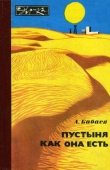Текст книги "Пустыня Тууб-Коя"
Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Деревянная койка была жестче седла. У посланной шинели прямо невозможные швы. Не швы, а канаты. Завтра, наверное, пойдут по всему телу красные рубцы, отпечатки этих толстых, грубых портновских швов. Положил бы он спать на эту шинель самым нежным местом самого портного. Посмотрел бы, как стал этот портной ворочаться, кряхтеть и почесываться. Но почесываться приходилось не от одних швов. Омехин ворочаясь бормотал:
– Швы… вши…
Портного все-таки не мешало бы притянуть к ответственности, чтобы шил аккуратнее. Надо сообщить, но…
– Лешак те дери таку жись, сидишь, как вошь на сковороде – и жирно и жрать нечево. Бабу бы по такой жизни.
«Военком рядом за стенкой спит уже. Как боров храпит, наверное?..»
Омехин прислушался.
«И дыханья совсем нет. Значит, доволен!»
– А ну его, сдался он мне.
Он достал махорку, выкурил трубку. Опять лег накрывшись одной полой шинели. Духота, как в мелочной лавке. Промчался мимо патруль. Годы спал на шинели, не жала, а тут… И вспомнил он вдруг запах богородской травы. Пятикратное заклятье читать от такого запаха, если он почудится во сне девице… А тут патруль! Думай лучше о пахоте. Вот жарким весенним утром пахота. Пахота… пауза… похоть… пахтанье… похоть…
Со скуки читал он словарик иностранных слов, а слова там все были русские. Иностранные – напечатано, чтоб больше покупали. Смешно.
Совсем какая-то куличная ночь. Пахнет, словно на пасху. Луна, наверное, и чужие горы. Луна здесь, словно каждый день пасха.
Он отбросил шинель. Пуговицы четко ударились о стенку. Омехин достал из-под изголовья сапоги.
– Пойду, посмотрю караул!
Он, стараясь не звенеть шпорами, стал натягивать сапоги.
Но здесь он явственно расслышал женский визг, рев нескольких голосов и затем упал выстрел и, странно, не отдался в горах. Точно во сне, там никогда не узнаешь эхо.
Омехин запнулся о порог.
Мелькал фонарь подле мазанки, партизан задевал о его стекло наспех привязанной шашкой. Небывалый клекающий гогот слышался там. В кустарниках, за лагерем, выли приставшие собаки.
– Тише. Ну-у!.
Кофтанистый партизан схватил его за руку и со смехом указывая на троих татар громко прокричал над ухом, словно выстрелы продолжались:
– Ты на них посмотри… Ты на эти рожи. Хотел, ка-а!..
– Чего тут, парни, а?
В углу мазанки, держа в одной руке нож, а в другой папаху, плакала женщина. Ей наверное было стыдно видеть себя плачущей и потому она визжала непереносно высоким голоском:
– Изверги, палачи! Стаей хотят… Расстреляйте меня, не мучайте! Сейчас же, сию минуту! Гадины!
Омехин, отстегнув кобуру револьвера, взглянул на сутулого татарина, одного из часовых:
– Ну?
Татарин сделал руки по швам. Лицо у него вдруг вспотело, веки как-то опухли. Он оглянулся на остальных.
– Баба нету. Четыре месяц терпел, как Уфа уехал, нету баба. Завтра стрелять все равно, надо нам мало-мало прижимат. Он…
Татарин жалобно указал на жидкую бороденку, по которой ползла кровь.
– Он нож – пщак сюда начал меня резать. Пошто нам нету баб?
Кофтоносец даже взвизгнул.
– Эта рожа, браток, смотри эта рожа. Бабу ему надо. Терпи, курва, терпи так, как революция тебя терпит. А?
И он в совершенном восторге хлопнул себя по сапогам ружьем.
– Они для страха в воздух, уф… Припереть ее чтоб!
– Запереть ее, – сказал Омехин с раздражением: – запереть наглухо и… Ты покарауль пока, – указал он кофтоносцу.
Тот для чего-то обнажил шашку и застыл, только зубы его смеялись в темноте и видно было их, казалось, за десять сажен от мазанки, куда отошел Омехин, татары и Палейка.
Фонари стояли на теплых и словно вспотевших камнях. Трухлый ветер чуть шевелил полы шинелей.
– Поскольку, – сказал Омехин глядя на камень. Свеча нагорела и не находилось дурака снять нагар и поэтому Омехин чувствовал все увеличивающееся раздражение: – поскольку командная сила нашего славного партизанского отряда допустила попускательство не кончив ее сразу, а дальнейшее ее пребывание заклеймит позором наш отряд, – я нахожу необходимым провести без промедления революционный приговор. Во избежание акредитивов на анархические выходки, часовых: Гадеина, Алим Каши и Закия Кызымбаева приговорить к высшей мере наказания, но принимая во внимание их несознательность, приговор считать условным. До исполнения дежурить над гражданкой… чем и загладить свою вину. Иначе, к чорту. Понял? Есть возражения? Возражения имеются?
– Нет, – ответил Палейка.
Все также глядя в камень Омехин сказал татарам:
– Приговорены условно к расстрелу. Ступай по местам и караул веди теперь безо всяких. Понял?
Татары вдруг взялись за руки и отступили.
– Ну?
– Э, понял, Лексе Петрович, э… – И сутулый татарин низко, почти до земли, поклонился. – Э…
– Осмелюсь доложить, – сказал Палейка, – могли не понять. Может разъяснить им?
– Какие там разъяснения, если о пощаде не просят? Ясно.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Утром от мазанки нашли следы, направляющиеся к горам. Скакали четыре лошади, а на самой легкой, на каром иноходце Палейки мчалась сбоку трех, видимо она, Елена Канашвилли.
Всякие бывают события в жизни, как всякая вода в реках, но очень муторно было в это утро Омехину. Сидел он в седле вытащив длинные сухие ноги по кошме и глядел с раздражением как Палейка выбирал в табуне лошадь.
– Каки события предпринимаешь, – крикнул он ему: – плохо видно с бабой спал, раз утекла. Плохо видно присосался.
Палейка с криком ударил укрючиной в табун. Кони метнулись, из-за палатки послышался топот копыт и Палейка выехал на неоседланной лошади.
– Ка-мандер! Без седла ехать хочешь. Не овод. Дать ему седло!
Татары подхватили Палейка.
– Дарю тебе на счастье свое седло, – сказал Омехин: – а коня не дам, прозеваешь.
Вслед за Палейкой помчалось еще шесть всадников.
Палейка метался один, без дорог, натыкаясь на кусты, камни, рытвины. Дергал за уздцы коня, тот часто вставал на дыбы, крутился на одном месте, пытался даже сбросить непонятного ему, по желаниям, всадника.
Он словно бежал в догоню за скрывшимися, и в то же время, словно скакал от Омехина.
Но всетаки, на крутой горной тропе, подле горы Айголь, Омехин догнал его. Оборачиваясь на топот, Палейка крикнул:
– Они уж, Алексей Петрович, убьют нас, как тараканов. Четверо их.
Омехин в седле сидел так же уверенно, как за книгой, за словарем иностранных слов, который он небывало презирал. Ноги его плотно сжимали бока и были четыреугольные, тупые и скучные.
На шестой версте от лагеря, в нескольких шагах от тропы, они увидали труп бежавшего часового Алим Каши. Череп его был разрублен саблей. Скользнувший дальше клинок рассек гимнастерку и обнажил впалую, чахоточную грудь.
– Тоже баба понадобилась, – не слезая с лошади сказал Омехин: – Я думаю отказался с ними в горы дальше итти. Не захотел быть предателем рабочего класса. Потому, закопать его, а то волки сожрут.
Чернели вдали сухие выветренные скалы. Очень сильно, до кровавых ссадин, надо было сжимать бока коня, чтобы еще и еще сбирал он растраченные силы.
И вот у Агатовой скалы еще распростертое тело партизанского коня и всадника – часового Гадеина. Это был красавец саженного роста, веселый и хохотун. Скрюченные руки его запутались в поводу. Обезображенная голова коня рядом.
Гадеин еще жив. Он поднимает омертвевшие веки и чуть слышно, словно веками, спрашивает Омехина:
– Стрелят пришел? Зря я от твоей пули бежал. Лучше от своей пуля азрак азрак капут. Он говорит, бежим убьет, все равно расстрел. Каши говорит: бежим, Закия говорит: бежим, все равно камисар расстреляет. Ха, куда свой полки убежит татарин! Ха!.. Закия баба нет. Закия баран! Закия мне в башку расстрелял, как ево баба просил. Не стреляй, Алексей Петрович, в морду, стреляй прямо в сердце.
– Да, – сказал Омехин подбирая свои повода: – кончится скоро. И, верно, не поняли, что значит «условно». Что значит условно? – обернулся он назад.
Бойкий пензенский паренек выпрямился в седле.
– Условно – значит, товарищ комиссар, которых убить бы надо, да пожалели от того, что хорошие ребятишки.
Ближайшая гора прикрыта до пояса кустарником, словно юбкой, а дальше голая, скалистая. В кустах паслась лошадь. Высоко приподымая пухлые губы она весело щипала колючую траву. Появление людей ее не встревожило.
Она отдохнула, освежилась и радостно заржала. Далеко от лошади, впереди на каменистой тропке, лежал вниз лицом труп. Он врылся в расщелину камня грязными пальцами.
В него было всажено, в спину, в шею и в голову, четыре револьверных пули. Совершенно бессмысленно, тщеславно.
– Это баба стреляла, – сказал Омехин.
Дальше уже шел след одного коня.
Омехин посмотрел в горы. Куст окончился и обнажился голый камень. Высоко, где то в снегах, серел аул. Дымок виднелся среди скал. Вечная жара веяла от камней.
Омехин натянул левый повод, а сам откачнулся вправо.
– Будя! Дальше нас самих пристрелят. Вертай, товарищ, обрать. Лошадь забери. Жалко мне твово иноходца, Максим Семеныч, но бог даст поймам когда нибудь ее.
Позади его в спину он услышал шопот Палейка:
– Товарищ, вы заметили, у последнего то в руках волосы ее.
– Ну?
– Он, ведь, был самый некрасивый. Закия, который всех убил. Он ее за волосы успел схватить…
Омехин осадил коня, поровнялся с Палейка и наклонился к нему так, что почувствовал запах кумыса и курта.
– Ну, а если даже и за волосы? За волосы таких баб бить надо, а не помирать из-за них.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
До потока, что проходил у самого стана, они ехали молча. И когда копыта разбудили деревянный самодельный мостик и вода словно забурлила еще быстрее, Палейка догнал Омехина. Держась за луку его седла он забормотал:
– Я ведь вам все наврал, Алексей Петрович, как есть наврал. Может она ему жена, может сестра… или польский шпион. Не спал я с ней и ничего не было и зря вы в мышь промахнулись. Лучше бы мне промахнуться. Я ей только синий платок подарил.
– Ну?
– Чтобы она показала в руке, если захочет вообще с симпатией, а она…
Омехин вдруг тяжело повернулся в седле и огорченно будто крикнул:
– Увезла?
Сухие скулы Палейка опотели, повод скользнул и он соврал:
– Сожгла. Пепел мне показывала потом, после татар. Пепел. От шелку сколько пепла? Как от папиросы!
Вязкая теплота наполнила жилы Омехина. Ему захотелось спать, стремя отяжелело и словно стопталось в сторону.
– А ну ее, – сказал он лениво: – Надо протокол для отчета составить. Я еще хочу днем мазанку осмотреть, как они удрали. Татар жалко.
А к двери мазанки, там где скоба, был прибит тоненьким гвоздиком синий шелковый песенный мадьярский платок Палейка.
– Так, – проговорил Омехин задумчиво, – глядя, как Палейка торопливо, даже не спрыгнув с лошади, сорвал платок: – так, посмеялась паскудная баба. Увижу шесть пуль всажу.
Отъехав немного он остановился, посмотрел на Палейка, покачал головой и вдруг спрыгнув с лошади пошел пешком к палатке. Какой то проходивший партизан подхватил повод его коня.
Вечером Омехин взял винтовку, переменил обойму и почему то снял с сапог шпоры, хотя он очень любил ходить в шпорах.
Ружье ему показалось очень тяжелым, ночь непереносно душной и только было хорошо то, что не видно было во тьме гор.
Он сел недалеко от мостика через поток. Воды словно убавилось. Пахла она цветливыми горными запахами. Омехин не спал вторую ночь и потому все ему казалось почему то соленым. Виски тучнели и тьма ночи была непереносно тягучей.
Под ногами, казалось, сыпались, сыпались мелкие, острые, как иглы, камушки. Костры в лагере потухли и скоро вернулся через мост патруль. Мужики громко хохотали и один из них скинул в поток горсть горных орехов.
Так Омехин сидел долго. Ноги свела тесная боль в жилах. Ружье он отложил в сторону. Где-то на небе мелькнуло пятнышко зеленого с желтым рассвета и здесь он услышал заглушенный топот.
Всадник медленно, со стороны лагеря, приблизился к мосту. Постоял немного и громким шопотом понукнул лошадь. Лошадь четко ударила копытами.
– Палейка, ты! – окрикнул его Омехин.
Всадник дрогнул и неестественно громко выкрикнул:
– Я.
– Подними голову выше. Я тебе покажу куда надо бегать!
Омехин плотно, согласно уставу, прижал к плечу ложе винтовки.
Лошадь шарахнулась от выстрела, прыгнула два раза и с пустым седлом помчалась обратно в лагерь.
Омехин перевернул труп, из бокового кармана гимнастерки достал пакет, завернутый в синий мадьярский платок. Там было немного денег и документы Палейка. И документы и деньги он кинул в воду вслед за трупом, а платок сунул в карман.
Затем он, неизвестно для чего, разжег костер из саксаула. Закурил и разложил перед собой платок. Достал веточку с горящим концом и проткнул платок посредине. Запахло гарью и палочкой же Омехин швырнул платок в костер. Подошедшему же секретарю штаба сказал:
– Надо мне сегодня картину ту досмотреть, что татары помешали. Какая, интересно, мораль получилась из ихней любви?
– Нельзя ее досмотреть, – ответил ему секретарь.
– Пошто же я не могу ее досмотреть?
– Оттого, что две недели назад уже, как демонстратор, товарищ Глушков, отъехал в другую сторону, с вашего же разрешения переменив ослов на лошадей, потому что ослы как известно были задраны волками, за отсутствием стадности и наблюдения.
– Две недели?
– Так точно.
– Ишь ты жизнь то как идет. Жизнь идет прямо… – но не докончил как именно идет у него жизнь, так и не докончил товарищ Омехин. Только ухмыльнулся.
Камень в горах тугой и броский. Веселая и зеленая под ним земля. Солнечный пламень в горах потух и облака, как пепел на костре человека, закрыли камни.
Под руку попалась трава. Экая гайдучья трава: не разжевать ее, не раздавить!
И все же, через гайдучьи травы, через пески, откуда от Тюмени, через Уральские и иные степи, через партизанский отряд товарища Омехина, пробирается дальше агитатор, демонстратор и вообще говорун Евдоким Петрович Глушков.