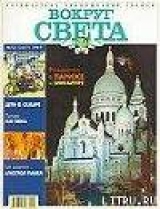
Текст книги "Журнал "Вокруг Света" №12 за 1997 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Напоследок пытаюсь найти мост Юстиниана. Где-то рядом с ним покоится «Замороженный камень», покрытый инеем даже в знойное лето. Но безуспешно. Дальше от центра Старый город все заметнее превращается и промышленный. «В 14 километрах на северо-запад от Тарсуса, – односложно сообщает путеводитель Турхана, – можно найти «Грот Семерых Спящих». Но уже стемнело и на улицах нет прохожих, а в путанице улиц и дорог можно заблудиться. Иду опять к апостолу Павлу, к его Колодцу.
Из «Деяний Святых Апостолов» следует, что апостол Павел, находясь в миссионерских путешествиях, еще дважды посетил свой родной город. В течение многих лет, невзирая на опасности, бедствия и физическую немощь, он фанатично проповедовал христианское учение в Сирии, Киликии, Греции, Италии, в Эфесе, Коринфе, Афинах, Риме и везде основывал церкви. По преданию, во время жестоких гонений на христиан он, как римский гражданин, был приговорен к обезглавливанию и казнен в пяти верстах от Рима в июне 68 года, в последний год царствования Нерона.
Он оставил нам четырнадцать посланий, вошедших в канонический текст Библии. В них он, обращаясь к нам, ведет речь о жизни и смерти, о вечности, о предназначении человека, об его отношении к Богу, о любви...
– Не оставайся должным никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не укради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и вес другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя (Рим. 13, 8-9).
Верно, что место рождения великого апостола – в днадца ти километрах от центра города. Но где?..
Тарсус (Тарс Киликийский)
Николай Сенькин | Фото автора
Читатель в пути: Семейный портрет на фоне пустыни

В №6/97 в очерке «Семейный портрет на фоне меняющегося пейзажа» Николай Зимин рассказывал о путешествии со своими детьми на лыжах по Архангельской земле. Семейный туризм еще не столь распространен у нас, и неудивительно, что очерк заинтересовал читателей. Они просили рассказать о следующем путешествии семьи Зиминых Выполняем их просьбу.

Путешествия для нашей семьи давно уже стали не просто способом проведения отпуска, а пожалуй, стилем жизни, И потому мы с женой не удивились, когда наши дети – десятилетний Андрей и девятилетняя Маша – стали настойчиво просить взять их с собой в пустыню. Дети постоянно слышат в доме рассказы о пустынных приключениях – как же не захотеть увидеть пустыню своими глазами? Что же касается нагрузок, то совсем не обязательно заставлять детей десятки километров перетаскивать велосипеды через сплошные барханы и по четверо суток идти от колодца к колодцу, всячески ограничивая себя в воде, как это обычно бывает с нами. Можно ведь выбрать маршрут, который был бы им по силам, но вместе с тем достаточно сложным и интересным, чтобы дети смогли увидеть пустыню во всем ее разнообразии, почувствовать ее дыхание. И, конечно же, нужно выбрать не самое жаркое время года: когда в тени за сорок – это и для взрослого тяжело. Одним словом, мы с женой все же решили отправиться всей семьей на велосипедах в Африку – на хорошо знакомый нам юг Туниса.
Сын и дочь отнеслись к предстоящему путешествию со всей серьезностью. Всю зиму они не прекращали тренировок, накручивая на велосипедах, в мороз и дождь, километры по Воробьевым горам. И еще, обложившись томами детской энциклопедии, изучали историю Северной Африки, животный и растительный мир пустыни.
...За окном тусклые желто-коричневые краски, чахлые кустики, невысокая гряда безжизненные холмов. Поезд остановился на небольшой станции из нескольких построек. Это Метлауи – конечный пункт следования поезда, идущего из Туниса, столицы страны, и начальная точка нашего путешествия.
На перроне, отгороженном от улицы невысоким забором, начали собирать велосипеды. Из-за забора на нас глазеют местные ребятишки, однако перелезать через него на территорию станции они не решаются, так что мы спокойно заканчиваем сборы. Груз распределяем так: Маше – пять килограммов, Андрею – восемь, остальное нам с женой.
Продукты и вода, палатка и спальные мешки, фотоаппараты и видеокамера со штативом, ремнабор, аптечка и т. д. – в общем, вес немалый. К счастью, ремнабор и аптечка практически не пригодились. Все технические и медицинские проблемы свелись к проколотой камере и поцарапанному при ее замене пальцу.
Облачаемся в нашу традиционную одежду: белые костюмы, перчатки, кепки, темные очки. Поскольку первое время предстоит ехать по шоссе, дети надевают велошлемы и наколенники. В таком виде они выглядят настоящими гонщиками. С нетерпением ожидая старта, они выписывают «восьмерки» на перроне. И вот, наконец, трогаемся. Дети держатся уверенно и едут довольно быстро. На выезде из поселка двое полицейских удивленными взглядами провожают столь необычных велосипедистов и желают нам «бон вояж» – счастливого пути.

Дети в первый день стараются пить меньше, экономя воду. Готовясь к путешествию, дети настроили себя на то, что раз пустыня – значит, воды мало. И нам приходилось буквально уговаривать их пить столько, сколько захочется: покидая станцию, мы заполнили все канистры. Вообще, те жесткие нормы, к которым мы сами привыкли во время предыдущих пустынных путешествий, для детей неуместны. Они должны пить много. Особенно в первые дни, пока как следует не адаптировались к новым условиям. Тем более, что температура в тени около +30.
Кому-то может показаться: ну что такое плюс 30? И в Москве бывает, а тут воздух более сухой, значит, переносится жара легче. Это верно, когда сидишь в тени. А вот когда никакой тени нет и по пять-шесть часов приходится крутить педали... Одним словом, для детей это серьезное испытание. Когда в последние дни температура поднялась до +35 градусов, я на всякий случай уменьшил темп движения, сократив дневной переход с обычных 50-60 километров до 30-40, использовав для этого резервный день.
Перед отъездом в Гидрометцентре России, где располагается наш клуб «Метео», меня снабдили подробным прогнозом погоды. Согласно ему, на первый и второй день нашего движения ожидалась довольно облачная погода, возможно, с незначительными осадками, что было как нельзя кстати. Действительно, в первые два дня солнце надолго скрывалось за облаками, вдалеке прогремел гром, а на нас даже упало несколько дождевых капель.
Маша порой забавляет нас своими наблюдениями, например: «Верблюды издалека очень похожи на черепах!»
Ну прямо-таки по Экзюпери (слон в удаве). А ведь действительно похожи!
За самочувствием детей следить довольно просто. Все видно по их эмоциям. Если едут, разговаривая и что-то обсуждая, или предлагают мне на ходу поиграть в «Угадай мелодию» – значит, все в порядке, сил еще много. Если начинают затихать, все чаще прикладываться к фляжкам, особенно ближе к полудню, – надо снизить темп и начать присматривать место для большого обеденного привада или ночлега. Хотя в усталости никто из них никогда не сознается.
Маша в таких случаях иногда прибегает к маленьким уловкам. Наш обычный ритм движения – полчаса езды, десять минут отдых. Но она, не дожидаясь планового привала, вдруг просит: «Пап, давай остановимся на минутку, я хочу попить», хотя прекрасно умеет доставать флягу и пить на ходу. Просто это предлог, чтобы немного постоять, передохнуть.
Впрочем, стоит только поставить тент на обеденном привале или разбить палатку вечером, как буквально через несколько минут вновь веселая болтовня, шутки, смех, А если рядом высокий бархан, дети обязательно начнут прыгать или кубарем скатываться с него.
Чтобы дети могли снять психологическую усталость (а длительная езда на велосипеде, особенно по дорогам, требует большой концентрации внимания), мы старались дать им возможность пообщаться со своими сверстниками, поиграть в футбол. И хотя местные ребятишки говорят на арабском и французском языках, а наши – на русском и английском, контакт между ними устанавливался сразу же и особых трудностей в общении не возникало.
...Последние два часа перед заходом солнца всегда были самыми приятными. Вечерняя прохлада делала езду более легкой, а приближающиеся сумерки предвещали скорую остановку и желанный отдых. Все-таки за день езды дети уставали.

Маша вспоминает: «Мне запомнились красивые закаты в пустыне. Каждый день мы смотрели закат в разных местах: в пальмах, на солончаке, среди песков. В пустыне темнело рано. Закат там в 7 часов вечера. Поэтому мы старались заранее выбрать место, где поставить палатку, чтобы не пропустить закат».
Разбивали лагерь, готовили ужин быстро и дружно, так что от момента остановки до отбоя проходило не более полутора часов, из которых около часа оставалось на еду и отдых. В местах некоторых ночлегов дров не было совсем, и нас очень выручала газовая плитка «Camping gas», а специальная лампа, работающая на том же газовом баллоне, не только освещала палатку, но и позволяла вечером делать видеосъемку. Тент палатки также можно было использовать от солнца во время обеденного отдыха.
Пожалуй, главное, что нужно для полноценного отдыха детям – это нормальный сон ночью. Мы давали им возможность каждый день спать не менее девяти часов. А зная, что по ночам в пустыне холодно, взяли с собой пуховые спальные мешки.
...Солончак Шотт-Джерид, совершенно гладкая поверхность которого простиралась до самого горизонта, произвел на детей сильное впечатление.
Из дневника Андрея: «Два дня мы ехали через солончак. На нем видели очень интересные миражи. Целые рощи как бы висели в воздухе, а дорога, по которой мы ехали, отрывалась от земли и уходила в небо. Когда ночевали на солончаке, то утром ходили рассматривать кристаллы соли, которые блестели на солнце, будто алмазы. Я даже попробовал их на вкус: они такие горько-соленые!»
Из дневника Маши: «В пустыне есть соленые озера и солончаки. В них выкапывают песчаные розы. Только эти розы без душистых живых лепестков. Это кристаллы. Нам дарили эти каменные розы».
В этом путешествии обязанности штурмана впервые возложены на сына: на руле его велосипеда установлен спутниковый навигационный прибор GPS II GARMIN, с помощью которого Андрей определяет наши координаты и положение на карте, а также расстояние до очередного населенного пункта. Для этого мы с сыном заранее внесли в память компьютера координаты ключевых точек маршрута. Сын гордится своей должностью и выполняет работу очень добросовестно. А это – главное. И совсем не важно, что ориентирование в данных условиях для меня никаких проблем не представляет, хотя в ряде случаев его подсказки облегчают мои расчеты.
Оазис Дуз называют северными воротами Сахары. Близость пустыни ощущается во всем – в дыхании жаркого воздуха с юга, в сильных ветрах, часто поднимающих тучи пыли и песка. Именно в окрестностях Дуза, в песках Сахары, мы попали в настоящую пыльную бурю, начавшуюся внезапно, но продолжавшуюся, по счастью, недолго. Видимость резко упала, шквальные порывы ветра швыряли в лицо песок, по дороге мела песчаная поземка. Особенно тяжело было Маше: ветер норовил сдуть ее с дороги. Пришлось остановиться и переждать. Для детей это был наглядный пример того, насколько опасна может быть пустыня и что она требует к себе самого уважительного отношения. Впрочем, дети, похоже, не просто выучили правила безопасности в пустыне, но и полностью прониклись ими. Они внимательно смотрят себе под ноги, чтобы случайно на кого-нибудь не наступить, вечером, распаковывая свои рюкзаки, сразу все вещи заносят в палатку и все тщательно застегивают, обувь тоже забирают в палатку, а если случится необходимость выйти ночью, то непременно будят нас и выходят с фонарем и недалеко...

Из дневника Андрея: «Утром встали, как обычно, в 6 часов, когда солнце только показалось над горизонтом и была приятная прохлада. После завтрака папа почти всегда устраивает небольшие экскурсии по окрестностям. Сегодня мы ходили изучать разные следы, которых утром на песке бывает много, а потом ветер быстро их заметает. Видели следы карликовой гадюки, которая передвигается боком, перекладывая свое тело, поэтому следы похожи на лесенку. Было и множество других следов. А один раз моя нога по щиколотку провалилась в песок. По-видимому, там была чья-то нора. Мне стало как-то не по себе».
Сильные ветра в пустыне – явление обычное. И они изрядно надоедают. У костра толком не посидишь, нормально не поешь – приходится лезть в палатку. Во время движения, если ветер попутный, то, конечно, хорошо, но по закону подлости сильный ветер чаще дует в лоб, и тогда – караул. А иногда на дороге образуются значительные завихрения. Однажды я попал в одно из них и ощутил довольно сильный рывок. Едущая за мной дочка, самая легкая из нас, была вообще отброшена на метр в сторону, и, задев за велосипед брата, упала на обочину. Скорость в этот момент была небольшой, так что травм не было. «Это произошло так быстро, – вспоминала потом Маша, – что я не поняла, что случилось, как я оказалась на земле, и от обиды расплакалась: так хорошо ехала и вдруг непонятно отчего упала. Было не больно, но очень обидно».
К вкусу воды в пустыне надо привыкать. Вспоминается забавный эпизод. Покинув оазис, к вечеру разбили лагерь в песках Сахары, вскипятили воды, разлили по кружкам чай. Маша, которой очень не нравится вкус кофе, вдруг заявляет: «Я из этой кружки чай пить не буду. Вы, наверное, из нее кофе пили. Я лучше налью во фляжку простую кипяченую воду». И только отхлебнув из фляжки, поняла, что не в кружке было дело, а в самой воде: местная вода солоноватая.
Зная об этом, мы использовали местную воду только для приготовления еды и чая на привалах. Для питья по дороге покупали минеральную воду в бутылках, заливая ее в специальный пятилитровый изотермический контейнер, укрепленный на переднем багажнике. Вода в нем оставалась холодной в течение всего дня и лучше утоляла жажду, чем теплая из пластмассовых велофляжек. На ночь мы открывали контейнер, чтобы оставшаяся в нем вода как следует охладилась.
Оазисы Тозер, Дуз славятся своими финиками. Их продают тут повсюду. Но покупать – не так интересно, вот если бы самим найти... Как-то раз подъехали к нескольким высоким пальмам – крошечному оазису посреди безжизненного пространства. А на пальмах – большие гроздья фиников. Залезть наверх по стволу было очень трудно. Стали сшибать финики камнями и палками. Быстро набрали большой пакет, но Маша с Андреем, охваченные азартом, никак не хотели останавливаться. Финики оказались немного суховатыми, не такими сочными, как в магазинах, но тем не менее очень сытными. Дети были довольны необычайно. Еще бы! Подобно настоящим путешественникам они добыли себе пищу! Словом, как у Чуковского: «Вдоль по Африке гуляют, фиги-финики срывают, – ну и Африка! Вот так Африка!».
...Пустынные дороги ребята запомнят надолго. И как пришлось попотеть, перетаскивая велосипеды через барханы, и как с ходу, собрав все силы, преодолевали песчаные заносы, и как неслись по грунтовке, вздымая за собой шлейф пыли, подобно гонщикам «Париж – Дакар».
Но вот все это позади. Сегодня наша последняя ночевка в пустыне. Удивительно теплый и тихий вечер – ни малейшего дуновения. Странное ощущение: всякий раз, несмотря ни на какие тяготы, не хочется расставаться с пустыней. А почему – сразу не ответишь. Что-то в ней есть магическое, зачаровывающее, особенно ночью. «Мне всегда нравилось в пустыне, – писал Экзюпери. – Сидишь на песчаной дюне. Ничего не видно. Ничего не слышно. И все же тишина словно лучится...»
Вот и мы сейчас сидим с сыном на бархане, смотрим на небо. Над нами – мириады звезд, вокруг – таинственная чернота. Сын прижался ко мне и о чем-то задумался. В эту минуту он показался мне совсем маленьким, Маленьким принцем. И на душе стало тепло и немного грустно.
Тунис
Николай Зимин | Фото автора
2001 и дальше: Вверх по лестнице, ведущей вниз

В свое время Фазиль Искандер подметил необыкновенный интерес столичных жителей к погоде. «Единственная особенность москвичей, которая до сих пор осталась мной не разгаданной, – писал он в рассказе «Начало», – это их постоянный, таинственный интерес к погоде. Бывало, сидишь у знакомых за чаем, слушаешь уютные московские разговоры, тикают стенные часы, лопочет репродуктор, но его никто не слушает, хотя почему-то и не выключают.
– Тише! – встряхивается вдруг кто-нибудь и подымает голову к репродуктору. – Погоду передают.
Все, затаив дыхание, слушают передачу, чтобы на следующий день уличить ее в неточности».
На самом деле, пристальный интерес к погоде – свойство не только москвичей. Он коренится в самой природе человека. Погода влияет на настроение, на наши передвижения, на урожаи, на состояние жилища, на выбор одежды, наконец. Проснувшись утром, любой человек первым делом подойдет, скорее всего, к окну (двери, бойнице, амбразуре, иллюминатору и так далее) и поинтересуется – а что там у нас на дворе? Что обещает небо на день грядущий?
В течение всей истории люди пытались предсказывать погоду – как правило, это больше походило на гадание, и успех не очень-то сопутствовал синоптикам прошлого. Вообще говоря, само слово «метеорология» упоминается еще у Платона. Тогда оно означало свободную дискуссию на тему небесных явлений.
Две с половиной тысячи лет назад в греческих городах-государствах на всеобщее обозрение выставлялись парапегмы – таблицы, в которых описывались климатические особенности прежних лет, сообщалось о бурях, туманах, грозах, ливнях. Считалось, что это может помочь в предсказании погоды на ближайшее будущее. В средние века погоду предсказывали по движению звезд, поведению диких животных, состоянию определенных растений...
В наше время узнать погоду проще простого: включи радио, телевизор, посмотри газету. Сегодня почти вся планета покрыта сетью метеостанций. Данные этих станций и спутниковая информация сводятся воедино в крупных метеоцентрах, вооруженных мощными компьютерами. Для пользователей мировой компьютерной сети – Интернета – мгновенное предсказание погоды стало будничной реальностью. Можно войти в сеть Гидрометцентра России и узнать погоду для любого региона нашей страны. Прогнозы эти четырехдневные, точность погоды на завтра по России – 94 процента, на три дня вперед – 85 процентов. Чего еще желать?
Желать остается многого. Например, как узнать погоду на месяц вперед? Или, скажем, на предстоящую весну? Вот это как раз и невозможно. И чем дальше мы хотим заглянуть в будущее, тем недостовернее становится прогноз. А уж предсказание климата на XXI век – дело вовсе туманное.
Мириады вычислений
Климат планеты зависит от огромного количества факторов. Температура океанских вод, ветры у поверхности Земли, мощные скоростные потоки в верхних слоях атмосферы, холодные и теплые морские течения, области высокого и низкого давления, содержание в атмосфере газов, удерживающих земное тепло, запыленность воздуха, круговорот химических веществ в биосфере – все это ежедневно, ежечасно формирует погоду. Так что для предсказания климата даже на день вперед требуется огромное количество вычислений.
Необходимость привлечения колоссальных вычислительных мощностей для метеорологических прогнозов первыми поняли еще в двадцатые годы два крупных математика – Александр Александрович Фридман, создатель советской школы динамической метеорологии, и англичанин Льюис Фрай Ричардсон.
В 1922 году Ричардсон выпустил книгу «Предсказание погоды с помощью числового процесса». Перед его мысленным взором вставал огромный амфитеатр, заполненный «64 тысячами вычислителей, которые определяют погоду по всему земному шару». (Под вычислителями подразумевались люди, вооруженные счетами, логарифмическими таблицами или логарифмическими линейками.) «Работа вычислителей по каждому региону, – писал дальше Ричардсон, – координируется администратором более высокого ранга... Как только данные по будущей погоде рассчитаны, четыре старших клерка на центральной кафедре собирают их и передают по пневматической почте в тихую комнату. Там данные кодируются и передаются по телефону на радиовещательную станцию».
Видение Ричардсоном будущего было смелым и замечательным: он понял, что архитектура вычислительной системы должна отражать существо решаемой проблемы, – то есть нащупал именно тот принцип, на котором будет строиться компьютерная техника семьдесят лет спустя. Однако чего Ричардсон не смог предвидеть – так это того, что для точного глобального прогноза погоды требуется около квадриллиона вычислений. Шестидесяти четырем тысячам «человеческих компьютеров» понадобилось бы более тысячи лет, чтобы рассчитать прогноз погоды на следующий день!
Только в наше время счетные способности мощнейших вычислительных машин приближаются к тому, чтобы осуществить масштабный расчет прогноза погоды. Например, в Лос-Аламосской лаборатории американские ученые используют для этой цели суперкомпьютер СМ-2. Вся околоземная атмосфера разбивается на пятьсот тысяч тетраэдров (при этом площадь, покрываемая отдельной пирамидой, составляет около 70 квадратных километров), погодные изменения в каждом четырехграннике вычисляются приданным ему процессором, а затем суперкомпьютер сводит все результаты в единую картину.
Даже летом, отправляясь в вояж, бери с собою что-либо теплое, ибо можешь ли ты знать, что случится в атмосфере?
Козьма Прутков
И снегу больше было
Так что прогноз погоды, который мы слышим по радио или видим по телевизору, – это результат не только многочисленных инструментальных наблюдений, но и работы мощнейшей современной вычислительной техники. Тем не менее мы зачастую сетуем на качество прогнозов, а уж на само состояние погоды – и подавно. Нам кажется, что раньше и зимы были более снежными, и лето куда теплей.
Вообще говоря, климат Земли постоянно претерпевает какие-то изменения, резкие перемены бывали и раньше, только мы, люди, живущие довольно короткий отрезок времени, либо забываем то, что было, либо не замечаем «стандарта» и обращаем внимание только на крайности, либо ищем аналогии в нашей собственной памяти, а не в памяти человечества, – иными словами, воспринимаем климат мифологизированно.
Вспомним «Ледяной дом» И. И. Лажечникова. В 1740 году по приказу Анны Иоанновны в центре Санкт-Петербурга был построен дом изо льда. И все там было изо льда, даже баня, в которой люди парились, и стоял тот дом полтора месяца. Возможно ли такое в наше время? Скорее всего нет. А если невозможно – хорошо это или плохо?
Передвинемся немного по оси времени. Что мы видим? Опять-таки разительные погодные отличия. Нынешний климат в Европе вовсе не похож на климат начала XIX века и даже не похож на климат середины нашего столетия. Например, зимой 1814 года Темза была полностью скована льдом, чего не наблюдается уже очень давно. А в 1932 году советский океанолог Н. Н. Зубов на небольшом боте обошел вокруг Земли Франца-Иосифа. Льдов там тогда не было. И вообще к 1940 году по сравнению с началом XX века в Гренландском море количество льдов сократилось вдвое, а в Баренцевом – почти на треть. В тридцатые годы на США обрушились знаменитые засухи.
В последние десятилетия, начиная с 60-х годов, снова нарастают климатические аномалии, увеличивается их частота: суровая зима 1967/68 года в СССР; три суровые зимы с 1972 по 1977 год в США. В те же семидесятые в Европе – серия очень мягких зим; в Восточной Европе в 1972 году очень сильная засуха, а в 1976-м – на редкость дождливое лето. С 1968 по 1973 год – страшная засуха в Сахеле; в 1976 и 1979 годах сильные заморозки губили кофейные плантации в Бразилии (тогда-то сильно подорожал кофе); зима 1981/82 года в США и Канаде была одной из самых студеных (от холода погибло 230 американцев). Летом 1982/83 года в Австралии случилась едва ли не самая драматическая засуха за всю историю континента – «Великая Сушь», а в 1988 году снова засуха в США – причем такого масштаба, что американцы вспомнили «пылевые котлы» тридцатых.
О чем это говорит? О том, что в природе происходят мощные энергетические процессы, и это для планеты Земля не новинка. Еще это говорит о том, что мы об этом знаем из книг, газет, телевизионных сообщений и так далее. Человек, скажем, восемнадцатого века тоже мог бы изумиться климатическому неистовству, узнай он о нем, однако доступа к такой информации у него не было. Очень хорошо сказал об этом профессор Ленинградского университета О. А. Дроздов: «Рассуждения об усилившейся изменчивости климата на земном шаре справедливы только частично, частично же это явление кажущееся, связанное с увеличением информации о погодных изменениях в различных частях земного шара».

Теплее или холоднее?
Так что же все-таки происходит с климатом на земном шаре? Теплее он становится или холоднее?
Ни то и ни другое. Просто продолжается длительный геологический период – ледниковый (не будем забывать, что 14 миллионов квадратных километров Земли покрыты льдами), а на него накладываются более короткие климатические циклы. Одни из них мы понимаем хорошо – скажем, колебания в сто тысяч лет или одиннадцатилетние циклы солнечной активности, другие – плохо, и из этой обширной группы колебаний складывается общая, очень непростая картина. В ней по-прежнему много неясного, однако ничего угрожающего пока не просматривается. Наверное, самое главное в нашем отношении к климату – не поддаваться панике.
Вспомним, как тридцать лет назад забили тревогу по поводу обмеления Каспия. Мол, стихийное бедствие, уровень воды падает катастрофически, еще немного – и море исчезнет, надо его спасать, пора поворачивать северные реки вспять и поить ими Каспийское море. Слава Богу, что не повернули и не начали спасать. Совершенно ясно, что это привело бы к страшной экологической катастрофе. А уровень Каспийского моря сам по себе начал подниматься, и сейчас он уже на два метра выше средней отметки, снова затапливаются низменные участки волжской дельты. Почему это происходит – ученые пока не знают, ясно лишь, что мы наблюдаем какие-то циклические изменения.
Если говорить о последних двух столетиях, то можно выделить два резко отличающихся друг от друга периода: холодный – с 1815 по 1919 год (понятно, почему в рассказах Джека Лондона о золотоискателях на Аляске слюна его героев замерзала на лету; сейчас же, сколько ни плюй, – не замерзнет) – и теплый – с 1920 по 1976 год (первые полярные станции дрейфовали по открытой воде, а нынешние стоят на толстенном арктическом льду). Каждые десять лет в первый период наблюдалась одна крупная засуха, во второй период – две. Пройдет еще сколько-то времени, и опять будет холодный период, а затем – снова теплый.
Помимо сложной системы климатических колебаний существуют и такие факторы, как извержения вулканов или мощные лесные пожары, в результате которых в атмосферу выбрасываются огромные количества мелких частиц – аэрозоля. Это тоже в значительной степени влияет на погоду.
В начале 80-х годов нашего столетия произошло два крупных извержения – в мае 1980 года взорвался вулкан Сент-Хеленс в США и в марте 1982 года – вулкан Эль-Чичон в Мексике. Оба извержения выбросили примерно по пол-кубического километра пыли. Это во много раз больше среднего количества аэрозоля, поступающего в атмосферу. Выброс вулкана Эль-Чичон был почти вертикальным, и продукты его извержения достигли высоты 35 километров. В результате последовало несколько очень холодных зим. Аномально холодные зимы наблюдались и после извержения индонезийского вулкана Тамбора в 1815 году.
Летом нынешнего года Россию постигло серьезное бедствие – на ее лесных просторах бушевали страшные пожары. Помимо колоссального ущерба, нанесенного экономике, помимо экологического урона можно говорить и о климатическом потрясении. По-видимому, ближайшие год-два следует ожидать более холодных зим, причем, разумеется, не только в России: дым лесных пожаров, разнесенный ветрами, не мог не снизить притока солнечного тепла на Землю.
В сущности, такие прогнозы делать несложно, для этого даже не нужно быть специалистом: понятно, что увеличение аэрозоля в воздухе планеты приведет к некоторому снижению потока солнечной радиации; понятно, что климатический баланс хоть немного да изменится; это значит, что зимы могут стать более холодными, а летние месяцы – более дождливыми. Если хотя бы одно из этих явлений произойдет – можно считать себя пророком (как тут не вспомнить замечание американского писателя-фантаста Л.Спрейг де Кампа: «Пророку невыгодно быть излишне конкретным»).
Гораздо труднее прогнозировать глобальные изменения климата на длительный период, здесь пророчествовать куда труднее, и климатологи, строя свои прогнозы, прибегают либо к хорошо изученным погодным механизмам, либо... к механизмам, пока еще понятым не до конца. Любопытно взглянуть, какие страхи или какие надежды люди связывают с таким явлением, как парниковый эффект. Само разнообразие точек зрения на этот предмет подталкивает к выводу, что с толкованием парникового эффекта дело обстоит не очень уж гладко.
Прежде, чем молиться о ниспослании дождя, лучше всего почитать прогноз погоды.
Марк Твен
Парниковый эффект
Сначала – о самом явлении. Речь идет о тепловом балансе земной атмосферы. Тридцать процентов солнечного излучения, падающего на Землю, отражается в пространство, а семьдесят поглощается атмосферой и поверхностью планеты. Сама Земля тоже излучает тепло, которое частично поглощается атмосферой, а частично уходит в космическое пространство. Вот это соотношение тепла получаемого и тепла отдаваемого и называется тепловым балансом.
Углекислый газ удерживает примерно 18 процентов земного тепла. Если его количество в атмосфере увеличивается – значит, тепла поглощается больше, и, таким образом, наша воздушная оболочка понемногу разогревается. Вот, в сущности, и весь парниковый эффект. Со времен начала промышленной революции в атмосферу было выброшено огромное количество углекислого газа – ведь это продукт горения углеводородного топлива. Более того, углекислого газа и других газообразных продуктов деятельности человека в атмосферу поступает все больше и больше. А раз так – значит, парниковый эффект усиливается, значит, мы живем во все более теплой атмосфере, скоро уже начнут таять ледники, зимы практически исчезнут, уровень Мирового океана поднимется, страшно сказать, на сколько метров, и тогда – только держись... Примерно таково самое примитивное, но, однако, и самое устойчивое понимание парникового эффекта. Тем не менее, не так все просто и не так все страшно...
Следует заметить, что парниковый эффект для нашей планеты не новость. Углекислый газ живая природа вырабатывала всегда, а значит, и «парник» над нашими головами – и над головами динозавров, между прочим, тоже – был опять-таки всегда. Ну, по крайней мере, столько же времени, сколько существует сама живая природа. Более того, не будь этого парникового эффекта – не было бы и жизни на нашей планете, а значит, и нас с вами: именно газы, удерживающие тепло в атмосфере, сохраняют климатический режим, благоприятный для живой материи.








