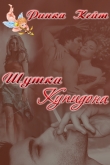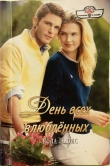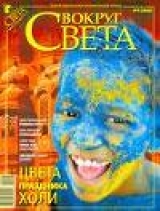
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №03 за 2009 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)

Пернатые обитатели Нимфенбургского парка не подозревают, что они здесь последние аристократы
К слову о «садовнике»
«Веселый путник, остановись! Благодарность усиливает наслаждение. Здесь друг людей Румфорд воплотил с размахом, чувством и любовью вдохновенную мысль Карла Теодора, облагородив прежде пустынную местность и превратив ее в то, что ты нынче зришь вокруг себя», – такой высокопарной надписью приветствует посетителей Английского сада со своего пьедестала его создатель – уроженец Массачусетса Бенджамин Томпсон (1753—1814), который за заслуги перед баварской короной получил титул графа фон Румфорда. Румфорд, как это часто случалось с персонажами европейской истории, служа разным коронам, сочетал государственную деятельность (в Мюнхене он дослужился до начальника генштаба) с науками и искусствами. Помимо озеленения Мюнхена, граф увековечил свое имя открытием первого закона термодинамики и «румфордовым супом» – рецептом дешевой и питательной похлебки из перловой крупы, гороха и кислой капусты, которой кормили много поколений баварских солдат и нищих.
Классический английский парк был разбит в долине Изара на исходе XVIII столетия. Ни структура, ни стиль его с тех пор не менялись. Привыкшего к запыленной городской растительности приезжего он удивит сельской чистотой красок. Есть тут и социальные аттракционы: в теплое время года на подстриженных лужайках постоянно разыгрываются спектакли при участии двух главных групп исполнителей – ну дистов и вуайеристов. Первые картинно раскладывают на зеленой травке ухоженные телеса. Вторые усаживаются вокруг, прикрываясь газетами, шляпами, дипломатами, и смотрят. Все остальные ходят мимо и хихикают.
К более пристойным садово-парковым увеселениям относится серфинг. Если вы видите на мюнхенской улице, за 500 километров от ближайшего моря, человека с доской для серфинга наперевес – в том нет вины баварского пива. Этот человек идет в Английский сад (или возвращается). Через парк протекает быстрый и холодный Ледяной ручей (Айсбах): на одной из быстрин образуется постоянная волна, пригодная для серфинга.
Дети анархии
«Все, ясно! Поехали! – командует мой спутник бодрым и уверенным голосом. – Айда налево!» Я с удовольствием отключаю голову и следую его указаниям. Его зовут Максимилиан. Он – голос из навигационного прибора. Навигатор моего баварского же автомобиля BMW говорит на 18 языках, в том числе на бешеном баварском диалекте.
К слову о BMW
Концерн «Баварский моторостроительный завод» (так расшифровывается и переводится аббревиатура BMW) представлен в Мюнхене грандиозным архитектурным комплексом, в котором наслоились друг на друга несколько поколений модной архитектуры. Штаб-квартира «баварских моторов» – небоскреб, очертания которого должны напоминать моторные цилиндры. Рядом гигантский рекламно-развлекательный комплекс под названием «Мир BMW». Тут же расположен и музей фирмы. С момента постройки в 1973 году его чашеобразное здание стало одним из символов Мюнхена. В позапрошлом году «Мир BMW» обновили за полмиллиарда евро (сумма, на которую можно было построить дворец на самом дорогом участке земли). Сегодня здесь можно и поглазеть на обаятельных четырехколесных стариканов, которые строили еще в те времена, когда фирма специализировалась в первую очередь на авиационных двигателях, и полюбоваться на чудеса техники завтрашнего дня и плоды фантазии современных художников. Так, обитающий в Берлине датский концептуалист Олафур Элиассон соорудил здесь «ледяной автомобиль»: взяв за основу водородный автомобиль BMW H2R, он заменил внешнюю обшивку болида хрупкой оболочкой – металлическим каркасом, на который напылено много слоев льда. Автомобиль стоит в холодильной камере.

В музее BMW вам покажут не только мотоцик лы и автомобили, но и инсценированные картины из истории концерна. А также расскажут о том, что первые в мире водительские права и номера на машину были выданы именно в Мюнхене
«Баварец по своей природе добродушен, – отмечал уроженец Гессена и житель Тюрингии Иоганн Вольфганг фон Гете. – Но в своих привычках и воззрениях – упорен и непоколебим». Он готов до истерики защищать свой распорядок жизни – например, особые правила в сельском хозяйстве или образовании – и отчаянно отбивается от любых влияний извне: берлинских, брюссельских, любых. В таких делах баварец способен дойти до стихийного анархизма. Взять хотя бы закон о запрете курения в общественных местах: Мюнхен до последнего противился его ратификации, а затем первым ввел послабления, ссылаясь на «специфическую культуру баварских пивных». «Год 2506-й, – шутил один немецкий юморист в популярном скетче. – На заседании земельного парламента в Мюнхене принято судьбоносное решение: принять Единую Европу в состав Баварии. За исключением, конечно, Пруссии».
Всячески подчеркивая свою особость, мюнхенцы бесконечно гордятся даже разновидностью своих городских сумасшедших. Вплоть до того, что им ставят памятники – на Виктуалиен маркте целых пять штук. Как правило, «оригиналы» – это люди из глубинки, так сказать, носители народной смеховой культуры. Но есть и совсем отдельный случай – знаменитый баварский клоун, мюнхенский уроженец Карл Валентин.
Через 60 лет после смерти его по-прежнему знает в городе каждый – примерно как Чарли Чаплина в Америке. В двух словах не скажешь, что именно смешного было в этом худом, не уклюжем человеке с лошадиным лицом, приятеле Брехта и «дадаисте от сохи». В 1930-е годы Валентин – пожалуй, единственный в рейхе – мог позволить себе выйти на сцену и вместо обязательного приветствия сказать публике: «Хайль... Хайль... Хайль... как его там? Никак не могу упомнить...» – «Гитлер!» – подсказывали ему из зала. «Да, Гитлер, – хлопал себя по лбу комик. – Хорошо все-таки, что нашего фюрера зовут не «Кройтер» («хайлькройтер» по-немецки – «лекарственные растения»). Впрочем, вскоре после начала войны Валентину все же запретили выступать. Как и полагается художнику, он глубоко не любил власть в любых проявлениях, за что по сей день любим мюнхенцами.
В маленьком музее Валентина, внутри старинных Изарских ворот, хранится то, что осталось от его знаменитого «Паноптикума» – абсурдного ярмарочного балагана, пародии на музей. Клоун собирал здесь все истинно лишенное смысла. «Стакан берлинского воздуха», отороченная мехом «зимняя зубочистка», «скважина от замка, смыкавшего пояс верности принцессы Кунигунды», инсталляция «Водолаз, вынужденный лечь спать в скафандре, поскольку потерял на дне ключ от него». Кстати, открывается музей ровно в 11.01 (как значится на сайте, «даже в самую мерзкую погоду»), а закрывается в 17.29.
Русский хоббит
Они наверняка понравились бы друг другу, если бы встретились – Валентин и персонаж, вошедший в мюнхенскую историю под именем Väterchen Timofej. Но такой возможности им не представилось – «батюшка Тимофей» явился в городе в 1952 году, через четыре года после смерти комика. Откуда – точно никто не знает. Сам он рассказывал, что был «прихвачен» в качестве возницы немцами, отступавшими из СССР. Так или иначе, Тимофей был одним из тех многочисленных советских граждан, что затерялись после Великой Отечественной войны и сочли за благо не возвращаться домой.

В храме фотографии «батюшки Тимофея» соседствуют с богородичными иконами
Свой крестьянский практицизм Тимофей доказал на деле: в Мюнхене он облюбовал идиллическую «ничейную землю» на краю города – Обервизенфельд. Здесь он построил сперва «хату» – типичную мазанку, а потом – церковь. Маленькую, белую, с луковкой-маковкой. Набожным баварцам он сообщил, что действовал при этом по указанию Девы Марии, которая явилась ему не то в городе Шахты Ростовской области, не то в Вене. Богоматерь часто является и баварцам, так что маленькая церковь полюбилась населению. Для строительства Тимофей использовал материалы с ближайшей свалки, куда были свезены обломки разбомбленных во время войны домов. А над алтарем соорудил полог из фольги. В этом «храме мира между Востоком и Западом» сам же основатель и служил – вопреки канону какой бы то ни было конфессии.
Вся эта трогательная история продолжалась до начала 1970-х, когда Обервизенфельд попал в зону строительных работ для пред стоявшей Олимпиады. И тут мюнхенское население так решительно встало на защиту Тимофея и его церкви, что архитектор Олимпийской деревни Гюнтер Бениш решил нанести визит белобородому отшельнику. В результате архитектурные планы были изменены, новый комплекс сместился к северу, а русский биотоп сохранился. Умер таинственный старик совсем недавно, дожив до очень преклонных лет. Если верить пожелтевшей бумажке, которую он предъявлял всем, кто интересовался, Тимофей Васильевич Прохоров родился в станице Багаевской Ростовской области в январе 1894 года. Таким образом, на момент смерти летом 2004 года ему шел 111-й год. «Самого старого мюнхенца» хоронили со слезами всем городом: Do swidanija, Väterchen Timofej!
А «восточно-западная церковь» и хата Тимофея сразу попали в число титульных достопримечательностей. Об их сохранности пекутся энтузиасты, небольшой музей рассказывает о повседневной жизни отшельника, а городской бургомистр Кристиан Уде называет «русский анклав» в Олимпийском парке «самым симпатичным самостроем в мире». Поверьте – такое в Германии возможно лишь в Мюнхене.
Фото Алексея Бойцова
Анастасия Буцко
Небесные драконы

Сордес, Казахстан, 150 миллионов лет назад
«Нечисть волосатая» – так переводится с греческого языка видовое название этого мелкого птерозавра, размером с голубя, из подотряда рамфоринхоидов. Виной тому весьма зловещая внешность существа: крепкое тело, сплошь покрытое густой шерстью, зубастая пасть с вытянутыми челюстями, длинный голый хвост. Сордес обитал на берегу лагуны в жарком и сухом климате, сложившемся на побережье океана Тетис в конце юрского периода. Рис. ОЛЬГА ОРЕХОВА-СОКОЛОВА (х3)
В истории Земли всего три группы позвоночных животных сумели освоить воздушное пространство. Это птицы, летучие мыши и птерозавры. Летающие ящеры вымерли 65 миллионов лет назад в мезозойскую эру, оставив ученым разгадывание тайны своей виртуозной способности к полету. Что же известно современной науке о птерозаврах?
Автор первой публикации о птерозаврах, итальянский ученый XVIII века Козимо Коллини, приписал найденные в карьерах Баварии останки неизвестному морскому существу. (Позже другие исследователи относили их к летучим мышам и птицам.) Загадка разрешилась уже в начале XIX века, когда стало ясно, что это особая группа рептилий, освоивших оригинальный способ полета при помощи кожной мембраны, натянутой к сильно удлиненному пальцу руки и служившей крылом.
Самые древние из известных науке птерозавров обитали в конце триасового периода, примерно 210 миллионов лет назад, в одно время с сухопутными родственниками – динозаврами. Их объединяют в семейства эудиморфодонтид и диморфодонтид. Тела этих древних существ были хорошо приспособлены для полета. Полые тонкостенные кости образовывали облегченный скелет, длинные узкие крылья помогали взмывать в небо. Крупный мозг, занимавший весь соответствующий отдел черепа, развитое чувство равновесия и ориентации, отличное зрение способствовали искусному, маневренному полету. Без сомнения, они были опасными хищниками и зоркими охотниками, способными выслеживать и хватать добычу, будь то рыба, ящерица или насекомое, из самых разных положений. Эти животные обладали всеми характерными чертами, присущими их более поздним сородичам, и широко распространились по Земле: остатки древних птерозавров находят в Европе, Гренландии , Центральной Америке . Их совершенство говорит о длительной эволюции и многочисленных предшественниках, следы которых от нас, к сожалению, скрыты. С точки зрения систематики всех птерозавров разделяют на два подотряда: рамфоринхоидов и птеродактилоидов. Первые, обитавшие в триасовом и юрском периодах, предшествовали вторым, хотя некоторое время и пересекались с ними во времени.

Птеранодон, Северная Америка, 80 миллионов лет назад
Летающие ящеры, появившиеся в меловом периоде, отличались от предшественников крупными размерами и особой техникой полета. Их территорией были морские проливы и океанские просторы, поэтому они умели летать долго и на большие расстояния, используя планирование. Птеранодоны с размахом крыльев 7,3 метра царили в воздухе. Они охотились за рыбой, выхватывая ее из воды на большой скорости. Нередко сородичи устраивали драки, пытаясь отобрать друг у друга добычу. Главное оружие – тяжелые челюсти, способные нанести серьезные увечья противнику, а защитой служил костный панцирь на груди.
Главная отличительная черта птерозавров – конечно же, умение летать. Они освоили активный полет, то есть махали крыльями, чтобы взлетать и удерживаться в воздухе. Как показала эволюция, осуществить такой полет можно различными способами, а потому летательный аппарат этих животных особенный, непохожий на птичий и мышиный. Два отдела представляют в нем особый интерес – это руки-крылья и хвост-руль. Плоскость крыла образована большой кожной перепонкой (брахиопатагиумом), натянутой, как уже упоминалось, между телом и сильно удлиненным четвертым пальцем кисти, а также кожной перепонкой поменьше (пропатагиумом), расположенной между плечом и предплечьем. Пропатагиум поддерживался палочковидной костью – птероидом, представлявшем собой окостенение мышцы, идущей вдоль переднего края этой кожной складки. Натяжение мышцы поднимало пропатагиум, что позволяло изменять аэродинамические свойства крыла. В крыле рамфоринхоидов была еще одна перепонка – уропатагиум, натянутая между задними конечностями и проходившая под хвостом. Вероятно, с ее помощью, если поджать хвост, птерозавр мог притормаживать, заходя на посадку.
Кожная перепонка летающих рептилий представляла собой удивительный материал, сложный и практичный, словно созданный неизвестным инженером с учетом всех летных характеристик. Основу его составляли ориентированные определенным образом эластичные волокна (актинофибрилы), каждое толщиной примерно 0,05 миллиметра. За их счет перепонка, будучи расправленной, туго натягивалась. В передней части брахиопатагиума волокна располагались почти параллельно «крыловому» пальцу, дальше назад их угол наклона к пальцу увеличивался. Ближе к краю перепонки появлялись дополнительные вставочные актинофибрилы, которые расправлялись только при полном раскрытии крыла, а в покое собирались в складки наподобие веера. К заднему краю крыла волокна подходили почти под прямым углом, что обеспечивало его жесткость в полете. Такая структура делала перепонку выпуклой вверху, создавая аэродинамический профиль крыла, необходимый для возникновения подъемной силы. Также ее пронизывала густая сеть кровеносных сосудов, служивших, возможно, для терморегуляции, когда тепло от тела распределялось на большую площадь перепонки, где быстрее рассеивалось.
У древних птерозавров был очень длинный хвост, состоящий иногда из 40 позвонков. Первые 5—6 были нормально развиты и подвижны, а последующие сильно удлинены и снабжены в несколько раз более длинными отростками. Эти отростки переплетались между собой, обеспечивая полную жесткость хвоста в полете. Хвост в основном опускался и поднимался, и только передняя его часть, свободная от «плетенки», могла двигаться влево и вправо. В полете хвост служил рулем: его жесткость была необходима при внезапных сменах направления, а функцию рулевой лопасти играла кожистая ромбовидная складка на кончике.
Активный полет птерозавров был возможен только при достижении ими достаточно высокого уровня метаболизма, а это – аргумент в пользу их теплокровности. Подтверждение этого – наличие густого волосяного покрова на теле и крыльях, который предотвращал потерю метаболического тепла, ведь за счет летательной перепонки площадь поверхности тела рептилий увеличивалась, а значит, увеличивался и расход тепла. У рамфоринхов мех был коротеньким – 2—3 миллиметра, а сордес носил шубку шестимиллиметровой толщины. Теплокровность давала еще одно преимущество птерозаврам. Вдыхаемый ими воздух нагревался и подавался в обширные воздушные мешки, занимавшие полости трубчатых и других костей, включая позвонки. Это еще больше увеличивало их воздушную «плавучесть».
Будучи прибрежно-морскими охотниками за рыбой, птерозавры проводили над водоемами большую часть времени. Садились ли они на воду и хорошо ли плавали? Сегодня в этом не сомневаются. Другой вопрос: могли ли они глубоко нырять за рыбой наподобие современных веслоногих птиц? Это вряд ли, учитывая, что крылья птерозавров, в отличие от птичьих, полностью не складывались, и растопыренные передние конечности с натянутой летательной перепонкой сильно тормозили движение птерозавров в воде, использовать же крылья как органы подводного движения было невозможно. Более того, птерозавры не могли нырять сколько-нибудь глубоко из-за малого удельного веса, виной чему их полые кости. По крайней мере у некоторых ящеров между пальцами стоп имелась перепонка, как у современных водоплавающих. Вероятно, они работали лапами, отдыхая на поверхности воды, а чтобы взлететь – выплывали на гребень волны.

Кецалькоатль, Северная Америка, 65,5 миллиона лет назад
Птерозавры из семейства аждархид безраздельно господствовали в воздушном пространстве Земли в конце мелового периода. Входившие в это семейство кецалькоатли были самыми последними представителями летающих ящеров и самыми гигантскими. Размах их крыльев составлял 10 метров, шея была длиной три метра, а череп – два метра. Благодаря полым костям ящер весил всего 130 килограммов. Тем не менее кажется невероятным, что такое большое животное поднималось в воздух и планировало, непонятно также, как оно отдыхало, передвигалось по земле и охотилось. Кецалькоатли обитали в глубине материка и, вероятно, питались пресноводной рыбой, мелкими рептилиями и млекопитающими.
В юрском периоде появились новые семейства птерозавров – птеродактилоиды, которые в течение 30 миллионов лет конкурировали с древними и в итоге вытеснили их. Кроме птеродактиля, птеранодона и орнитохейра в юрском и меловом периодах Землю населяли еще два десятка видов, своеобразных и специализированных для различных экологических задач. Механизм полета у них был другой: рамфоринхоиды летали более маневренно, используя хвост как балансир при поворотах, птеродактилоиды больше планировали. Видимо, с изменением способа полета и связаны основные изменения их анатомии. Птерозавры нового поколения располагали более совершенным дыхательным аппаратом, коротким хвостом, а также системой, еще более увеличивавшей жесткость позвоночника: длинной шеей со сросшимися в особую кость передними позвонками (нотариум) и сложным крестцом из 6—10 позвонков. У крупных птерозавров отсутствовала нижняя часть летательной перепонки – уропатагиум, и задний край брахиопатагиума крепился к костному тяжу на конце хвоста, образованному видоизмененными хвостовыми позвонками. Подъем и опускание хвоста изменяли угол наклона задней части брахиопатагиума, который мог функционировать как «закрылки», гасящие скорость во время приземления.
Ярким представителем нового типа птерозавров стал птеранодон, обитавший в морских проливах и на океанских берегах Североамериканского континента. При семиметровом размахе крыльев весил этот ящер всего 16,6 килограмма. Развивая максимальную скорость 50 км/ч, он планировал лучше, чем современные альбатросы, благодаря длинным узким крыльям и удерживался на лету при восходящем потоке скоростью всего 3,6 км/ч.
К середине мелового периода, 90 миллионов лет назад, разнообразие птерозавров уменьшилось, и на Земле осталось единственное семейство аждархид. Оно состояло из очень крупных особей, особенно к концу своего господства. Летающих гигантов такого размера Земля не знала ни до них, ни после. Беззубые, длинношеие рептилии безраздельно царили в прибрежных районах Лавразии и Гондваны в течение последующих 25 миллионов лет. Последние из аждархид – кецалькоатль, хацегоптерикс и арамбургиана – достигли колоссальных размеров. Размах крыльев кецалькоатля достигал 10 метров, хацегоптерикса – 12 метров. Когда в 1971 году кости кецалькоатля обнаружили на территории Техаса , ученые усомнились в его способности летать. Загадку удалось разрешить с помощью эксперимента, создав модели ящера в натуральную величину. Ученые потерпели множество неудач, пока путем проб и ошибок не усовершенствовали конструкцию механического птерозавра настолько, что он смог самостоятельно планировать. Внешность кецалькоатля была не менее выдающаяся, чем его размеры, во многом благодаря очень длинной шее. Представьте себе шейный позвонок 60 сантиметров длиной, а их у ящера было три, плюс еще шесть позвонков чуть меньшего размера. Чему служила такая огромная шея? Одно время думали, по аналогии с современными длинношеими грифами, что кецалькоатли питались падалью, в частности трупами динозавров. Американский палеонтолог Ван Лэнгстон считал, что дело в моллюсках и членистоногих, которых удобно добывать кончиками пинцетообразных челюстей, зондируя грунт на речном или озерном мелководье. Шея этих птерозавров, однако, не была столь подвижной, как у грифов, что делает обе гипотезы сомнительными. Более правдоподобна идея российского палеонтолога Льва Несова – первооткрывателя аждархид, считавшего их рыбоядными. Большая длина шеи позволяла гигантским ящерам долго лететь на небольшой «охотничьей» высоте, касаясь воды концами сомкнутых челюстей и держа туловище довольно далеко от поверхности.

Сравнение крыла летучей мыши (А) и птерозавра (Б)
1 – брахиопатагиум
2 – пропатагиум
3 – уропатагиум
4 – пять пальцев кисти
5 – удлиненный четвертый палец кисти
6 – птероид
7 – актинофибрилы
Существует несколько неразрешенных вопросов, относящихся к обоим подотрядам птерозавров. Один из наиболее спорных: могли ли летающие ящеры передвигаться по земле и если могли, то как? Долгое время думали, что, оказавшись на земле, птерозавры становились совершенно беспомощными, они лежали на брюхе и продвигались вперед за счет пропульсивных движений задних конечностей наподобие современных пингвинов и тюленей. Но, скорее всего, это не так, и птерозавры могли передвигаться по земле довольно хорошо, остается, однако, неясным, как именно: используя все четыре конечности, то есть ноги и локти, или только ноги?
Об образе жизни и поведении птерозавров можно только догадываться, опираясь на аналогии с летучими мышами и современными прибрежными птицами вроде олуш и фрегатов. С этой точки зрения летающие ящеры, вероятно, жили большими колониями и обладали сложным половым поведением, о чем свидетельствуют костные гребни на черепах самцов и самок. Гребни самцов были хорошо развиты и разнообразны по форме, в брачный период они служили сигналами для самок совершать выбор, а также сдерживали агрессию других самцов.
Птерозаврам приписывали некоторые ископаемые яйца рептилий начиная с середины XIX века, но только в 2004 году появились первые достоверные находки из Китая и Аргентины . Теперь нет сомнений в том, что эти странные животные откладывали яйца, как другие рептилии и птицы. Яйцо птерозавра покрывала не известковая скорлупа, а кожистая оболочка, как у современных черепах. Это объясняет, почему находок так мало – ведь для их сохранения требуются исключительно благоприятные условия. Скелет эмбриона в яйце из Китая уже практически сформирован, значит, детеныши рождались активными и вскоре после вылупления начинали кормиться самостоятельно. Насколько птерозаврам была характерна родительская забота о детенышах, можно только догадываться. По крайней мере некоторые птеродактилоиды могли вскармливать еще не летающих детенышей полупереваренной пищей, хранившейся у них в горловом мешке, – обнаружено несколько отпечатков этого органа.
Сегодня известно, что птерозавры были высокоорганизованными и очень разнообразными животными, господствовавшими в воздухе большую часть мезозойской эры. Почему же количество их видов сокращалось на протяжении мелового периода? Одна из возможных причин – конкуренция с птицами, которые в то время уже были многочисленны. Из 16 семейств птерозавров осталось только одно, состоящее из настоящих гигантов. Они планировали над прибрежными водами океанов и морей в особо благоприятных погодных условиях. Реальную конкуренцию в воздухе им могли составить только крупные океанические птицы, но время их еще не пришло – эти птицы появились спустя миллионы лет после исчезновения последних птерозавров. Гигантов погубили не птицы, а узкие рамки их образа жизни. Глобальное похолодание климата 65 миллионов лет назад привело к резкому ухудшению погодных условий, возникновению частых штормов, ливней, сокращению теплых восходящих потоков воздуха над океаном. Последние птерозавры оказались слишком уязвимыми для таких изменений и исчезли.
Александр Аверьянов