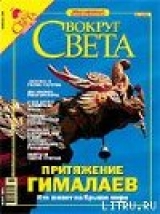
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» № 2 за 2005 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Монголия. Пустыня Гоби
«Бесконечна Центральная Гоби. И белая, и розовая, и синяя, и графитно-черная. Вихри устилают пологие скаты потоком камней».
(Н.К. Рерих. «Алтай – Гималаи».)
Она все так же прекрасна, будь то ровный «загар» растрескавшихся и почерневших камней или глубокие русла когда-то полноводных рек, от которых остались только солевые кристаллы или огромные золотые барханы. Когда мы разбили лагерь около одного из них, к нам пришел настоящий шаман с вопросом – не желаем ли мы за умеренную плату послушать санскритские тексты, положенные на мелодическую основу, а также колдовские молитвы (дурдалга) под аккомпанемент моринхура – странного двухструнного сооружения с длинной, как копье, рукояткой. Получив усталое согласие, служитель культа тут же нацепил на лицо маску из конского волоса, начал с пожелания доброго пути, а закончил – знаменитым горловым пением. В Гоби, видимо, у него особый резонанс. В какой-то момент стало даже страшно…
«Нам приходилось искать объяснение в характере самой пустыни, которая оказывает странное, почти сверхъестественное влияние на каждого, кто хоть раз странствовал по ее просторам. Моряка всегда притягивает море, а у пустыни есть караванщики, которые снова и снова возвращаются к ее обширным незабываемым просторам и свободе».
(Н.К. Рерих. «Алтай – Гималаи».)

Пустыня эта только кажется «пустой» – на самом деле, она скрывает россыпи сокровищ. Например, нигде в мире не находят столько останков динозавров, сколько здесь. А если взглянуть на археологическую карту, бросается в глаза расположение древних руин. Они как будто выстроились по периметру произвольного круга, в центре которого – неизвестность. Что за святыню охраняли эти «крепости», населенные когда-то тысячами лам, – такие, как Онгийн-Хийд, по площади равный небольшому городу? Или Хармэн-Цав, относительно которого ученые до сих пор не пришли к единому мнению – было ли здесь человеческое поселение или прихотливые скальные формы слепила сама природа? Она ведь во всяком случае зорко следит за тем, чтобы дорога к ним не оказалась легка – уводит путников от заветного места. Над нами она смилостивилась: хотя битых два дня мы плутали, на третий около крупнейшего в мире бархана Хонгорын-Элс нам повстречались археологи из Канады, которые возвращались с раскопок, как раз из Хармэн-Цава. И они еще долго не соглашались выдать нам GPS-координаты этой точки…
Сюда не ведут никакие дороги – даже «направления», потому что все автомобильные следы слизывает гобийский ветер. По виду Хармэн-Цав напоминает колорадский Гранд-Каньон, но вот только все эти стены, башни, «сфинксы», незаметные проходы среди скал… Заброшенный древний оазис с цветущими деревьями – могли ли люди упустить возможность однажды поселиться в нем? А если не упустили, то почему ушли, оставив его лишь варанам (в нору одного из них я провалилась ногой) и, если верить сказкам, великому Пустынному Червю, который, исчезая одним концом под землей Хармэн-Цава, может другим показаться на поверхности за сотни километров – в Китае?
Китай. Синьцзян – Уйгурия. Основы гигиены
«Путь Яркенд – Кашгар – Кучары – Карашар – Урумчи взял 74 дня. Первая часть пути была по снежной пустыне, но к Яркенду в начале февраля последние снежные пятна исчезли, снова поднялись удушающие клубы песчаной пыли, но зато радовали первые листы плодовых деревьев».
(Н.К. Рерих «Алтай – Гималаи».)
Мы проделали тот же путь, но в обратном направлении: Урумчи – Корла (Карашар) – Куча (Кучары) – Кашгар – Яркенд. По мусульманскому Синьцзян-Уйгурскому округу КНР разлит странный эклектичный колорит из пространственных, временных и культурных пластов, которые не предполагаешь застать вместе. В Урумчи, на фоне нормальных декораций китайского экономического чуда – широких магистралей, многоуровневых развязок, супермаркетов, пятизвездочных гостиниц – бродят вереницы русских челноков в потрепанных куртках из Поднебесной, штанах из Индии и турецких кроссовках. Шумными перебранками они создают атмосферу блошиного рынка, столь характерную, например, для Москвы начала 1990-х, но ведь тогда наша столица еще не была похожа на большой фешенебельный торговый центр, а синьцзянская – уже похожа. Единственно, чем она может гостеприимно ответить таким гостям, – это написать неоновой кириллицей над входом во вполне манхэттенского вида небоскреб: «Международный центр оптовой торговли».
А в Кашгаре, докуда вьется немецкого качества автобан, – своя песня. Ни в Новом, ни в Старом городе (переход из одного в другой маркирует одна из крупнейших китайских мечетей, ИдКа) невозможно отделаться от ближневосточных ароматов, в диапазоне от розового масла до мочи. Кругом публика в чалмах, бойкая торговля, в ходе которой цена сбивается в десяток раз, интернациональный гам и толкотня, но завернешь за какой-нибудь угол, возле которого выросла в твой рост куча мусора… А там – школа. А во дворе школы – настоящая пионерская линейка, с поднятием звездно-красного знамени, с горнами, со взволнованными маршами, с «кричалками», в которых слышно слово «Мао».
Или в другом закоулке – пошивочная мастерская делит помещение со стоматологическим кабинетом. В витрине выставлены правдоподобный макет челюсти и зубные протезы… Вообще, дантистов в Кашгаре так же много, как гробовщиков в городе N из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова. Меня даже осенило, почему – все дело в уйгурском хлебе. Его пекут таким образом, что он изначально черств, зато хранится месяцами, чем и знаменит.
«Не был ли Тамерлан великим дезинфектором? Он разрушил много городов. Мы знаем, что значит разрушить глиняные городки, полные всякой заразы. Вот мы проехали двенадцать городов. Что можно сделать с ними? Для народного блага их нужно сжечь и рядом распланировать новые селения. Пока догнивают старые, трудно заставить людей обратиться к новым местам».
(Н.К. Рерих. «Алтай – Гималаи».)
Из всех земель, какие преодолела на своем пути наша экспедиция, Синьцзян-Уйгурия в наибольшей степени угрожает человеческому желудку и вообще здоровью. Столкнувшись с последствиями некачественной пищи, мы заправлялись перед каждой трапезой фесталом, протирали руки спиртовыми салфетками, всюду носили свою посуду и головки чеснока. В гостинице последнего перед новым горным хребтом города Яркенд незнакомые нам насекомые сновали по кроватям, так что мы почли за благо устроиться в спальных мешках. Но все это нас закалило: к моменту приезда в Тибет мы уже свыклись с тем, что здесь принято готовить еду руками, одновременно подкидывая ими биологическое топливо в печку, и с прочими экстравагантными правилами такого рода.

Китай. Кунь-Лунь. Ничья земля и собаки
После Яркенда китайские сопровождающие запретили даже вынимать фотоаппараты и видеокамеры из сумок. Мы въезжали на спорную с Пакистаном территорию, которая в любой момент может перейти из рук в руки. Сейчас ее оккупируют китайцы, и одно из их суровых требований к проезжающим иностранцам (таковых вообще крайне мало – разрешение получить сверхтрудно) поставило экспедицию под настоящую угрозу. Дело в том, что назад поворачивать отсюда ни при каких условиях нельзя – не выпустят. Пропуска четко обозначают точки въезда и выезда. А между ними – высокогорное бездорожье. Маршрут вначале взмывает от 300-километров до 5 000 над уровнем моря, и этот последний показатель держится на протяжении 800 км. Горная болезнь в разной степени напала на каждого из нас, были попытки от отчаяния и в панике броситься в пропасть, но об этом умолчу. Все обошлось…
«Если бы знал этот китайский пограничный офицер Шин Ло, как мы были тронуты его сердечным приемом. Заброшенный в далекие горы, лишенный всяких сношений, этот офицер своим содействием и любезностью напомнил черты лучшего Китая. … По дружбе даже разбили палатки на пыльном дворе форта».
(Н.К. Рерих. «Алтай – Гималаи».)
Этой ночью, проведенной на «ничьей земле», нас любезно согласились оставить в военной части Мазара. Даже кухню предоставили, а сами удалились – люди, во всяком случае. Остались их псы. В путеводителе Lonely Planet по Тибету сказано: «Опасайтесь тибетских собак, они довольно крупные и кусают исподтишка». Совершенно верно.
Китай. Гималаи. Тибет и его столица
«Народ очень понятлив, но в этом большом оазисе, насчитывающем более 200 000 жителей, нет ни госпиталя, ни доктора, ни зубного врача. Мы видели людей, погибавших от самых ужасных заболеваний без всякой помощи. Ближайшая помощь, но и то любительская, в шведской миссии в Яркенде, находится за неделю пути от Хотана». (Н.К. Рерих. «Алтай – Гималаи».)
В Али, последнем пункте Синьцзян-Тибетского тракта, по ночам, похоже, никто не спит. Въехав туда около часа ночи, ревущими моторами мы не внесли в жизнь «тихого» поселка никакого диссонанса. За открытыми дверями забегаловок веселились клиенты во вполне традиционных европейских костюмах. Бильярдные столы, расставленные вдоль главных улиц нескончаемой чередой, были полностью оккупированы игроками, а некоторые еще только ждали своей очереди…
Я назвала улицы главными, но они же являются и единственными. Тибетские городки и деревни строятся так: в зависимости от числа жителей прокладываются один или два (крест-накрест) широких проспекта. Вдоль каждого из них возводят один-единственный двухэтажный дом с общими перекрытиями, внешними стенами и помещениями общего пользования. Причем фронтальная сторона, словно в антиутопиях Замятина и Хаксли, от пола до потолка выполнена из стекла. Каждой семье отведена комната стандартным размером 3 на 4 метра, причем в ней же, как правило, днем каждый зарабатывает себе на жизнь. Жена, например, строчит на швейной машинке, а муж продает то, что у нее получается. То, что в светлое время суток являет собой прилавок, в темное становится кушеткой. Штор и занавесок нет, так что внутренняя жизнь этих человеческих норок – как на ладони у любого зеваки. Идешь мимо больницы – самой настоящей больницы под вывеской с зеленым крестом, которая занимает целых три комнаты, – и видишь: в ней четыре кровати. Пациенты почему-то не спят, а сидят в зеленоватых лучах дневной лампы, поджав под себя ноги, и смотрят в переднюю стеклянную стену, то есть прямо на тебя, но как бы и сквозь тебя. Такое вот довольно жуткое «зазеркалье». К несчастью, той ночью в Али одному из наших спутников случилось порвать губу, и врач экспедиции порекомендовал зашить ее в стационарных условиях. Сказано – сделано: нашли хирурга, но у того не оказалось даже стерильных перчаток, не то что обезболивающего. В конце концов, наш друг предпочел, как рекомендует тибетская медицина, врачевать боль усилием сознания. Тем более что пока суд да дело, наступило раннее утро – а значит, время выезжать. Трудолюбивое население Али, кстати, тоже уже начинало новый день – каждый, присев на корточки перед своим жильем-заведением, чистил зубы. Уже прогресс.

Тибет. Кайлас – Эверест – Лхаса
«Подходы к пещерам осыпались, и мы с завистью смотрим на высокие темные отверстия, отрезанные от земли. Там могут быть и фрески, и другие памятники».
(Н.К. Рерих «Алтай – Гималаи».)
Пещер в Тибете вряд ли намного меньше, чем людей. Начитавшись у французской исследовательницы Тибета Александры Давид-Ноэль об отшельниках-махатмах, которые без пищи и воды прячутся от мира в горных пещерах, лишь иногда выходя подышать свежим воздухом, я все время вглядывалась через телевик в окрестные горы – вдруг увижу. Но ничего, кроме архаров, на глаза не попалось. Буддийских аскетов в Тибете давно нет, их начисто смела китайская культурная революция. Даже некоторые из пещер, «рассадников вредной идеологии», Мао велел замуровать – и по сей день они не распечатаны. Но многое сохранилось. Знаменитое скальное королевство Гуге, до XVII столетия одно из могущественнейших в Тибете, бесследно исчезло задолго до великого кормчего, но пагоды из желто-коричневой скальной породы, а также выдолбленные в самой этой породе лабиринты и помещения по-прежнему господствуют над долиной реки Сатледж, только немного тронуты эрозией – удивительно, как столь хрупкий на ощупь минерал выстоял на вековых ветрах и снегопадах?..
«Рассказать красоту этого многодневного снежного царства невозможно. Такое разнообразие, такая выразительность очертаний, такие фантастические города, такие многоцветные ручьи и потоки и такие памятные пурпуровые и лунные скалы. При этом поражает звонкое молчание пустыни. И люди перестают ссориться между собою, и стираются все различия, и все без исключения впитывают красоту горного безлюдья».
(Н.К. Рерих. «Сердце Азии».)
Удивительное чувство испытываешь, «найдя» на перевале на высоте 5 000 метров от уровня моря молитвенные флажки, привязанные к сложенным пирамидкой веткам, – и здесь, на Крыше мира, оказывается, живут люди! Более того, они оставались здесь много часов, беседуя с небесами и глядя на уходящие в бесконечность вершины, которые больше напоминают поверхность рельефной карты из кабинета географии. Не стану врать, будто обрела какую-либо степень просветления, но прогулки по этим местам, видимо, действительно совершают в людях странные превращения. Помню, еще перед поездкой мне рассказали про одного человека, который, проведя какое-то время в Тибете и Гималаях, добирался обратно на поезде. Так вот, он не знал, куда себя деть во время десятидневного путешествия, и поэтому все время запирался в вагонной уборной, где бегал на месте. Часами. Теперь мы, «ветераны» экспедиции «Алтай – Гималаи», во всяком случае, понимаем его состояние.
«Мы подходим к Брахмапутре, той самой, которая берет исток из священного озера Манасаравара – озера великих Нагов. Здесь родилась мудрая Ригведа, здесь близок священный Кайлас, куда ходят пилигримы, предчувствуя, на каком великом пути лежат эти места. Уже попадаются вереницы пилигримов; они с копьями, мрачные и всклокоченные».
(Н.К. Рерих. «Алтай – Гималаи».)
Долгие переезды, усталость и в довершение ко всему некоторая потеря ориентации вынуждают нас заночевать там, где при свете дня мы в последний раз видели дорогу. Наутро оказалось, что мы находимся прямо у Кайласа, священной для всех буддистов мира горы. Говорят, если совершить 108 раз подряд Малую Кору – то есть обойти вокруг подножия, – можно обрести доступ к Большой Коре, которая откроет вход в рериховскую Шамбалу, страну, где нет страдания. Здесь же в небольшом, выдолбленном в скале монастыре Дзянджа, возраст которого насчитывает 800 лет, живут те, кто желает совершить этот религиозный подвиг. Неизвестно, удался ли он кому-нибудь, но монастырь полон субурганов (молитвенных сооружений на пьедестале и со шпилями), исписанных мантрами о даровании сил и успеха.

Местные ламы, как водится у последователей Гаутамы, добродушны и снисходительны ко всем, включая иноверцев, – даже их они охотно ведут в алтарь (простой каменный «мешок», вмещающий не более трех человек) и показывают одну из главных тибетских реликвий – отпечаток ступни Будды. Впрочем, некоторые двери здесь всегда закрыты на замок, и что за ними – никто, кроме хозяев, не знает. Возвращаясь к лагерю снова на закате, наша усталая компания решила заехать в Баргу перекусить, но кто-то вдруг обернулся назад и увидел свинцовую тучу. Не успели мы даже удивиться, как на 15 минут нас накрыло метелью, а затем вновь вышло солнце – но все вокруг стало так бело, будто буря перенесла нас в Арктику. Так мы, впервые после Укока, увидели снег и, взгрустнув, пошли к машинам за зимней одеждой. А ведь утро встречали в футболках. Казалось, что наступила зима.
Экспедиция приготовилась к долгой задержке (Кайласский перевал занесло), но уже следующим утром я проснулась от чьего-то крика: «Открылся!» Выходим из палаток – безоблачное небо, начинает припекать солнце. Извилистая ледяная змейка, накануне в последних лучах заката отблескивавшая у моих ног, энергично зажурчала и сорвалась со склона. Снова – переодеваться. Так за одни сутки горы показали нам все четыре времени года.
«Тингри-дзонг хотя и называется сильной крепостью, но представляет жалкое игрушечное укрепление, имевшее значение разве до изобретения пороха. Около Тингри-дзонга показался Эверест во всей его сверкающей красоте».
(Н.К. Рерих. «Алтай – Гималаи».)
Эверест открылся еще на перевале Джа-Цуо-Ла. Спустившись, мы попали в оазис среди каменных пустынь, селение Тингри. Пожалуй, как раз отсюда начинаются тот Тибет и те Гималаи, какими мы их себе представляем, живя на Западе. «Музейные» средневековые деревеньки, аккуратные и «деликатные» каменные кладки, обозначающие границы пахотных участков, ярко разрисованные ставни, люди в национальных одеждах. Между прочим, утверждают, что тингрийское «племя» весьма воинственно настроено, и действительно, многие встречные при попытке направить на них фотообъектив начинали что-то кричать и энергичными жестами указывать на обязательность денежного вознаграждения. Платить заставляли даже за съемку яков, но, видя, что мы относимся к их требованиям безропотно, добрели. И даже давали добрые советы, главный из которых – остерегаться членов секты желтошапочников, которые известны своими воровскими наклонностями. Они обитают в монастыре Ронгбук, в двух шагах от базового туристического лагеря Джомолунгмы, который называется так же и администрации которого воровать резона нет, поскольку она и так неплохо зарабатывает, взимая отсюда (5 200 м) и выше вполне легальную плату – с каждого проходящего за каждые 5 километров.
Однако мы, автомобилисты, на Эверест карабкаться не стали, а, накупив у местной ребятни экзотических сувениров, отправились дальше на восток – туда, куда в 1920-х годах Николаю Константиновичу дорога была заказана, хотя теперь, будь он жив, он смог бы там остаться даже на постоянное жительство.
«В Ташилунпо (монастырь таши-ламы) три года назад поставили гигантское изображение Майтрейи – носителя нового века Мировой Общины. Эту идею принес наступающий век тибетского летоисчисления».
(Н.К. Рерих. «Алтай – Гималаи».)
Место, закрытое в начале ХХ века и свободное для посещений теперь, – это Лхаса, но на пути туда стоит еще один важный город, занимающий в Тибете второе место, как по величине, так и по важности. В Шигадзе живет таши-лама (он же – панчен-лама), то есть тот, кого главой буддистов признает Китай. Однако в данное время древняя монастырская резиденция Ташилунпо пустует – нового ламу ведь нельзя определить при жизни старого – они сменяют друг друга «методом» реинкарнации. Десятый глава официальной «церкви» КНР скончался 15 лет назад (кстати, сразу после того, как позволил себе антикитайские высказывания), и теперь его 15-летний официальный наследник получает светское образование в Пекине. Закончив курс, он отправится в Шигадзе, чтобы провести здесь весь остаток жизни. А более известный у нас далай-лама, очевидно, останется в своем индийском изгнании до тех пор, пока существует Китайская Народная Республика.
«Сейчас волна внимания к Тибету. За стеною гор идут события. Но тибетская тайна велика. Сведения противоречивы. Куда исчез таши-лама? Какие военные действия ведутся на границе Китая? Что делается на монгольской границе?»
(Н.К. Рерих. «Алтай – Гималаи».)
Сама столица Тибета, как мы и ожидали, замурована в бетон дорог и стекло технодизайна, забита сувенирами, бутиками, бытовой техникой и прочей ерундой. Но если, зажмурившись, пробраться сквозь все это и выбрать удобную точку, например крышу отеля «Мандала», то можно остановиться, замереть и часами смотреть, как вокруг храма Джокханг совершается Баркор Кора. Слово «кора», как уже стало ясно из рассказа о Кайласе, означает «круг» – и монахи, а также все, кто пожелает к ним присоединиться, от восхода до заката движутся по часовой стрелке вокруг Джоканга, дудя при этом в трубы и звоня в колокольчики. Движения их слитны и ритмичны, хотя в них чувствуется непринужденность и никто намеренно не старается идти в ногу. А какофония звуков выливается не то чтобы в мелодию – в единый, общий, лишенный всяких вариаций звук, хотя производят его по отдельности десятки людей.
Расфокусировав взгляд и распространив его на большую часть Лхасы– благо, обзор с крыши позволяет, – ты начинаешь отделять гам лоточников от благочестивых мантр, исходящих из уст паломников, распростертых ниц перед святынями. Глаз отказывается отличать 13-этажный дворец Потала (бывшее место пребывания далай-ламы) от 13-этажных же зеркальных бизнес-центров. Перестает существовать разница между запахами ячьего масла и курительных свечей. И становится легко не верить Н.К. Рериху в том, что «есть что-то сужденное в умирании старого Тибета. Колесо закона повернулось. Тайна ушла. Тибету некого охранять, и никто не хранит Тибет. Исключительность положения как хранителя буддизма более не принадлежит Тибету, ибо буддизм, по завету Благословенного, делается мировым достоянием. Глубокому учению не нужны суеверия. Исканию истины противны предрассудки». Ведь он, Рерих, как уже было сказано, в Лхасе не бывал. А только зарисовал свое представление о ней в последний год жизни – 1947-й.







