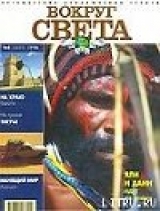
Текст книги "Журнал "Вокруг Света" №8 за 1998 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Всемирное наследие: Безмолвный мир Акакуса

В столице Ливии Триполи я оказался надолго: работал в посольстве. А в свободное время знакомился с достопримечательностями. Недавно открыли Музей Джамахирии – таково официальное название страны. И вот, как-то бродя по его залам, я наткнулся на копии и фотографии загадочно красивых петроглифов – изображений на скалах. Особенно меня заинтересовало то, что нарисованы были удивительные для пустынной Ливии животные – слоны, носороги, львы, бегемоты.

На мой вопрос, откуда это, смотритель музея отвечал:
– Мой господин, это – в центре Сахары, в Акакусе. Там их целые галереи. Загадочное место. Очень советую съездить туда.
Дома отыскал в справочнике, что Акакус – это часть горного массива Тассили-Аджер, расположен к югу от Гата, поблизости от границы с Алжиром, в районе, населенном преимущественно туарегами. Это еще больше подогрело мой вспыхнувший интерес: на улицах ливийских городов можно увидеть этих людей пустыни в длинных одеждах, с закрытыми покрывалами лицами, выделяющихся прямой осанкой и величественной походкой, а главное – спокойной отрешенностью от кипящей вокруг них городской жизни. Правда, встречаются они очень редко.
И вот в майские праздники четыре свободных дня мы провели в Акакусе. «Мы» – это трое сотрудников российского посольства в Ливии и автомобиль «тойота-лендкрузер». Однако без проводников забираться в пустыню слишком рискованно. Проводником обеспечивает находящаяся в Гате туристическая компания «Акакус». Начались длительные попытки связаться с ними: то испорчена телефонная линия, то телефон в Гате не отвечает. А то мудира (директора) нет на месте, а клерки ничего решить не могут.
В общем, в действии классическое для Востока правило «ИБМ», что означает «иншалла» («если на то будет воля Аллаха»), «букра» («завтра») и «малеш» («ничего»). За долгие годы работы в арабских странах мы к этому привыкли и отнеслись как к обычному бытовому неудобству. В конце концов терпение оказалось вознаграждено. Итак, вперед, в Акакус!
30 апреля, выехав после обеда из Триполи и преодолев 1300 километров, глубокой ночью мы добрались до Гата. Утром у офиса «Акакуса» нас уже ждали. Нам представили проводника: человека высокого роста, одетого в длинную, доходящую до икр гандуру. На голове – платок, концы которого замотаны вокруг лица. Видны лишь черные, пронзительные глаза и верхняя часть тонкого носа. Таков туарег Яхья, с которым нам предстоит провести все эти дни. Я отметил про себя, что гандура его голубого цвета. Голубые одежды у туарегов носят «имхары» – благородные, знать, племенная верхушка. Когда-то они образовывали касту вождей, воинов, судей.
Неожиданно выясняется, что нужно оформить пропуска в погранзону: граница с Алжиром, как я говорил, совсем рядом. Хотя, казалось бы, какая тут может быть граница! Вокруг безбрежные просторы, двигайся куда захочешь, и никто тебя не остановит. Наверняка для местных жителей такое понятие, как граница, более чем условно. Но порядок есть порядок, и мы, отдав свои паспорта сотрудникам «Акакуса», отправились тем временем осмотреть Гат.

На узких улочках довольно много людей. Бросаются в глаза открытые лица женщин, их независимая манера держаться. Это —тоже часть традиционного уклада жизни туарегов. В их обществе женщины всегда были самостоятельны: они играли в семье равную с мужчинами роль, их не могли выдать замуж без их согласия. Кстати, у туарегов – даже после того, как они приняли ислам – так и не привилось многоженство.
Еще в толпе множество чернокожих женщин в ярких одеждах. Это тубу – народность, живущая на юге Ливии. Они очень живописны и миловидны, но снять их не удается: завидев в наших руках фотоаппараты, они тут же скрываются.
Среди домов города не видно ни одной пальмы. Зато с юга Гат охвачен полукольцом плантаций, настоящим пальмовым лесом. За ними начинается безбрежная пустыня. Где-то в ней и затерялся Акакус.
На улице нас и настиг приветливо улыбающийся Яхья.
– Ваше превосходительство, – обращается он ко мне, – пропуска получены, можем трогаться в путь.
Последние приготовления к путешествию. Под горловину заливаем бензобаки, берем канистры с бензином и водой.
Впереди «лендровер» проводников, их двое, за ним – наш «лендкрузер». Грунтовая дорога, действительно, пролегает вплотную к границе, обозначенной белыми камнями. С другой стороны совсем близко подступает стена барханов.
«Лендровер» неожиданно тормозит, и Яхья подводит нас к каким-то разложенным на земле предметам. Да ведь это каменные орудия! Крупные, обтесанные с обеих сторон ядра, изящно обработанные наконечники стрел, ступки для растирания зерна... Я поднял один из предметов. Похоже на топор, сделанный из куска кремня, края которого стесаны, с одной стороны – заострен. Припоминаю, что видел такой же в Музее Джамахирии с табличкой: «Возраст – 60 тысяч лет». Неужели и этому столько же? Проводники говорят, что такого добра здесь не счесть: нагибайся и бери.
Песчаное плато неожиданно обрывается крутым двухсотметровым спуском. Перед нами Акакус! Черные ступенчатые стены метров в четыреста высотой тянутся на сто километров. Отвесные скалы, нависающие утесы, отдельно стоящие выветренные горы... Между ними текут ярко-желтые и красные песчаные реки, впадающие в покрытую песком ровную долину. Это действительно река и ее притоки, только текли они здесь более десяти тысяч
лет назад. Абсолютно сухой прозрачный воздух придает далям мягкий лазоревый оттенок.

Спуск по обрыву проходит благополучно, хотя и дается непросто: песок течет под колесами машины, стремится развернуть ее, положить на бок. Натужно ревя двигателем, «тойота» медленно сползает по песчаному обрыву. С удивлением замечаю, что мои спутники, решившие спуститься пешком, без труда обгоняют едва ползущую машину. Наконец, все позади, и я с облегчением вновь ощущаю под колесами ровную и достаточно твердую поверхность.
Тут и подошло время первой ночевки в Акакусе. Тщательно осматриваем выбранное для нее место – не видно ли следов змей? У нас, правда, есть с собою сыворотка, но ведь надо успеть еще сделать укол: сахарские змеи – не подмосковные гадюки. Проводники готовят кускус – блюдо из крошечных, как крупа, катышков теста с мясом и овощами. За чаем завязалась неторопливая беседа. Оба наших проводника живут в Гате, довольны городской жизнью («есть электричество, газ, водопровод, телевизор, дети ходят в школу, вечером можно пойти в кафе или кино»), но при этом тоскуют по пустыне, радуются, когда удается попасть туда. После ужина, когда все разошлись но палаткам, я еще какое-то время посидел у тлеющих углей, вслушиваясь в абсолютную тишину и любуясь черным силуэтом гор, проецирующихся на усыпанное звездами небо...
Последующие дни мы двигались по руслу реки, иногда углубляясь к ее притоки. Вокруг нас – мертвая молчаливая пустыня. Днем температура воздуха достигает 45-49° в тени.
В машине спасает включенный на полную мощность кондиционер. Но стоит только выйти из нее, как попадаешь под лучи солнца, огненным шаром висящего над головой. От раскаленных черных скал пышет жаром. Но и про жару забываешь при виде сотен, тысяч наскальных рисунков – немых свидетельств кипевшей здесь когда-то жизни...
Здесь и миниатюры, как будто перенесенные из музея, и наскоро сделанные наброски, и рисунки гигантских размеров, и целые панно с изображением сцен повседневной жизни, охоты, празднеств. Кое-где попадаются надписи туарегским алфавитом – тифинагом. Яхья перевести их не может: они на древнетуарегском языке, который так и не удалось расшифровать, даже с помощью компьютера.
Впрочем, многое понятно и без объяснений. Самые древние – рисунки, относящиеся к «эпохе охотников»: животные, которым требуется много воды – слоны, носороги, бегемоты, крокодилы, либо хищники: львы, пантеры, дикие кошки. Странно видеть их посреди нынешнего выжженного солнцем мертвого мира.

Поражает реалистичность петроглифов – большинство зверей изображено в беге, до того жизненно, что кажется, они вот-вот сорвутся со скал и умчатся вдаль. Проводники подводят нас к изображению разгневанного слона: уши растопырены, бивни выставлены вперед, хобот вытянут. На кого же он так разозлился? А, все понятно, напротив слона – носорог, замерший в боевой стойке, но в то же время явно пребывающий в нерешительности, опасающийся своего противника. На некоторых петроглифах попадаются и люди – с сетями, дубинами, копьями в руках. У многих надо лбом головы зверей. Яхья поясняет, что так маскировались, чтобы во время охоты проще было приблизиться к преследуемому животному. На более поздних рисунках преобладают животные саванны: начались изменения климата. По-прежнему много изображений слонов, но с ними уже соседствуют жирафы, антилопы, страусы. Много и домашних животных, особенно буйволов. Люди – охотники, вооруженные луками и стрелами, но уже встречаются и пастухи. На одной картине сцена охоты: выразительные фигурки длинноногих людей с изящными телами и круглыми головами. Они преследуют дичь и стреляют на бегу из луков. Один из них истратил все стрелы, но продолжает бежать вперед вместе с остальными. Вот только кожа у них не белая, как у коренных жителей Ливии – берберов, а черная.
В то время, поясняет Яхья, – здесь жили совершенно другие люди. Их называют «сахарскими эфиопами». Они были чернокожими. Но это были не негры. Совсем другая раса. А потом все они исчезли.
Изображения выполнены краской. И сохранились столько тысячелетий?
– Краску делали из растертых камней, – говорят проводники.
В доказательство Яхья находит на земле один такой «красящий камень» и проводит на скале несколько линии.
За восемь тысяч лет до новой эры начался новый период – «эпоха скотоводов». На рисунках масса бытовых сцен: женщины, занятые приготовлением пищи у соломенных хижин, мужчины с топорами, готовящиеся к рубке деревьев, дети, спящие на земле под покрывалами, группа сидящих кружком и беседующих людей. Вглядываемся в эти изображения со странным чувством сопричастности к тому, что происходило здесь много тысяч лет назад. С удивлением рассматриваю рисунок одной из собак – точная копия моей немецкой овчарки, оставшейся в Триполи.
3а две тысячи лет до н. э. на смену саванне приходит степь, а еще через тысячу лет – пустыня. На рисунках появляются повозки, лошади, а затем и верблюды. По-прежнему преобладают бытовые сцены – человек опустил свой лук на землю и снаряжает стрелы, еще один стрижет волосы другому, трое женщин занимаются укладкой причесок, воины собираются в поход, колдун с рогами на голове и приделанным сзади хвостом исполняет ритуальный танец. На одном из рисунков – поющие женщины.
– Смотрите, – говорит проводник, – они играют на тех же музыкальных инструментах, что и мы!
Но что это? Некоторые петроглифы замазаны, на других – контуры обведены мелом, на третьих – подтеки, оставленные минеральной водой.
Работа современных варваров?
Именно: некоторые рисунки даже украдены. Как объясняет Яхья, для этого на изображение накладывают материю, пропитанную специальным химическим составом, и картинка переходит со скалы на нее. С грустью думаю о том, что наскальные рисунки становятся добычей туристов. Ливийцы, естественно, борются с этим, и, как мне позже рассказали в Главном народном комитете по внешним связям и международному сотрудничеству, часть украденных изображений удалось с помощью Интерпола разыскать и вернуть.
Оказывается, нынешние варвары не только крадут. На одной из скал обнаруживаем изображения винтовых самолетов и старомодных вездеходов.
Проходим несколько шагов к очередным петроглифам и рядом с ними видим... изображение «летающей тарелки». Около нее стоит космонавт в скафандре, а перед ним упал ниц первобытный человек. Правда, сделан рисунок не краской, а «красящим камнем», да и стиль, отличный от стиля петроглифов, выдает его недавнее происхождение.
Впрочем, с некоторыми таинственными вещами мы действительно столкнулись. Скажем, изображение двух странных сумчатых животных с короткими передними лапами, длинными задними и мощным хвостом. Яхья утверждает, что это – кенгуру.
– Ой-ли? – сомневаемся мы.
Животные и впрямь похожи на кенгуру, но держатся почему-то не вертикально, а горизонтально.
– В Сахаре много загадочных животных. Например, в водоемах Тассили и Ахаггара я сам видел крокодилов вот таких размеров, – Яхья разводит руки сантиметров на сорок. – Но это – самые настоящие крокодилы с зубами, лапами, хвостом.

Признаться, я ему не поверил, но затем уже в Москве в книге профессора Алжирского университета Р. Капо-Рея с удивлением прочел, что, действительно, в озерах алжирской Сахары водятся карликовые крокодилы, сумевшие приспособиться к изменившемуся климату. На привале проводники рассказывают:
– К северу от Акакуса находится горный массив Идинен. Это – обитель духов. Однажды одно из наших племен проникло туда, но исчезло бесследно. Исчезли все – мужчины, которые были смелыми воинами, женщины, дети, верблюды. С тех пор туареги не поднимаются на Идинен. Они знают, что духи этого не простят.
Мы с недоверчивым интересом выслушиваем сказку. Позже в городе узнали, что в 1850 году немецкий путешественник О. Барт, забравшийся в эти горы – куда проводники отказались его сопровождать, – заблудился и чуть не погиб от жажды.
Удивительно: Идинен (он виден с шоссе Себха – Гат) – относительно небольшой массив и невозможно представить, как там можно заблудиться. Ведь даже если у Барта вышел из строя компас, он мог ориентироваться по солнцу, сияющему на всегда безоблачном небе. Но вот же – заблудился...
И еще одна странная вещь. Утром после первой ночевки в пустыне вижу, что оба моих спутника проснулись какими-то отрешенными, погруженными в свои мысли. Разговор за завтраком явно не клеится. Наконец, самый молодой из нас – Воропаев говорит, что ему всю ночь снились огромные деревья, полноводные реки, долины, покрытые высокой травой.
– Странно, – отвечает ему второй член нашей экспедиции – Власов, – я ведь видел во сне то же самое.
Приходится признаться, что и у меня были аналогичные сновидения. На последующих стоянках все повторяется: днем солнце разгоняет видения, но с его заходом они возвращаются. В чем здесь дело, мы так и не поняли. То ли это естественная для нас, северян, реакция на пустынные ландшафты или просто не имеющее значения совпадение. А может быть, это влияние ауры Акакуса, и мы во сне видим его таким, каким он был когда-то?
На одном из рисунков обнаруживаем группу идущих гуськом людей в белых плащах, обутых в сандалии, со страусовыми перьями на головах. Неужели, это..? Огибаем уступ и останавливаемся пораженные. На скале изображена колесница. Распластавшаяся в беге четверка коней, возница, хлещущий их кнутом; задние колеса повозки, быстро набирающей скорость, оторвались от земли. Сомнений не остается. Да, это – гараманты, жители загадочной Гарамантиды – царства, прекратившего свое существование более тысячи лет тому назад.
Происхождение гарамантов неизвестно, но, видимо, они были одним из таинственных «народов моря», вторгавшихся в Северную Африку в XV – XII веках до н. э. В VIII веке гараманты объединили под своей властью весь Феццан и часть Триполитании, основав государство, превышавшее по площади Римскую империю. Через Гарамантиду проходили караванные пути, связывающие Северную Африку с Тропической. От сборов с караванов, налогов на пальмы, соль и на торговлю на рынках, а также от государственных монополий царство ежегодно получало средства, сравнимые с бюджетом некоторых из современных африканских государств. Ни персы, ни греки, ни карфагеняне не смогли покорить гарамантов, обладавших сильной, специально приспособленной для действий в пустыне армией, сформированной из кавалерии и колесниц. В ее состав входили отряды следопытов, инженерные подразделения, обученные засыпать колодцы; части, предназначенные для действий в тылу противника. Лишь римляне, да и то после войны, продолжавшейся почти сто лет, смогли в 21 году до н. э. занять столицу царства – Гараму. После этого Гарамантида признала себя вассалом Рима. Однако в IV веке – уже нашей эры – после гибели Римской империи она вновь обрела независимость. Но на короткое время, пав в VII веке под ударами вторгнувшихся в Феццан арабов. Оттесненные на юг гараманты смешались затем с берберами и стали родоначальниками туарегов кель-аджер. К этому племени, между прочим, принадлежат и наши проводники.
Развалины Гарамы, что около оазиса Джерма, сохранились плохо: как ни редко идут в Сахаре дожди, они за тысячу лет размыли глинобитный город.
Обогнув Акакус с юга, наши машины поворачивают на север. Мы разбиваем палатки у подножия гор.
Перед нами расстилается бесконечная, молчаливая, грозная Сахара – три тысячи километров до самого Нила. Три тысячи километров эргов, хамад, камней, песка, горных массивов. Простор и безмолвие. А мы песчинки, затерянные в бесконечности.
На следующий день на горизонте возникает радующее глаза зеленое пятно – оазис Увейнат. После черно-желтого безмолвия наслаждаемся видом пальм, высоких деревьев, шорохом листьев и пением птиц. Пришло время прощаться с проводниками. Мы делили с ними радости и тяготы поездки, вместе вытаскивали застрявшие машины, разбивали палатки, готовили пишу. Мы свыклись друг с другом, и нам не хочется расставаться. Но наши пути расходятся. Им предстоит вернуться в Гат, а нам – в Триполи, к повседневной работе. Неожиданно Яхья засовывает руку в карман своей гандуры и протягивает мне каменный наконечник стрелы.
...Глядя на него, я теперь каждый раз вспоминаю залитый ярким солнцем мертвый мир Акакуса. Я тоскую по феерическим пейзажам Сахары.
Я отведал дурмана пустыни – манящей и затягивающей в глубину как бездонный омут.
Алексеи Подцероб,
кандидат исторических наук / фото автора
Ливия
Загадки, гипотезы, открытия: Лестница иероглифов

«Туннель был тесным. Дышалось с трудом. Освещение никуда не годилось. Здорово пришлось помучиться», – вспоминал Николай Грубе, известный немецкий знаток культуры майя. Но теперь, когда все это позади, можно с улыбкой рассказывать о темноте, жаре, крохотном лазе. Главное сделано. Вместе с американкой Линдой Шеле, специалисткой по расшифровке иероглифов, Грубе проник под «акрополь» (укрепленную часть) города Копана на территории современного Гондураса и спас от забвения одну из страниц истории этого древнего города-государства, лежащего на юге страны майя.
Потаенный храм
Подземная часть Копана испещрена траншеями и туннелями, словно швейцарский сыр – дырками. Ради чего же мучился доктор Грубе, пробираясь по тесному подземному туннелю? Тогда ему нужна была ступень лестницы. Всего одна лестничная ступень. На ней едва проступали иероглифы: время сильно разрушило надпись. Ее предстояло расшифровать. (У индейцев майя существовала словесно-слоговая иероглифическая письменность, Она известна по памятникам первых исков пашей эры и существовала до запрещения ее испанской церковью в XVI пеке. Расшифрована частично в 50-60-х голах советским ученым Ю. В. Кнорозовым. – Прим. ред.)
Сама же лестница была частью древнего храма, который находился внутри другого, огромного сооружения, спрятавшись за его массивными стенами – как одна матрешка в другой. Около 1300 лет назад строители майя аккуратно засыпали небольшой храм песком и выстроили над ним новую культовую пирамиду – у археологов она числится под названием «Храм-16». Не стоит удивляться тому, что майя захоронили свой старый храм; многие величественные здания той эпохи сооружены именно по такому принципу: их возводили над старинными постройками, и в наши дни эти сооружения можно «очищать словно луковицу».

Обнаружили же потаенный памятник лишь в 1992 году. Гондурасский археолог Рикардо Агурчиа обследовал «Храм-16». Рабочие, помогавшие ему, для чего-то пробили отверстие в одной из внутренних стен храма. Образовался лаз. Выбравшись из низко нависшего туннеля, люди увидели громадную стену высотой метров двенадцать. Это был фасад древнего храма. Он переливался голубыми, красными, желтыми красками. Ученые окрестили это скрытое от всех строение «Розово-лиловым храмом». Фасад украшала огромная – высотой более двух метров – маска верховного божества майя (изображали его в виде птицы).
Виднелись многочисленные, прекрасно сохранившиеся орнаменты. Тогда же была обнаружена и надпись на одной из ступеней парадной лестницы «Розово-лилового храма». Но прочитать ее археологи, конечно, не сумели...
Шеле и Грубе целыми днями просиживали перед загадочной надписью. В туннеле было так тесно, что непосредственно перед ступенькой мог уместиться лишь один человек. «Мы работали по очереди, и тот, кто работал, сообщал результаты другому, оставшемуся у него за спиной, а он уже заносил эту информацию в компьютер, который мы притащили с собой, и обрабатывал ее», – вспоминает Грубе.

Работа была долгой и утомительной. Приходилось срисовывать слабозаметные черточки иероглифов, освещая их карманным фонариком. Затем ученые пытались соотнести зарисованные знаки с уже известными иероглифами и старались восполнить очевидные лакуны – поврежденные участки надписи. В конце концов, удалось разобрать эти загадочные символы, гласившие, что «Розово-лиловый храм» был освящен царем по имени Тцик Балам, то есть «Прославленный Ягуар», в 557 году н. э. Имена майя часто кажутся странными. Однако ошибки тут нет: археологи распознали в этих иероглифах имена еще в ту пору, когда письменность майя оставалась неразгаданной.
Записи свидетельствовали о том, что Тцик Балам тоже возвел свой «Розово-лиловый храм» над другим сооружением – где, возможно, был погребен основатель династии царей Копана. Целых два столетия «Розово-лиловый храм» оставался святилищем – по тамошним меркам необычайно долго. Этим объясняется его археологическая ценность. Кстати, раскапывая храм, археологи тоже поступили весьма необычно. Очистив «Розово-лиловый храм» от насыпанной на него земли, они не стали разбирать скрывавшую его наружную постройку. Храм остался внутри храма – словно в пещере. Вокруг него можно разгуливать, его можно осматривать со всех сторон. Правда, только специалистам. И вес же простые смертные тоже могут полюбоваться погребенным храмом майя, отправившись в новый музей, открытый в Копанс. Там, по слепкам, сделанным с оригинала, храм воссоздан с поразительной точностью – повторены и маски, и элементы лепного орнамента, украшавшие подземный прототип.

Тем временем археологи продолжают раскапывать недра «Храма-16». В 1996 году они расчистили основание «Розово-лилового храма». Оно оказалось гораздо шире, чем ожидалось: 10 на 15 метров. Рядом, на этом постаменте, были сооружены еще два небольших храма. Кстати, уже без лепного орнамента: все украшения вытесаны из камня. Почему майя отказались от своего традиционного искусства? На протяжении нескольких столетий майя выделывали лепные украшения из особой пластической массы, в состав которой входили гипс, известь, песок и вода. На обжиг известняка уходило немало дров. «Древние майя изрядно нагрешили, они нанесли огромный экологический ущерб, вырубив леса на обширной территории. Вокруг крупных городов не осталось ни единого деревца, леса перевели на дрова», – критически заметил Грубе.
Итак, майя не могли украсить лепниной даже храмы, построенные, видимо, одновременно с «Розово-лиловым». Значит, уже в VI веке леса в окрестностях Копана – в раскинувшейся здесь долине – были полностью сведены. Таким образом ученым удалось установить, что примерно в это время в стране майя разразилась экологическая катастрофа.
Люди гибнут за нефрит
Политическая катастрофа наступила позже – через два столетия. 29 апреля 738 года властитель соседнего государства Киригуа пленил тринадцатого правителя Копана. С воцарением нового правителя времена блестящих, пышных царствований в Копане закончились. Поражение было тем более обидным, что могучую метрополию сокрушил ее же собственный вассал. Об этой дате исследователи также узнали, расшифровывая древние иероглифы.
И опять – на ступенях лестницы. Но огромной, специально построенной одним из правителей «Лестницы иероглифов». На ее 56 ступенях отчеканена в камне вся история царей Копана. Здесь более 2000 иероглифов. Часть из них уже расшифрована.
...История Копана начинается с появления здесь царской династии в 426 году. Яке К' ук' Мо, посланный правителем древнего Тикаля, города-государства майя, за сотни километров от столицы в глубину джунглей на поиск новых земель, забрел в долину Копана. Здесь он и основал свою династию – воздвиг «семейные пенаты» и учредил культ бога-покровителя его собственной семьи. Об этом также сообщает надпись, высеченная на камне.

Копан лежал в плодородной речной долине, где столетиями селились крестьяне, возделывавшие кукурузу. Царский город быстро разрастался. Недаром археологи окрестили его «Парижем майя»: люди стекались сюда со всех окрестных мест. Во многом процветание городу обеспечило то, что его власти контролировали крупное месторождение нефрита в долине Мотагуа. Для майя нефрит был ценнее золота: из него изготавливали маски и украшения, восхищающие нас и сегодня. Однако постепенно усилились и правители городка Киригуа. Им было сподручнее контролировать места добычи нефрита; к тому же власти Киригуа держали в своих руках и важный торговый путь. проложенный к Тихому океану.
В конце концов, как мы уже знаем, правители Киригуа все-таки победили. Победу воспрявших вассалов восхваляли хвастливые алтари и стелы. Копан сразу же превратился в заурядное, незначительное государство. Эпоха единоличного правления в Копане прошла. Один из последних царей Копана Яке Пас, следуя известному девизу – «Делиться лучше властью, чем головой», – уступил часть царских полномочий своим собственным братьям, В годы его правления даже представители сословия писцов – невиданное дело! – стали устанавливать стелы в свою честь...
Подобная смелость низов не просто знаменовала кризис – она свидетельствовала о стремительно нараставшем распаде державы. Речная долина давно уже была застроена дворцами и храмами. Крестьяне, растившие кукурузу, были оттеснены на склоны холмов, теперь сплошь покрытых полями. Лес вырублен. В довершение всех бед, по-видимому, произошел религиозный раскол, резко разделивший общество.

Конец истории города четко документирован. Каменный Яке Пас восседает на алтаре напротив последнего властителя Копана – У Кит Ток'а. На монументе, созданном в честь возведения на трон, указана дата: 6 февраля 822 года. Это – последняя дата, что значится в истории Копана. На обратной стороне статуи художник начал вырезать рельеф, но он так и остался неоконченным...
«Причиной внезапной катастрофы, – ставит диагноз Николай Грубе, – не могла быть эпидемия, скорее всего, дело в каких-то социальных потрясениях – быть может, здесь произошло восстание. Несомненно, имела место некая стремительная, насильственная развязка. Она и положила конец династии царей города Копана».
Раскопки в Копане продолжаются. В 1997 году пришло сообщение о том, что под «Розово-лиловым храмом» археологи отыскали самый древний храм. В нем, по предположениям ученых, должна была находиться могила основателя династии – Яке К' ук' Мо. Однако подступиться к ней было непросто: оказалось, что захоронение заполнено до краев ртутью.
И вес же, облачившись в защитные костюмы, ученые вскрыли залитую ртутью могилу. И вновь неожиданность: они обнаружили останки женщины, а не мужчины. Быть может, это – жена основателя династии? Вскоре под ее останками обнаружилось новое захоронение. В нем погребен был мужчина. Все говорило о том, что покойному были оказаны очень высокие почести. Возможно, найдено место погребения первого царя Копана.
Да упокоится душа его в парах ртутных...
По материалам иностранной печати
подготовил Александр Волков








