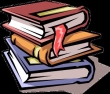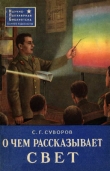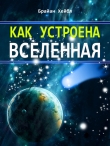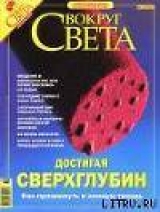
Текст книги "Журнал "Вокруг Света" № 10 за 2004 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Зоосфера: Закрытая жизнь

Деревня, где я гостил летом, изнывала от зноя. Вот уже почти три месяца, с самого апреля, не было дождя. Стрелка нашего старомодного барометра прилипла к надписи «Великая сушь». На разбитой трещинами земле выгорела последняя трава, сирень, растущая в палисаднике, склонилась в мольбе о влаге, а некогда полноводный деревенский пруд превратился в грязноватую лужу. В воздухе висели пыль и гарь от лесных пожаров, солнце кровавой кляксой ползало по небу.
Однажды поутру из соседского дома вышел заспанный мужик. Провел рукой по пожухлой траве, произнес загадочное слово «сухорос», поскреб пятерней небритый подбородок и с надеждой посмотрел на небо – отсутствие утренней росы в деревне считалось верным признаком близкого дождя.
Однако лишь к исходу дня небо на востоке вдруг потемнело, в иссиня-черных облаках замелькали багровые зарницы и упругий, резкий ветер разом надул зеленые паруса деревьев. Тяжеленное тело исполинской тучи заслонило весь горизонт и медленно двинулось на село. Уже над прудом из нее вывалилась какая-то слоновья нога, которая, потоптавшись на месте, вдруг ринулась прямо на наш дом. Мгновение спустя чудовище, висящее в воздухе, поджало свою ногу, и с неба вдруг посыпались комья грязи, ветки, палки, листья и… улитки. Улитки падали, словно град, грохоча по крыше, приземляясь во дворе, огороде, саду. Ветер еще не стих, а я уже кинулся рассматривать нежданный «дар небес». Улиток было великое множество – разных форм, размеров и расцветок, в одночасье я стал обладателем неплохой коллекции брюхоногих моллюсков, которую легко было пополнять, не выходя за пределы двора своего дома. Наш пруд и его окрестности, по которым прошелся смерч, оказались обиталищем многочисленных видов улиток. Каких только моллюсков не принесло ураганом – здесь были и крошечные гидробии, чьи башнеобразные раковинки едва достигают высоты 4—5 мм, и непременные жители наших стоячих водоемов – лужанки с их невероятно красивым темным телом, усыпанным золотисто-коричневыми точками, и встречающиеся повсеместно в огромных количествах на водной растительности битинии, и небольшие аплексы, чей век измеряется лишь годом. Чаще всего мне попадались прудовики, наверное, одни из самых известных наших улиток, распространенных по всему свету. Эти моллюски, которых можно встретить среди зарослей кувшинок и лилий, неизменно привлекают к себе внимание благодаря крупным размерам своих раковин, достигающих длины 70 мм.
Когда я уже набрал изрядное количество разнообразных моллюсков, мое внимание привлекла внушительных размеров улитка, тихонько ползущая к соседскому забору. Я пригляделся повнимательнее – передо мной была виноградная улитка – жительница Южной Европы, Северной Африки и Передней Азии. У нас в России этого моллюска можно встретить на южных окраинах страны. В средней полосе виноградная улитка – в общем-то, редкость. Поэтому я, позабыв обо всех своих находках, тотчас занялся нежданной пришелицей. Никаких сомнений быть не могло – округлая, закрученная в 4,5 оборота, почти шаровидная раковина, желтовато-коричневого цвета, с широкими коричневыми полосами, идущими вдоль завитков, выдавала в моллюске виноградную улитку. Интересно, что на раковине моей улитки была какая-то отметина, напоминавшая белую запятую. Я посадил эту удивительную гостью в отслужившую свой век пластмассовую ванну, создав для улитки все необходимые условия – на дно емкости положил влажную землю, в одном из уголков устроил небольшой водоем, а в другом – горку из кусочков известняка, которая должна была послужить для моллюска не только убежищем, но и постоянным источником столь нужного при строительства раковины кальция.
Благодаря моему энтузиазму виноградная улитка вскоре стала объектом повышенного внимания всех домочадцев. Наблюдать за ней оказалось весьма любопытно. Большую часть дня улитка пряталась в раковине среди обломков известняка, а с наступлением сумерек выходила на кормежку. Аппетит у нее был отменный – улитка не брезговала самыми разными растениями, которые я предлагал ей в качестве пищи, но особенно по вкусу ей пришлись кусочки яблок и огурцов. Вооружившись лупой, я с интересом следил за тем, как моллюск поглощает пищу. Язык улитки снабжен радулой – своеобразной теркой, которая усажена многочисленными хитиновыми зубчиками. При помощи этого аппарата улитка соскребывает пищу, которую затем проглатывает. «Хитиновый язык» способен справиться с весьма твердыми продуктами, поэтому улитка может себе позволить существенно разнообразить свое меню. Живя в своем террариуме, улитка демонстрировала чудеса эквилибристики – забиралась на отвесные стены, ползала по стеклу, которым я накрыл ее жилище, а однажды едва не отправилась в бега, сдвинув неплотно прилегающую стеклянную крышу.
По возвращении в Москву я купил для своей улитки пару. Осенью с наступлением холодов все улитки впадают в спячку. Выкопав мускульной ногой ямку в почве, улитка забирается под землю, прячется в раковину и закрывает ее специальной крышечкой. До весны моллюск впадает в оцепенение, при этом сокращается число сердечных пульсаций, замедляется обмен веществ. В теплой московской квартире, однако, все эти хлопоты оказались лишними – мои улитки бодрствовали всю зиму, а ранней весной им предстояло позаботиться о продолжении рода.
Любовная игра улиток оказалась весьма интересным зрелищем. Едва первые лучи мартовского солнца пробились сквозь облака, поведение улиток изменилось. Они медленно ползали, подолгу замирая на одном месте, приподнимая голову, словно разыскивая кого-то. Наконец встретившись, улитки вытянулись друг против друга, соприкоснувшись подошвами, и начали ощупывать друг друга своими рожками. При этом их «объятия» становились все теснее, потом они упали и оставались недвижимы почти полчаса. Затем все повторилось вновь и вновь. Лишь спустя три часа улитки расползлись в разные стороны. А через некоторое время они вырыли во влажной земле террариума ямки и отложили в них яйца – несколько десятков небольших заключенных в скорлупу шариков.
Чтобы родители не съели свое потомство, я отсадил взрослых улиток в приготовленный для них ящик. А уже через четыре недели в террариуме появились вполне самостоятельные крошечные улитки, которые стали быстро осваивать свое жилище. В эти дни я был так поглощен прибавлением в улиточной семье, что совсем позабыл о взрослых улитках, чей ящик стоял на подоконнике. Однажды, придя домой, я увидел, что стеклянная крышка ящика немного приоткрыта. Заглянув внутрь, я обнаружил там только одного моллюска – улитка с белой «запятой» на раковине отсутствовала, а серебристый след, тянувшийся по подоконнику, уходил к открытому окну…
Валерий Дмитрий
Загадки истории: Молот ведьм

Тема охоты на ведьм вызывает множество вопросов: существовал ли в действительности организованный культ служителей дьявола? Что именно вменялось в вину предполагаемым ведьмам? Какие психологические механизмы лежат в основе веры в колдовство? Как начались и почему неожиданно прекратились суды над ведьмами?
3 ноября 1324 года в Килкенни, Ирландия, была отлучена от церкви и сожжена заживо Петронилла де Митс – служанка состоятельной дамы Алисы Кайтелер. Этой казнью завершилось преследование Алисы Кайтелер епископом Оссорским, Ричардом де Ледреде, который в начале 1324 года выдвинул против нее сразу несколько обвинений: в отречении от Господа и католической церкви; в попытках узнать будущее через демонов; в связи с «демоном одного из низших классов ада» и принесении ему в жертву живых петухов; в изготовлении магических порошков и мазей, с помощью которых она якобы умертвила трех своих мужей и собиралась проделать то же с четвертым.
Леди Алиса была достаточно влиятельной, чтобы противостоять епископу, но все же ей пришлось переехать в Англию. Тогда «козлом отпущения» в этой истории стала ее служанка. И хотя под поркой Петронилла де Митс созналась во всем, что хотел услышать епископ: в посещении ночных оргий, принесении жертв демону, а также в том, что ее госпожа – искуснейшая из ведьм, – несчастную это не спасло.
Эта история стала одной из первых в печально известной охоте на ведьм, продлившейся несколько столетий и унесшей жизни, по разным оценкам, от 60 до 100 тысяч человек. Правда, в XIV веке колесо только раскручивалось и казни были относительно редкими. «Большая охота» началась в середине XVI века и продлилась примерно 200 лет – на этот период приходится около 100 тысяч процессов и 50 тысяч жертв. Своего апогея ведовская истерия достигла в Германских государствах, Швейцарии, Франции и Шотландии, в меньшей степени затронув Англию, Италию и Испанию, и почти не коснулась Восточной Европы и России. Лишь несколько процессов было в Америке, самый известный пример – Салемские события 1692—1693 годов.
Охота на ведьм многими воспринимается как символ «мрачного Средневековья», но, как видим, ее разгар приходится вовсе не на «безмолвные века», а на начало нового времени – на XVII и даже XVIII века. Кажется непостижимым, но людей сжигали во времена Ньютона и Декарта, Канта и Моцарта, Шиллера и Гете! Сотни тысяч «ведьм» пошли на костер в век научной революции, а среди судей были профессора университетов. Об охоте на ведьм историческая наука до недавнего времени знала очень мало, даже число жертв этой идеологической чумы не было известно. Лишь в последние десятилетия благодаря систематической кропотливой обработке судебных документов, монастырских и муниципальных архивов удалось воссоздать приблизительную картину событий.
Как все начиналось
Существует несколько версий относительно возникновения массовых ведовских процессов, ни одну из которых, впрочем, нельзя считать исчерпывающей. По одной версии, охота на ведьм стала лишь продолжением практики искоренения ересей. Сторонники этой точки зрения утверждают, что инквизиция воспринимала ведьм как членов организованной сатанинской секты, и относят начало охоты на них к XII веку, когда появляются сведения о секте катаров. XI—XII столетия, как известно, стали временем расцвета еретических движений богомилов, альбигойцев и вальденсов, и католическая церковь отреагировала на это созданием в 1215 году специального органа – папской инквизиции – для розыска и наказания еретиков. Однако инквизиция отнюдь не ставила своей целью уничтожение ведьм. Она преследовала подозреваемых в колдовстве лишь в случае их причастности к еретическому движению. При этом весьма высок был процент оправдательных приговоров.
В соответствии с другой точкой зрения, ведьмы преследовались как некий фантомный «внутренний враг» наравне с другими изгоями, прежде всего евреями и прокаженными. Действительно, еще в XI веке появляются первые гетто для евреев в Германии и начинаются их массовые убийства в Испании. В 1179 году во Франции издается закон против прокаженных и гомосексуалистов. В конце XII века из Франции изгоняются евреи. И, наконец, в XIV веке в этой же стране происходят массовые убийства прокаженных. Но такие сопоставительные ретроспекции не проясняют причин массовой охоты на ведьм, развернувшейся многим позже перечисленных событий.
Существует и психоаналитическая интерпретация ведовских процессов, согласно которой они представляли собой массовую мисогонию – войну мужчин против женщин. Эту версию выдвинул французский историк Жюль Мишле, опубликовавший в 1929 году книгу «Ведьма и женщина». Эта оригинальная интерпретация и поныне вдохновляет идеологов феминистского движения. Но утверждать, что ведовские процессы были «женским холокостом», мешают два исторических факта – среди осужденных в колдовстве было около трети мужчин (а в Нормандии и Скандинавии даже подавляющее их большинство), а обвинителями очень часто выступали именно женщины.
По самой курьезной из версий, охота на ведьм была следствием массового психоза, вызванного стрессами, эпидемиями, войнами, голодом, а также более конкретными причинами, в числе которых наиболее часто упоминается отравление спорыньей (плесенью, появляющейся на ржи в дождливые годы) или атропинами (белладонной и другими растительными и животными ядами). Однако принять эту версию мешает длительность эпохи преследования ведьм и очевидная бюрократичность, даже рутинность процессов. Кроме того, тогда придется признать, что расстройством сознания страдали не измученные голодом и стрессами крестьяне, а ученые демонологи и судьи: историки доказали, что рассказы о полетах на шабаш и других невероятных вещах, якобы вызванные галлюцинациями, были не фантазией обвиняемых, а всего лишь ответами на прямые вопросы следователей, добивавшихся с помощью пыток подтверждения своих собственных представлений о том, что и как должны делать ведьмы.
Наконец, согласно одному из самых убедительных объяснений, распространению ведовской истерии способствовало появление демонологических ученых трактатов – инструкций по поиску и искоренению ведьм. Они базировались на авторитете Ветхого завета: «Ворожеи не оставляй в живых», – гласит книга Исхода (22:18). Одно из самых влиятельных руководств такого рода – знаменитый «Молот ведьм» монахов-доминиканцев Якоба Шпренгера и Генриха Инститориса – было издано в 1487 году по поручению папы Иннокентия VIII. В последующие 200 лет этот трактат выдержал 29 изданий и использовался для формализации судебных допросов. В XVI – начале XVII века появляется много изданий такого рода – «Демономания» Жана Бодена, «Демонология» короля Якова I Стюарта, «Демонолатрия» Николя Реми. Тон этих сочинений выдает глубокое внутреннее напряжение, которое находило выражение в конструировании кошмарной вселенной, где свирепствуют и предаются разгулу дьявольские силы. Из трактатов ученых демонологов в сердца и умы читающей публики постепенно проникал образ дьявольской служанки – ведьмы.
Образ ведьмы
При слове «ведьма» обычно представляют безобразную старуху (которая, впрочем, способна представляться прекрасной женщиной) с нечесаными волосами, редкими зубами и пронзительным взглядом, окруженную кошками и другой мелкой живностью. С помощью нечистой силы она вредит своим соседям, насылает болезни и смерть на людей, отбирает молоко у коров, вызывает непогоду, засуху и моровые поветрия, варит зелья, оборачивается разными животными и предметами, по ночам летает на метле или козле на ведовской шабаш – сатанинские оргии. Этот образ восходит отчасти к европейскому фольклору, отчасти – к творчеству демонологов начала нового времени. На многих картинах и гравюрах XVI—XVIII веков (от Питера Брейгеля-старшего и Альбрехта Дюрера до Франсиско Гойи) изображен один и тот же сюжет: обнаженные женщины, молодые и старые, в окружении магических книг, черепов, змей и жаб варят в котлах свое отвратительное зелье либо на козлах, собаках и ухватах летят на ночное сборище.
Образ ведьмы в трудах теологов XV—XVII веков формировался на основе древнего наследия – в образе злокозненной распутницы угадываются черты ветхозаветной Лилит, античной богини Дианы, Цирцеи, превратившей в свиней спутников Одиссея, Медеи и женских персонажей поэм Вергилия и Горация. Добавлением к этому образу стало новое истолкование необычных способностей ведьмы. Идея о том, что некоторые люди обладают сверхъестественными способностями, универсальна для всех народов Земли. Но в Европе позднего Cредневековья эти способности стали ассоциироваться с дьяволом – считалось, что ведьма приобретала свои умения в обмен на бессмертную душу. В результате на теле ведьмы якобы появлялась «дьявольская отметина» – неприметное пятнышко, нечувствительное к боли. Поиск этого пятнышка стал одним из стандартных следственных действий во время ведовского процесса. Другим «тестом» было испытание водой – предполагалось, что ведьма даже со связанными руками не тонет, потому что ей помогают ее домашние демоны и сам патрон. Стойкость на допросах, нежелание признаваться в злодеяниях тоже считались показателями ее нечеловеческой природы.
В глазах же европейских крестьян образ ведьмы был несколько иным – это не обязательно была женщина, главным был не пол, а внешность и поведение человека. Люди с физическими недостатками, одинокие, нелюдимые, злые и сварливые, пренебрегающие нравственными нормами или внезапно разбогатевшие, – вот кто рисковал приобрести репутацию ведьмы или колдуна. С ними уживались и даже старались обходиться как можно более вежливо, чтобы не навлечь на себя их гнев. Но как только что-нибудь случалось – ведьме угрожали, заставляли забрать назад порчу, даже били и царапали до крови (считалось, что это может снять заклятие). Не связь с дьяволом, не ночные полеты, а именно вредоносные действия ведьмы, колдовская порча – так называемая maleficia – пугали крестьян.
Вопреки распространенному стереотипу образ ведьмы как тайного врага, опасного для всего общества, более характерен не для католических, а для протестантских общин с их борьбой за идеологическую чистоту и категорическим отвержением всего, хоть отдаленно напоминающего магию. Католическая церковь более спокойно относилась к деревенским знахарям, она мирилась с существованием дьявола и его слуг, адаптируя таким образом дохристианские представления. В самом католичестве было много магии, клир и монастыри предлагали прихожанам и паломникам разные средства для чудесных исцелений и защиты от ведьм. Реформация отменила и эти средства, и мир в отношении всех инакомыслящих, будь то паписты или ведьмы. Инквизиция приговаривала ведьм к сожжению не за магию, а за ересь – договор с дьяволом и службу ему, протестанты же были гораздо более радикальны.
Было ли что-либо подобное в православии? Американская исследовательница Валери Кивельсон полагает, что ведовская истерия не коснулась России во многом из-за особого отношения к человеческому телу в восточном христианстве в отличие от католичества и тем более протестантизма. Хотя православие унаследовало иудео-христианское представление о женщине как сосуде греха, оно не приняло идеи падения Адама и первородного греха как основы христианского учения. Последствия были огромны: если для католицизма грехи плоти – основной порок и причина падения мужчины, а протестантизм относится к плоти как к косному «носителю» души, то в православии плоть воспринимается не как неизбежное зло, а скорее как благо, освященное воплощением Спасителя. Восточные теологи были меньше поглощены идеей греховности плоти, чем их западные коллеги, и, соответственно, женщина как телесное существо беспокоила и пугала православных христиан меньше. В России не было теологической теории колдовства, и оно не было окрашено в сексуальные тона. В ходе русских колдовских процессов о дьяволе, этом патроне западных ведьм, речь заходила очень редко.
Важно и то, что в России уголовное законодательство в отношении колдовства в допетровскую эпоху не было развито, а Петр I своим указом 1715 года против кликуш, обычных обвинителей колдунов, раз и навсегда перекрыл канал доносов. Православные священники были осторожны в своих проповедях на тему колдовства и порчи, в которые, безусловно, верили русские крестьяне и горожане, и стремились препятствовать народным самосудам над колдунами. К тому же православие не испытало того глубокого кризиса, который вылился на Западе в Реформацию и привел к затяжной эпохе религиозных войн.
Франция была одной из первых стран, где охота на ведьм началась уже в первой половине XIV века, при папе Иоанне XXII. В 1390 году состоялся первый светский процесс по обвинению в колдовстве. С начала XVI века суды становятся массовыми, а на период 1580—1620 годов приходится настоящая эпидемия колдовской истерии. В середине XVII века парламент Парижа начинает отклонять дела о колдовстве, но последний ведовской костер во французской столице горел и совсем незадолго до гильотин буржуазной революции конца XVIII века.
Испанская инквизиция активно боролась с еретиками, но от охоты на ведьм Испания пострадала меньше других стран Европы. Наказания суда инквизиции были даже легче, чем у светских судов! Первая казнь ведьмы в этой стране датируется 1498 годом, а последние наказания за колдовство (две сотни ударов розгой и 6-летнее изгнание) – 1820 годом. В Англии закон против колдовства был принят в 1542 году, причем пытки были запрещены, а ведьм казнили через повешение. После 1682 года ведьм уже не казнили, 1712-м датируется последнее официальное обвинение в колдовстве, а в 1736 году, впервые в Европе, соответствующая статья закона была отменена. Жертвами охоты на ведьм стали около тысячи жителей Англии. В Германии, эпицентре ведовской паники, эта охота унесла жизни десятков тысяч человек.
Законы против колдовства, входившие в Каролинский кодекс 1532 года, предусматривали пытки и смертную казнь, а самым распространенным способом казни было сожжение заживо. Массовые процессы начались здесь во второй половине XVI века, под влиянием Реформации и Тридцатилетней войны, а последний приговор за колдовство был вынесен в 1775 году. Шотландия занимала второе место после Германии по жестокости процессов над ведьмами. Начавшись довольно поздно, в конце XVI века, особенно интенсивной охота на них стала со времени правления короля Якова VI Стюарта (в 1603 году он стал королем Англии под именем Якова I). Наибольшие волны преследований пришлись на 1640—1644-е и 1660—1663-е годы. Последняя ведьма в Европе была казнена в 1782 году в Швейцарии.
Эффект «снежного кома»
Большую роль в превращении единичных процессов в массовые сыграли изменения в законодательстве – под влиянием папских булл XIV—XV веков в светские уголовно-судебные уложения попадают описания следственных методов инквизиции и статьи о наказании за колдовство. Колдовство признавалось исключительным преступлением – crimen exeptum. Это означало неограниченное применение пыток, а также то, что для вынесения приговора было достаточно доносов и показаний свидетелей. Пытки порождали эффект «снежного кома» – обвиняемые выдавали все новых и новых сообщников, с которыми якобы встречались на шабашах, и число осужденных росло в геометрической прогрессии. Так, например, в Салеме, небольшом городке, в котором насчитывалась всего сотня домовладений, за два года процессов было осуждено 185 человек.
Особенно интенсивными ведовские процессы были на территориях, затронутых Реформацией. Восприняв как догму демонологические построения своих политических противников, протестантские наставники стали своими силами бороться с «посланниками ада». «Колдуны и ведьмы, – писал Мартин Лютер, – суть злое дьявольское отродье, они крадут молоко, навлекают непогоду, насылают на людей порчу, силу в ногах отнимают, истязают детей в колыбели… понуждают людей к любви и соитию, и несть числа проискам дьявола». И вскоре в лютеранских и кальвинистских государствах появились собственные, более суровые законы о колдовстве (например, был отменен пересмотр судебных дел). Пытаясь расколдовать мир, протестантские теологи породили массовую паранойю.
Так, в саксонском городе Кведлинбурге с населением в 12 тысяч человек за один только день 1589 года были сожжены 133 «ведьмы». В Силезии один из палачей сконструировал печь, в которой за 1651 год сжег 42 человека, включая двухлетних детей. Но и в католических землях Германии охота на ведьм была в это время не менее жестокой, особенно в Трире, Бамберге, Майнце и Вюрцбурге.
Свободный город Кёльн помнит ведовскую панику 1627– 1639 годов, когда было уничтожено около тысячи человек. В Теттванге (Вюртемберг) в 1608 году почтенный отец семейства умер в тюрьме от пыток, его жену истязали 11 раз, пока она не призналась. А их 12-летнюю дочь в течение целого дня пытали с такой жестокостью, что сам палач только через десять недель решил, что она достаточно поправилась, чтобы выдержать дальнейшие истязания.
Дурен, священник из Альфтера, в письме к графу Вернеру фон Сальму так описывал ведовские преследования в Бонне начала XVII века: «Кажется, вовлечено полгорода: профессора, студенты, пасторы, каноники, викарии и монахи уже арестованы и сожжены… Канцлер с супругой и жена его личного секретаря уже схвачены и казнены. На Рождество Пресвятой Богородицы казнили воспитанницу князя-епископа, девятнадцатилетнюю девушку, известную своей набожностью и благочестием… Трех-четырехлетних детей объявляли любовниками Дьявола. Сжигали студентов и мальчиков благородного происхождения 9—14 лет. В заключение скажу, что дела находятся в таком ужасном состоянии, что никто не знает, с кем можно говорить и сотрудничать».
Преследование ведьм в Германии достигло высшей точки во время Тридцатилетней войны 1618—1648 годов, когда воюющие стороны обвиняли друг друга в колдовской ереси. Но и в мирные времена политическая борьба и придворные интриги часто принимали форму взаимных обвинений в колдовстве. В Англии за это преступление были осуждены многие высокопоставленные лица, подозревавшиеся в политическом инакомыслии и тайном заговоре против короля. В 1478 году герцогиня Бедфордская была обвинена в чародействе. Ричард III в 1483 году обвинил бывшую королеву Елизавету Вудвилл в том, что она иссушила его руку. Супруга Генриха VIII Анна Болейн была казнена в 1536 году по обвинению в колдовстве.
Была еще одна причина того, что процессы стали массовыми – передача дел о колдовстве из церковных судов в светские ставила охоту в прямую зависимость от настроений и амбиций местных правителей. И если некоторые из них не допускали разгула процессов, то другие всячески их поощряли и даже сами выступали в числе рьяных охотников за ведьмами. Эпицентр массовых ведовских процессов был либо в отдаленных провинциях крупных государств, либо там, где центральная власть была слабой. В централизованных государствах с развитой административной структурой, например во Франции, охота на ведьм велась менее интенсивно, чем в государствах слабых и раздробленных. Иногда центральная власть сама начинала процессы, как в Испании, но они никогда не смогли бы достичь такого размаха без поддержки местной элиты.
Однако политические факторы сами по себе вряд ли сыграли бы решающую роль, если бы не сопутствующие обстоятельства. Судебные процессы против ведьм распространялись волнами, тесно связанными с кризисными явлениями – неурожаями, войнами, эпидемиями чумы и сифилиса, которые порождали отчаяние и панику и усиливали склонность людей искать тайную причину несчастий. По мнению историков, в конце XVI века число процессов резко выросло из-за демографического и экономического кризисов. Увеличение численности населения и долговременное ухудшение климата в течение этого столетия наряду с притоком серебра из американских колоний привели к революции цен, голоду и росту социальной напряженности.
Психологи утверждают, что в ситуации стресса, экономической нестабильности, социального и идеологического кризиса может возникать так называемый архаический синдром – интеллектуальный регресс, когда человек или общество оказываются в странном мире оживших призраков и материализованных фобий. Страх усыпляет разум, а сон разума, по выражению Гойи, рождает чудовищ. В такой ситуации естественный способ устранения страха и паники – порождение образа «внутреннего врага», чтобы, изгнав его, символически изгнать причину страха.
Откуда берется вера в колдовство?
Мало найдется на Земле людей, убежденных в том, что происходящие лично с ними события случайны. Пытаясь понять причины случившегося, человек редко довольствуется очевидным и ищет его тайные пружины. Даже самое обыденное событие, в котором, казалось бы, сложно увидеть мистику, взывает к осмыслению. Споткнулся человек о ступеньку и разбил, например, нос – почему именно я? Почему сейчас? К чему бы это? Способы осмысления могут быть самыми разными – это зависит и от культурной традиции, и от индивидуальной фантазии: ребенок в отместку ударит обидевший его предмет, хиппи подумает об «астральном нападении», а Аполлинария Михайловна припомнит соседку – видать, сглазила, позавидовала новым туфлям.
Представление о том, что мистической причиной несчастья может быть обида или зависть соплеменника, характерно для всех человеческих обществ, за исключением разве что пигмеев в тропических лесах Африки и некоторых других групп охотников-собирателей, ведущих подобный же полукочевой образ жизни – они живут слишком малыми группами, чтобы позволить себе внутригрупповую вражду и подозрения в колдовстве. Их мифология гуманна – несчастья приписываются злым духам или душам предков. Как только возникает конфликт, пигмей может уйти из группы и присоединиться к другой. К тому же они периодически проводят специальные трансовые ритуалы «изгнания зла». По всей видимости, пигмеи подписались бы под известным выражением Сартра «ад – внутри нас». В более многочисленных, но все же небольших сообществах, где конкуренция, зависть и вражда не смягчены простой заботой о выживании и гуманной мифологией, зло часто персонифицирует член общины – не такой, как все, слишком слабый или слишком сильный. Здесь тоже есть ритуалы изгнания зла, но не из тела человека, а из социального тела – изгнания «козла отпущения» из общины. Это так называемое «базовое» колдовство, в изобилии обнаруженное антропологами в племенных обществах Африки и Азии. В его основе лежит психологический механизм переноса ответственности или вины на другого человека и проекции на него собственных враждебных чувств.
Когда нет государственных институтов, подобные представления и практики оказываются средством общественного управления, выполняют важные функции – социального контроля, утверждения моральных ценностей, сплочения группы, наказания нарушителей. Думать и действовать в терминах колдовства – способ борьбы с невзгодами: обвинения кристаллизуют и тем самым ослабляют множество тревог и сомнений, а изгнание персонифицированного зла разрешает конфликт, утверждает границы и внутреннюю сплоченность общины. Антропологи полагают, что с этой точки зрения колдовские представления – вполне рациональная стратегия решения проблем. С ее помощью можно объяснить несчастье иначе, чем случайностью или собственной ошибкой. Угроза обвинений в колдовстве держит потенциальных возмутителей спокойствия под контролем, заставляет беречь репутацию, не говорить лишнего, не нарушать социальные нормы, не позволяет становиться слишком богатыми за счет соседей. Страх колдовства даже играет полезную роль – заставляет быть осторожнее и внимательнее со стариками, нищими, соседями.
Однако антропологическая теория колдовства не очень хорошо подходит для объяснения официальных ведовских процессов в христианской Европе – здесь они были не социальным институтом, выполнявшим важные функции, а, скорее, показателем расстройства социальной системы.