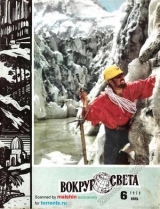
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №06 за 1973 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Начались и первые «разведывательные» вылазки «Фридом дайнемикс». В автобусы с советскими делегатами полетели камни, зазвенели разбитые стекла. Но Ралис и Стюарт остались недовольны: по всем законам психологии, уверяли специалисты там, в Лэнгли, резкий переход от праздничного веселья к угрожающей враждебности должен вызвать растерянность, страх, даже эмоциональный шок. Но русские почему-то не впали в панику – доносили контролеры-наблюдатели – пожалуй, лишь посерьезнели. Зато «движущим силам свободы» пришлось поспешно уносить ноги: хельсинкцы – свидетели инцидентов – высказали явное желание намять им бока.
«Что ж, посмотрим, в каком настроении они будут завтра...» – в словах Ралиса не чувствовалось и тени сомнения в непогрешимости «профессоров психологической войны».
...Почти в центре Хельсинки, недалеко от вокзала, есть парк Кайсаниеми, любимейшее место молодежных гуляний. Говорят, лет сто назад здесь, на небольшом мысу – по-фински «ниеми», вдававшемся в Телеский залив, стоял кабачок, где гостей встречала красавица Катя – по-фински Кайса. У нее частенько собирались студенты Хельсинкского университета, которые и назвали это место по имени прекрасной шинкарки. Еще перед фестивалем в Кайсаниеми выросло просторное полотняное «шапито» – клуб «Спутник». Рядом – кинопередвижка под открытым небом, танцплощадка, столики, легкие удобные стулья, детские игры. С утра до позднего вечера в «Спутнике» и вокруг него толпился народ; но завтра – открытие фестиваля, к нему нужно как следует приготовиться, и часам к десяти вечера парк затихает. Собираются домой, на «Грузию», ребята из «Спутника», для которых завтрашний день особенно ответственный.
И вдруг ночная тишина взрывается дикими воплями, свистом, улюлюканьем. Из темноты летит град камней, сучья, пустые бутылки. «Ноу – фестиваль! Ноу – коммунизм!» – пьяно коверкая слова, надрываются мальчишеские голоса. Полотняный павильон мигом окружает цепочка советских ребят. А из аллей, из кустов со всех сторон лезут шатающиеся, растрепанные фигуры. Нужно выстоять. И ребята держатся. Не отвечая на оскорбления, не обращая внимания на «легко опознаваемые летящие предметы», впрочем, шефы «Фридом дайнемикс» явно просчитались: от щедрой даровой выпивки руки «движущих сил свободы» не стали более твердыми. Но вот уже заплясали по аллеям яркие лучи фар. «Движущие силы» мигают, пытаются закрыть лица ладонями, спрятаться от слепящего света. Из автобусов бегут рослые парни в спортивных костюмах с буквами «СССР» на груди...
Чуть позже, завывая сиренами и мигая красными лампочками на крышах, примчались полицейские машины. Площадка вокруг «Спутника» и парк быстро очищаются от непрошеных визитеров.
...Почти не спавший в ту ночь, Ралис с утра устроил разнос своим помощникам. Им пришлось терпеливо выслушать уникальный набор цветистых выражений, популярно разъясняющих их полную профессиональную некомпетентность. Особенно досталось «специалисту по силовым акциям» Авро Хорму. Набычившись, тот угрюмо пообещал, что сегодня возьмет реванш, время приближается к 17.00. Сейчас начнется фестивальное шествие. Уже с середины дня все улицы то пути к олимпийскому стадиону забиты народом. В небе, деловито рокоча мотором, серебристый самолетик тащит полотнище со словами: «Фестиваль, здравствуй!». В Вене в это время такой же самолетик буксировал плакат «Фестиваль без нас», который затем сменил призыв «Пейте венское пиво». Впрочем, до этого был и другой призыв: «Читайте «Венские новости». Но этот листок не читали.
По рядам людей, выстроившихся вдоль улиц, шелестом прокатывается: «Пошли!» Пританцовывая, выступают латиноамериканцы в сомбреро и, конечно, с гитарами, улыбаются финнам индийцы, словно плывут в своих блестящих одеждах гибкие негритянки. Знамена, барабанщики, песни, пляски. А если кубинцы на ходу и выкидывают из своей колонны пристроившихся «мальчиков» агента ЦРУ Педро Сальвата, у которых под куртками топорщатся пистолеты, то это так, мимолетный эпизод, не портящий общего праздника.
Возле здания почтамта, неподалеку от Маннерхейминтие, главной улицы Хельсинки, прижался к тротуару белый «форд» с номером EN-NT-49. В кабине Ралис и Стюарт. Оба заметно нервничают.
На главную улицу торжественно выплывает огромный макет: серп и молот. Острие серпа переходит в стремительно мчащийся спутник. Идет советская делегация, семьсот парней и девушек под алым флагом. Звучит веселая, задорная мелодия, улыбаются и аплодируют зрители, впереди на постаменте три мускулистые фигуры с молотами – памятник трем кузнецам, внизу, на тротуаре, молчаливая толпа, ухмыляющиеся лица, покрасневшие глаза.
Смолкли песни, посуровели, подтянулись парни и девчата. Над улицей повисла напряженная тишина, и лишь асфальт чуть шуршит под ногами. Это уже не праздник, а передний край, где можно ожидать всего: булыжников, слезоточивых бомб...
Бомбу в ту ночь бросили во двор школы, где разместились советские туристы. А на Маннерхейминтие... на Маннерхейминтие стоявшие в задних рядах инструкторы – профессионалы из ЦРУ и СИС – принялись хотя и незаметно, однако чувствительно «напоминать» подопечным, зачем их сюда привезли. И те ошалело завопили: «Гoy эуэй!» – «Убирайтесь прочь!» Шепелявя, с акцентом, вразброд, но зато на английском.
И вдруг вся колонна в. едином порыве властно и звонко кидает в воздух: «Фе-сти-валь! Фе-сти-валь! Фе-сти-валь!» Этот клич подхватили тысячи людей, стоявших на улице, и в нем бесследно утонули вопли на ломаном английском.
После поражения на Маннерхейминтие Ралис и Стюарт решили играть ва-банк. Силовые провокации продолжались: еще один неудачный налет на «Спутник», взрыв бомбы у школы, где после всех треволнений крепко спали советские туристы, наконец, попытка пронести пластиковую бомбу на «Грузию». Семнадцатилетний Алпо Хайкола признался, что ему было обещано большое вознаграждение.
– Кто обещал? – допытывались в полиции.
– Какой-то американец. Среднего роста. Лет сорока. Еле говорит по-фински...
И лишь официальное заявление президента Финляндии Урхо Кекконена положило конец безрезультатным, но тем не менее весьма опасным акциям сборной «делегации» разведывательных служб. Борьба перешла в другое измерение.
«Художник» Лайонел Либсен, «американец» Леонид Денисюк, «журналист» Гулл и другие «активисты» из Службы независимых исследований под командой белобрысого верзилы в темно-зеленом пиджаке и мятых белых штанах с утра до вечера «сражались» в клубе «Дружба», затевая бесконечные споры с гостями и хозяевами. Верзила же по имени Ренс Ли, выдававший себя за студента, в действительности сотрудник разведотдела госдепартамента, при этом демонстрировал – явно для начальства – редкостное самопожертвование: он даже не ходил обедать, ограничиваясь тем, что изредка прикладывался к «хип-ботл» – фляжке с виски. Автобусы с рекламными щитами зазывали делегатов и финнов на выставку «Молодая Америка показывает». Возле «Спутника» и «Грузии» постоянно вертелись десятки юнцов и солидных господ, нагруженных всевозможной макулатурой, в избытке заготовленной «молчаливыми службами». В порту бросила якорь шхуна «Матильда», где открылось в основном пустовавшее «Интернациональное кафе», в котором потчевали пивом и кофе с обязательной приправой из антифестивальных листовок, брошюр, журналов...
Шефы «Фридом дайнемикс» не стали ожидать конца фестиваля. Когда белый «форд» Макса Ралиса и Джека Стюарта пробирался по улицам к выезду из города, его провожал дружный свист хельсинкских мальчишек-чистильщиков на каждом перекрестке...
Английский журналист Крэнкшоу писал после VII Венского фестиваля: «Я считал, что последним будет Московский фестиваль, и ошибся». Ошибся не только агент СИС БИН-120 Эдвард Крэнкшоу. Ошиблись Центральное разведывательное управление США, Сикрет интеллидженс сервис, НАТО, святые отцы католической церкви и многие другие. После Москвы были VII всемирный в Вене, VIII Всемирный в Хельсинки, IX всемирный в Софии. Скоро начнется X Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Берлине.
С. Милин, П. Смоленский
Кининлад, сын Тналхута и другие

Веселая и радушная была у них бригада, мне нравилось у них. И в один год я провел в этом стаде все время отела.
Кининлад стоял тогда на южных склонах Ильпиная – «горы с плечами». Чтобы попасть к нему, нам пришлось подняться на высоченный отрог. Чуть отдышавшись на перевале, мы – я ехал с отцом Кининлада стариком Тналхутом – выпрягли оленей, привязали их сзади к нарте (у них копыта покрепче наших ног – тормозить будут на спуске) и заскользили вниз. Лучше бы сказать помчались. Спуск шел узким ущельем, снег на его дне слежался до плотности льда, и наши бедные олени тормозили больше лежа, просто волочась за нартой. Еще ниже появился настоящий лед, отсюда, видимо, начинались истоки реки. Можно было натерпеться страху, если бы хватило времени на испуг. Ущелье виляло с удивительным проворством, и я едва успевал рулить ногами. Уже внизу я обнаружил, что оставил на спуске обе подошвы своих торбасов. Где отстал старик, я не знал. К счастью, олени успевали, где снег был помягче, вскочить на ноги и тормознуть. А на одном из поворотов и вовсе остановили меня. Не удержавшись, я скользнул по нарте, словно пирог с лопаты, но падать уже было некуда, я приземлился тут же. Через минуту ко мне лихо подкатил Тналхут.
– Молодой человек быстро ездит, часто падает, а нарту старик чинит, – сказал он назидательно. Была у старика страсть к поучениям. Судя по белой спине, Тналхут тоже падал, но я не задавал неуместных вопросов.
Было уже темновато, мы быстро запрягли оленей и тронулись. Старик хорошо знал эти места, уже через несколько минут мы наткнулись на свежую нартовую дорогу и по ней быстро выскочили к палатке. С опозданием залаяла собака, но, обнюхав старика, сменила лай на визг. Старик тоже обрадованно огладил ее: «Мальчик, Мальчик». Из палатки вышла женщина.
– Амто, мей! – окликнул я ее.
– И-и-и, Миронов! – Кечигвантин засеменила к нам, на мгновение прижалась к своему свекру, потом подала мне руку.
– Како, како, Миронов етти. (Ой-ей-ей, Миронов приехал.)
Она называла меня по отчеству.
– Минки пастухен? (Где пастухи?) – спросил я.
– Утку нелла. (В стаде.)
– Э. (Понятно.)
Мы быстро распрягли оленей и отпустили их по направлению к табуну на отдых. Хорошенько выбив снег из одежды, нырнули в теплый сумрак палатки.
Вокруг снова была милая мне табунная жизнь. Как хорошо завалиться на шкуру, отоспаться, завтра пойти в табун. Старик Тналхут однажды так объяснил мне смысл жизни: «Немножко работай, устал – отдыхай, поешь и снова работай. Так хорошо жить».
Я отвалился на шкуру, но рядом со мной что-то взвизгнуло, и через мгновение оказалось Прохой, а потом и ее трехлетним сыном.
– О, Проха, что же это ты гостей не встречаешь?
– Я спала.
Кечигвантин у печки что-то сердито заворчала.
– Что она говорит, Тналхут?
– Проха все спит и спит, ничего не помогает. Всегда так молодой человек, – заключил старик. Он вообще любил обобщать.
Кечигвантин поставила перед нами маленький столик, положила несколько пластин юколы, и мы, замолчав, принялись есть. Старик протянул по пластине Прохе и ее сыну, так что возможность разговаривать осталась только у Кечигвантин, и она воспользовалась ею в полной мере. Я понимал ее быструю речь плоховато, но исправно прерывал еду для вежливого «Э, э», вроде нашего поддакиванья. Вдруг снаружи послышались голоса, потом в палатку заглянул Кининлад.
– Здравствуйте, с приездом.
– Здравствуй, Коля, – отвечал я. Кининлад всегда отличался вежливостью. Но вслед за ним всунулся Тынытегин и закричал:
– Здорово, Леша!
– Здравствуй, Сережа! – в тон ему отвечал я.
– Здорово, старик!
Но Тналхут ограничился «Э». Он относился к Сергею критически и не упускал случая выразить это.
Постучав сколько положено выбивалками по одежде, оба втиснулись в палатку, начались рукопожатия и расспросы. Я вылез наружу и, развязав на своей нарте груз, достал свечки, галет, сахару... Кечигвантин то и дело напевала «Миронов, Миронов». На столике появилось мясо. От разогревшейся печки стало тепло, мужчины сбросили кухлянки. Все разговаривали, рассказывали что-то, разговор, как обычно, шел на корякско-чукотском языке (Тынытегин и Проха были чукчи, а Тналхут и Кининлад с Кечигвантин – коряки). Часто примешивались и русские слова.

Кечигвантин упорно дергает меня за руку: «Миронов – одинаково сын, Миронов – все равно сын. Я – одинаково мама. Миронов хороший, всегда веселый. Так надо, одинаково наши люди». Она говорит что-то еще. Тынытегин мне переводит: «Она говорит, что сошьет вам хорошую шапку». Кечигвантин с воодушевлением подтверждает: «И, и, и». Потом она снова произносит целую речь, и все, бросив свои разговоры, слушают ее, часто смеются. С трудом я улавливаю, что она вспоминает, как вышла замуж за Кининлада.
Кечигвантин рассказывает, каким смешным был Кининлад, когда она увидела его впервые.
– Ага, ага, – с удовольствием подтверждает Николай. В голосе Кининлада звучит гордость за жену, она невольно передается мне. Я с уважением гляжу на пухленькое личико Кечигвантин. А она, как ребенок, радуется вниманию, смеется, старается еще чем-нибудь меня заинтересовать, что-то быстро говорит.
Наверное, очень трудными кажутся их имена – Кининлад, Кечигвантин. Но это не так. Достаточно лишь раз услышать, что они значат. Кининлад по-корякски «бросил сына», друзья зовут его просто «Кинин». Странное имя дал Кининладу отец. А я зову его просто Коля, Николай Николаевич. Все у них в семье Николаи Николаевичи. Русские имена жители этого совхоза получили перед выборами в 1936 году, когда здесь регистрировали избирателей. Наверное, у секретаря была слабая фантазия. Половина мужчин в нашем совхозе – Николаи Николаевичи.
Имя Кечигвантин перевести сложнее. Ближе всего – это «вход в юрту». Но надо вырасти в юрте, чтобы понять такое имя. Входная дыра – это главный источник света. Это чистое, светлое пятно, к которому ползет ребенок, когда его уже держат коленки. Да, Кечигвантин и впрямь пятнышко, вся какая-то теплая, светлая, круглая, как колобок.
Я начинаю разбирать свои вещи. Кечигвантин что-то оживленно пытается мне объяснить. Я не понимаю ее и лишь меланхолично поддакиваю на чукотский манер: «Э, э, э». Вдруг она резко дернула меня за рукав и, повернув к себе, с удвоенной энергией закричала мне прямо в лицо: «Э-э-э!» Не понимая, в чем дело, я смотрел на нее, пока мужчины не пришли нам на помощь. Оказывается, Кечигвантин просила меня дать и ей русское имя.
О, это была трудная задача! Я вглядывался в ее пухленькое личико с расплюснутым носиком и не находил ничего, за что можно было бы зацепиться. В конце концов я нарек ее Ириной с обычной, как я уже говорил, для их семьи Николаевной в заключение. Она осталась очень довольна и остаток вечера употребила для заучивания «Ирины Николаевны». На радостях Кечигвантин выудила из потайных запасов мешочек «юппина», то есть пережаренной с жиром муки, и мы, навалив ее в кружки с чаем, с удовлетворением разъели лакомство.
Следующие несколько дней пролетели незаметно. Пастухи работали в две смены. Днем дежурили Кининлад с Тынытегином, ночью Федя Мерхини с одноглазым Гиклавом, все молодые, веселые ребята. Старого Тналхута мы на другой день снарядили за продуктами.
В десяти километрах от нас два пастуха держали быков. На время отела быков отделяют от важенок, чтобы они не мешали им кормиться. Рядом с бычьим табуном находилась меховая палатка, где жила жена Гиклава. После ночного дежурства вместе с Федей Мерхини он часто уезжал туда с утра. Там они отдыхали, а Федя еще успевал съездить на беговых оленях в соседнюю бригаду к своей невесте.
Я проводил весь день в табуне и бывал в палатке только ночью. Первое время непривычным было ощущение спокойствия, какое бывает только на отеле. После бесконечной езды на оленях зимой, после мартовских отбивок, разбивок стада вдруг тишина, солнце, горы и табун: медлительные, отяжелевшие важенки. От солнца обгорают лицо, руки, от солнца обтаивают, словно обугливаются, гребни хребтов; на речном льду всюду голубеет вода; и над всем миром голубое небо. В полдень задремлешь, подставляя лучам то один, то другой бок, сквозь дрему слушаешь и никак не поймешь: капель стучит, а где? Кругом ни крыши, ни деревца, а она стучит, звенит. Вдруг с шорохом осел подтаявший сугроб, и замерла капель, придавил ее снег.

Ночью солнце сменяет луна – отельная луна. Это ей суждено заглянуть в глаза новорожденных телят, первой из длинного ряда лун, которые они увидят. Каждый час мы обходим табун и то тут, то там встречаем новеньких обитателей земли, вежливо поднимающихся нам навстречу на дрожащих ножках. Иногда кто-нибудь рождается в несчастливый час, и луна не только встречает, но и провожает олененка. Поздним вечером, положив такого страдальца на плечи, я спускаюсь вниз к палаткам, где Кечигвантин или Проха лишают его единственного богатства – пушистой шкурки, по-русски – пыжика.
Обязанности у зоотехника, выехавшего на период отела в стада, довольно разнообразны. Мне приходилось обсуждать с Кининладом и оргвопросы: куда перегнать стадо, можно ли послать Тналхута на помощь соседней бригаде; и оказывать ветеринарную помощь оленухам; и просто помогать пастухам в их повседневной работе.
Женщины целые дни проводили в одиночестве. Ночные дежурные, если и не уезжали в бычий табун, не были склонны к долгим разговорам. Попив чай, они моментально заваливались спать, и Кечигвантин с Прохой снова оставались одни, если, конечно, не считать ребенка. Впрочем, дел у них было много: они шили и чинили одежду и обувь, готовили «юппин». Каждая женщина имела красивую и, главное, длинную песню, а это в тундре очень важно. Каждый чукча и коряк имеет свою личную песню и обижается даже, если кто-нибудь попытается ее «карабчить», то есть украсть.
Уже в сумерках мы возвращались из табуна. Обессиленные пастухи, по пояс мокрые и дрожащие от холода, хотели только одного – есть. Кечигвантин мигом втаскивала мясо в деревянном корыте. Пока мы орудовали ножами (чукчи говорят: зубами рвут мясо собаки, а у человека есть нож), уже бывал готов суп. Только после еды мы разувались и переодевались в теплое и сухое, а для Кечигвантин и Прохи наступало долгожданное время человеческого общения. Они стрекотали без умолку, не забывая тем временем расставлять чашки и разливать чай. Никто не перебивал женщин, хотя и слушали не очень внимательно, тем более я, понимавший с пятого на десятое. Как правило, сначала выпаливались все новости. Вторую часть программы занимали жалобы. Их всегда приберегали на конец, особенно главные.
Кечигвантин чаще жаловалась, что ушибла что-нибудь: руку или ногу. Проху волновал куда более широкий круг проблем. Уж на что Сергей был от природы развеселым парнем, но жена допекала и его. Все же на конец у него всегда было припасено одинаковое: «Ну, ты привыкай как-нибудь».
Вообще Проха была фигурой особенной. Они с Сергеем считались молодоженами. До замужества она работала в школе и в табун попала впервые. Она очень любила рассказывать мне, видимо надеясь на большее понимание, как она одинока и несчастна в табуне, где и кино привозят редко, и поговорить не с кем. Кроме того, она очень гордилась своей неприспособленностью к тундровой жизни. Впрочем, в глазах Сергея все это придавало ей некоторую необычность и привлекательность. Он охотно мирился со своей непочиненной одеждой, терпел разные неудобства, но всегда повторял: «Ну ничего, научишься, ты привыкай, ты старайся».
Прямо сказать, я не очень верил в «привыканье». Достаточно было вспомнить, как мы ехали вместе в феврале в табун. Был страшенный мороз, крикнешь – и звук не летит, словно замерзает. Сколько ни машешь руками, сколько ни стучишь ногами по полозьям нарты, часа через три ни тех, ни других не чувствуешь. На чаевку остановились – в пору резать уздечки: пальцы одеревенели, никак не могу распрячь оленей. Одно спасение: бросай рукавицы – голыми руками распрягай. Не знаю почему, но, когда обнажишь на морозе руку, она немножко разогревается. Потом не ленись, веди оленей кормиться на сопку. Пока по рыхлому снегу наверх вылезешь, не то что согреешься – вспотеешь.
Так и тогда, мы уже и дров принесли, и мясо сварили, и чай вскипятили, а Проха сжалась в комочек и от нарты ни шагу.
– Проха, иди чай пить.
– Не хочу.
– Проха, иди кушать.
– Не хочу.
Что делать? Запрягли оленей, поехали дальше. Через полчаса Проха говорит Сергею: «Вот вы сами поели, а мне не дали». Сергей молчит. «Вам все равно, хоть я с голоду помру. Ты меня никогда не любил». Сергей остановился, мы тоже. Достал мясо. «Ешь». – «Нет, не буду. Вы небось горячее мясо ели, а мне хоть зубы поломай?» Сергею, конечно, стыдно перед нами, но молчит. А во мне прямо ярость, но тоже молчу. Никому неохота останавливаться: распрягай, запрягай, собирай дрова, вари чай – хорошего мало, день короткий – получается, не столько ехали, сколько чаевали. Все же остановились, напоили Проху чаем.
После такого знакомства я ей, конечно, не обрадовался. Но встречался я с ней мало, в палатке в отел не засидишься – только поспать да поесть.
30 апреля, когда я вечером пришел из стада, в нашей палатке было непривычно чисто и торжественно. Только через мгновение я понял, что Кечигвантин застелила пол свежим кедровым стланцем. И сразу и запах и свежесть. На другой день, быть может, под впечатлением этого я решил испечь пироги. Для первомайского праздничного пирога было все необходимое: мука, сухие дрожжи и банка яблочного варенья. Замесив тесто, я подвесил котелок с ним возле трубы под самой крышей палатки, в самое теплое место. «Ирина» внимательно следила за моими действиями и, вероятно, очень сожалела, что я перевожу понапрасну такие дорогие в тундре продукты.
Я освободился к полудню, пообедал и ушел в табун. Он был виден в бинокль из палатки – черные точки-олени медленно передвигались на самой вершине Ильпиная. День был безветренный, теплый, и лишь небо не такое синее, как обычно, немного белесое. Раза три по дороге передохнув, я, наконец, выбрался на левое плечо Ильпиная. Здесь нашел нарты, чайники, погасший костер, но пастухов не было: они перегоняли часть стада на соседнюю вершину, на свежие пастбища. Я собрался было идти к ним, но Кининлад жестами остановил меня и через несколько минут установил на переседлине маяк, то есть палку с какой-то одежкой. Это был вполне понятный сигнал. Связав нарты и увязав на них все хозяйство, я начал спускать весь «стан» на новое место. И когда пастухи закончили свое дело и пришли к маяку, чайники уже закипели, мясной суп сварился, и я от всего этого сидел весьма довольный. Мы подкрепились, почаевали и как-то незаметно задремали; сонливость сегодня носилась в воздухе.
Очнулся я только через час, от ощущения холода на лице. В полной тишине шел снег. Не игривые снежинки, а сонные и тяжелые хлопья тихо лепили вокруг, мы уже все были погребены под довольно толстым слоем.
– Снег, – сказал я. От моего голоса очнулись ребята и тоже тихо повторили: «Снег». Подниматься, куда-то идти не хотелось. Наконец, Тынытегин, отряхнувшись, пошел к вершине сопки – к оленям. Мы остались на месте. Легкий ветер дул нам в спину, ничуть не беспокоил, наоборот, успокаивал, усыплял. Потом комок снега попал мне в лицо, я сонно мотнул головой и проснулся. Сразу вскочил.
– Пурга, Коля... Вставай, пурга!
Словно не было ни сна, ни покоя, ни дня. Только снежный вихрь и снежная пыль со. всех сторон. Где-то горы вокруг... Где табун? Где все? Только пурга. В какие-то мгновения мы уложили груз на нарты, поставили их торчком, связали, чтобы не унесло и не засыпало. Надо было спешить к табуну. Очень скоро мы разделились. Впрочем, незачем было держаться вместе, и не нужно было особых команд – всякому понятно: в такую пору нужно скорее спустить табун вниз.
Свистом, криками я сгонял важенок с лежек, поднимал сонных, пригревшихся под снежной шубой телят, брал вправо, влево, спотыкался, скользил и постепенно привел все стадо в движение, погнал под склон. Потом я снова поднялся вслед за четырьмя важенками, зовущими телят. На их меканье никто не отзывался, я попытался им помочь, но безуспешно. Снег залепил лицо плотной маской, я проковыривал щелочки для глаз, наклонившись к земле, пытался что-нибудь увидеть, но не знал даже, куда ступаю: то зарывался в уже надутые сугробы, то скользил на обледеневших камнях. Постепенно я потерял надежду найти телят, отчаялся, мечтал, чтобы пришел Кининлад, только что не кричал – в такую пургу от этого было бы мало толку.
Николай пришел сам. Мы сошлись, он приблизил лицо к моему, улыбнулся: «Пурга». Еще с полчаса мы лазили по снегу, раскапывали его ногами. Вдруг Кининлад закричал, подзывая меня, он таки нашел одного. «Я думал, камень, палкой ударил, а это кончик уха торчит. Спал, не хотел даже головы поднять. Тепло под снегом», – смеялся он.
Которая из важенок была матерью теленка, мы разбираться не стали, выкопали его из снега, и я положил его себе на плечи. Спасти остальных уже не было надежды. Все же Коля остался еще побродить. Но вдогонку Кининлад вдруг крикнул мне, чтобы я остановился. Он догнал и с легкой осторожностью в голосе сказал:
– Миронович, может быть, спустишься к палаткам? Может, плохо там что-нибудь?
– А Мерхини с Гиклавом?
– Наверное, заблудились, пурга. Все равно их дорога через табун.
Вокруг была пурга, ничего знакомого – ни гор, ни речки.
– Может, заблужусь?
– Наверно, нет, – отвечал Кининлад. – Иди прямо вниз, до речки, по ней тоже только вниз.
Теленка я оставил у приметных кустов, присыпал снегом, чтобы не замерз, будет день – найдется и мать. Едва видя на шаг вперед, я действительно выбирал дорогу, как сказал Кининлад,«только вниз». Немножко пугали возможные обрывы на пути. Но делать было нечего, я навряд ли заметил бы их, иначе как свалившись вниз. Я держался левого берега реки и скоро нашел нужное место. Немного дальше я свернул вверх по склону и вышел на знакомый бугор. По всем признакам это было место стоянки. Но где палатка?
Я упрямо пахал снег вдоль и поперек, силился разглядеть что-либо вокруг, свистел, кричал, но ни палаток, ни людей не было. Ветер, рвавшийся по ущелью речки, здесь завихрялся, толкал то в спину, то в лицо, я стоял в снежной толчее и, казалось, заблудился. Уже часа три я быт один. Можно было отчаяться. Но выработавшееся за годы чувство: тундра – наш дом – не покидало меня. Я знал, что где-то бродит Кининлад, собирая табун, где-то пробираются к перевалу Мерхини с Гиклавом, сидит на вершине сопки Тынытегин. На всей огромной территории нашего совхоза, растянувшейся от Охотского до Берингова моря, сейчас работали в пургу наши пастухи.

Но где же женщины, где ребенок? Этого я не знал и бродил, и бродил кругами. Уйти я не решался. Уже начало темнеть. Я пошел, теперь уже выбирая дорогу только в гору. Стало душно. Это всегда так – в пургу душно. Хотелось есть. И главное, некуда было уйти от печальных мыслей. Темнота и снег окружили меня, словно заперли. Ощупывая ногами и палкой дорогу, я шел вверх, пока какая-то важенка в испуге не шарахнулась от меня.
Попасть в табун – это было почти то же, что попасть в родной дом. Я снова обрел свое место в мире. К тому же и Кининлад с Тынытегином нашлись довольно быстро.
– Наверное, кочевали, – было первым, что сказал Кининлад на мое сообщение.
– Наверное, кочевали, – подтвердил Сергей. – Старуха в тундре не пропадет.
Такого спокойствия я не ожидал. Оставалось только жалеть о погибших пирогах. Навряд ли пурга помогла тесту подняться. Закопавшись поглубже в снег, спинами к ветру, сидели мы в первомайскую ночь и ждали рассвета.
Около четырех утра ветер чуть стих, но снег еще шел. Тынытегин отправился к палатке, а мы оставались в табуне. Еще через час подъехали на оленях Мерхини с Гиклавом, они ночевали на той стороне горы, под перевалом Мы сели к ним на нарты пассажирами и через полчаса спуска по сугробам были у стоянки. Первый, кого я увидел, был Тынытегин. Он быстро раскапывал снег лопатой, что-то искал. Сердце екнуло в моей груди. Соскочив с нарты, я подбежал к нему, он вскрикнул и схватил меня за плечо. В то же мгновение я увидел у ног здоровенную яму, до самой земли, а на дне ее Кечигвантин. Она преспокойно жарила на костре лепешки. Пошли в расход мои пироги.
– Коле, коле, мей, – закричал я. – Минки е ёённа? (Где палатка?)
– Вон в кустах. Кечигвантин туда кочевала, чтобы было теплее, – ответил мне Тынытегин.
Я не поленился добрести туда. Между кустов, метрах в ста от стоянки, как крыша над снежной ямой, была натянута палатка, борта ее закопаны в снег. Судя по надвое разорванному потолку, наскоро сшитому толстой белой ниткой, женщинам досталось в пургу. Я сунул в эту снежную нору нос: там на ветках безмятежно спала Проха вместе со своим сыном.
О! Напрасно же я волновался за Кечигвантин. Действительно, как говорит Тналхут, «старые люди в тундре все знают».
Не переодевшись в сухое, не наводя порядка, мы накинулись на еду. Как положено: поработал – поешь, отдохни – снова можно работать.
Леонид Баскин, Фото А. Маслова
Северная Камчатка








