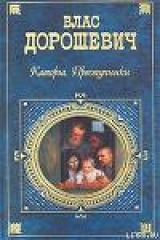
Текст книги "Каторга. Преступники"
Автор книги: Влас Дорошевич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 38 страниц)
Картежная игра
– Да что с ним такое?
– Э-эх!.. Играть начал! – отвечает степенный каторжанин или поселенец.
И он говорит это «играть начал» таким безнадежным тоном, каким в простонародье говорят: «Запил!» Пропал, мол, человек.
Игра в каторге – это уж не игра, это запой, это болезнь. Игра меняет весь строй, весь быт тюрьмы, вверх ногами перевертывает все отношения. Делает их чудовищными. Благодаря игре тяжкие преступники освобождаются от наказания, к которому приговорил их суд. Благодаря игре люди меняются именами и несут наказания за преступления, которых не совершали. Вы выдумываете, совершенствуете системы наказания, мечтаете (только мечтаете) об исправлении преступников, – а там, в тюрьме, все ваши системы, планы, надежды, мечты, – все это перевертывается вверх ногами благодаря свирепствующей в каторге эпидемии картежной игры. Именно эпидемии, потому что о картежной игре на каторге только и можно говорить как о повальной болезни. В сущности, старую формулу «приговаривается к каторжным работам без срока» можно смело заменить формулой: «приговаривается к бессрочной картежной игре».
– Бардадым (король)!
– Шеперка (шестерка)!
– Солдат (валет)!
– Старик Блинов (туз)!
– Заморская фигура (двойка)!
– Братское окошко (четверка)!
– Мамка! Барыня! Шелихвостка (дама)!
– Помирил (на-пе)!
– Два с боку! Поле! Фигура! Транспорт с кушем! По кушу очко! Атанде! Нет атанде!
Только и слышится в камере в обеденный час, вечером, когда арестанты вернулись с работ, ночью, рано утром перед раскомандировкой. Игра, в сущности, продолжается непрерывно: когда не играют, говорят, думают только об игре.
У меня был один знакомый каторжанин в Александровской тюрьме, которому я давал деньги на игру. Он не давал мне покоя. Удирал от обеда, с работ, забегал с черного крыльца, караулил на улице.
– Барин, приходите! Нынче будет здоровая игра! На работах он только и делал, что глядел на дорогу.
– Не едет ли мой барин?
Соседи его по нарам со смехом говорили, что он и во сне только и кричит:
– Бардадым!.. Шеперка!.. Полтина мазу!..
Он играл, проигрывал, жил как в угаре, таял и горел, – этот человек с лихорадочным огнем в глазах. На что не был бы он способен, чтоб достать денег на игру.
Это болезнь. Я уже рассказывал о жигане, умиравшем от истощения, от скоротечной чахотки в Корсаковском лазарете. Он проигрывал все – дачку хлеба. Целыми месяцами сидел на одной баланде, которую и сахалинские свиньи едят неохотно, когда им дают. В лазарете начал проигрывать лекарства. Его потухшие, безжизненные глаза умирающего от истощения человека вспыхивают жизнью, огнем, блещут только тогда, когда он говорит об игре.
В одной из тюрем я по просьбе арестантов рассказывал им об игре в Монте-Карло. Старался рассказывать как можно картиннее, наблюдая, какое впечатление это производит на них.
– Ну… ну!.. – раздался хриплый голос, когда я остановился на самом интересном месте.
Этот хриплый голос человека, которого словно душат, принадлежал арестанту, который был болен и лежал на нарах. Теперь он поднялся на локте. На него страшно было смотреть. Лицо потемнело, налилось кровью, широко раскрытые, горящие глаза.
– Ну… ну!..
Словно он сам вел игру и вот-вот решалась его судьба. Каждый раз слова: «номер был дан» или «бито!» – вызывали то радостные, то полные досады возгласы:
– Э-эх, черт!
Они участвовали в игре всем сердцем, всей душой. Я задевал их самую чувствительную струнку. Они слышать не могут об игре. Это их болезнь.
Почему это?
Во-первых, хоть и плохие, они все-таки дети своей страны. И если вся Русь от восьми вечера до восьми утра играет в карты, а от восьми утра до восьми вечера думает о картах, – что ж удивительного, что в маленьком уголке, на Сахалине, делается то же, что и везде. Во-вторых, на игру позывает тюремная скука. В-третьих, существует какая-то таинственная связь между преступлением и страстью к картежной игре. В тюрьмах всего мира страшно развита страсть к картам. Может быть, как нечто отвлекающее от обуревающих мыслей, арестанты любят карточную игру, и обычное времяпрепровождение приговоренного к смертной казни в парижской Grande Roquette, – это игра в карты с mouton‘ом, – арестантом, которого осужденному дают для развлечения. Далее: человеку, попавшему на Сахалин, не на что надеяться, кроме случая. «Выйдет случай – удачно сбегу». Это создало, как я уже говорил, веру в фарт, в счастливый случай, целый культ фарта. И картежная игра – это только жертвоприношение богу-фарту: где ж, как не в картах, случай играет самую большую роль. Затем: арестанту заработать негде. Выиграть – единственная надежда немножко скрасить свое положение: купить сахару, поправить одежонку, нанять за себя на работы. И, наконец, этой всепоглощающей игре, этому азарту, в который человек уходит с головой, отдается как пьянству, как средству забыться, уйти от тяжких дум о родине, о воле, о прошлом, – этим стараются заглушить мученья совести. По крайней мере, наиболее тяжкие преступники обыкновенно и наиболее страстные игроки.
Этим я объясняю и страсть моего «приятеля» из Александровской тюрьмы. Он пришел за убийство жены, которую очень любил.
– Не любил бы, не убил бы! – сказал он мне раз таким тоном, что, если бы какой-нибудь Отелло в последнем акте таким тоном сказал об убийстве Дездемоны, у зрителей душа перевернулась бы от ужаса и жалости.
И мне всегда думалось при взгляде на него:
«Вот человек, который в азарте сжигает свои воспоминания».
Много нравственных мук стараются потопить в этой карточной игре.
Как бы то ни было, она губит и каторгу, и поселенье. Заразившись, каторжане так и говорят: «заразился картами», словно о болезни; заразившись карточной игрой в тюрьме, арестант уносит ее и на поселение, Это мешает ему поправиться, стать на ноги. Он проигрывает последнее, что у него есть, крадет, убивает, продает дочерей, сожительницу, жену, если она последовала за ним в ссылку.
На Сахалине редко бывают вольные люди, но если такой появляется, его осаждают толпы нищенствующих поселенцев.
– Третий день не емши.
Вы дали двугривенный, и он спешит в закусочную, которыми обстроена вся Базарная площадь в Александровском. Вы думаете, купить хлеба? Нет, играть. Каждая закусочная в то же время игорный притон; в задней комнате мечут, и умирающий от голода бедняк недеется выиграть и тогда уж поесть как следует в свое полное удовольствие. Страсть к игре пересиливает даже чувство голода – сильнейшее из человеческих чувств.
Обычная просьба, с которой, как за милостыней, обращаются на Сахалине поселенцы:
– Барин, ваше высокоблагородие! Дайте записочку.
То есть напишите в лавку колонизационного фонда: «Отпустить для меня бутылку водки. Такой-то».
– А что, выпить хочется?
– Смерть!
Но у него даже денег нет, чтобы купить по этой записке бутылку водки. Можете быть спокойны. Он отправится и поставит записку на карту, потому что эти записки, как я уже упоминал, ходят между поселенцами как деньги, ценятся обыкновенно в пятьдесят копеек и принимаются как ставка на карту.
Есть даже целые селения, занимающиеся исключительно картежной игрой. Таково, например, селение Аркво, расположенное в долине реки того же имени, по дороге от поста Александровского к рудникам.
– А, господам арковским мещанам почтение! – приветствуют арковского поселенца в посту.
Арковские мещане земледелием занимаются так, через пень в колоду, только «балуются» по этой части; их главный источник дохода – карты.
В дни, когда в Мгачских рудниках происходит дачка вольнонаемным рабочим-поселенцам, вы не найдете в Аркве ни одного взрослого поселенца. Остались дети, старики да старухи. А арковские мещане с женами и сожительницами, захватив самовары и карты, пошли к Мгачи.
Поставили самовары, обрядили жен и сожительниц в фартуки и новые платки и засели на дороге прельщать, угощать и обыгрывать мгачских чернорабочих, отправляющихся за покупками в пост.
Еду раз во Владимирский каторжный рудник и по дороге обгоняю толпу арковских мещан.
Бабы разряжены, как может разрядиться нищая; мужики оживленно болтают, несут самовары.
– Путь добрый! Куда?
– К Ямам (владимирский рудник) подаемся.
– Что так?
– Японец (японский пароход) пришел. Грузят. Сказывают, дачка была, чтоб поскореича!
Арковские мещане шли отыгрывать у каторжан те жалкие гроши, которые тем выдаются с выработанного и проданного угля.
Около поста Александровского есть знаменитое в своем роде Орлово поле, может быть, так и названное от игры в орлянку. Колоссальный игорный притон под открытым небом.
Что вы поделаете с человеком, развращенным тюрьмой, заразившимся там страстью к картам! И как часто приходится слышать от жены, добровольно пошедшей за мужем, жены-героини, жены-мученицы, на вопрос:
– Как живете?
Безнадежное:
– Какая уж жизнь! Нешто с таким подлецом жизнь! Все дома голо, все дочиста проиграно! Дети голодом мрут, меня на фарт посылает. Все для игры. Подлец, одно слово. Хам!
– Зачем же за таким шла?
– Да нешто он такой был? Нешто за таким шла? Шла за путным. Это уж он в тюрьме заразился, прах его расшиби! Было бы знато, нешто стала бы себя губить.
И это общая песнь Сахалина.
Кто стал бы исследовать причины многочисленных преступлений на Сахалине, тот убедился бы, что среди тысяч причин, вызывающих эти преступления, чаще всего является картежная игра, эта болезнь тюрьмы, эта эпидемия каторги, ломающая всю жизнь этих несчастных людей.
Законы каторги
Как и всякое человеческое общежитие, каторга не может обойтись без своих законов.
– Удивительное дело! – заметил я как-то в беседе с одним интеллигентным сахалинским служащим. – Каторга так горячо восстает против смертной казни и телесных наказаний.
Так возмущается. А в своем обиходе признает только две меры: телесные наказания и смертную казнь!
Собеседник даже подпрыгнул на месте. Обрадовался, словно я его рублем подарил.
– Вот, вот! Вы это напишите, непременно напишите. Пусть знают, как с ними гуманничать! Если они сами для себя ничего другого не признают…
Я невольно улыбнулся.
– Неужели вы хотите, чтоб мы были не лучше каторжников?
Бедняга посмотрел на меня изумленно, растерялся и только нашелся ответить:
– Это… это с вашей стороны игра словами… Это парадокс!
Общество считает их своими врагами, ссылает. И они считают своими врагами все общество.
Каторге нет никакого дела до преступлений, совершаемых каторжанами против чалдонов. Самое зверское преступление не вызовет ничьего осуждения. Раз человек убьет кого не из-за денег, каторга отнесется к этому как к баловству.
– Ишь, черт, пришил ни за понюх табаку.
Но скажет это добродушно. Насчет убийства человека с воли у каторги есть даже поговорка, что чалдона убить – только «в среду, пятницу молока не есть». Законы каторги предусматривают только преступления, совершаемые каторжанами против каторжан.
Сначала рассмотрим законы, определяющие обязанности каторжан. Их немного, всего два. Если в камере, в «номере» тюрьмы кому-нибудь предстоит наказание плетьми, вся камера делает складчину «на палача», чтобы не люто драл. Кто жертвует копейку, кто две, кто три, глядя по состоянию. Но всякий, у кого есть за душой хоть грош, обязан его пожертвовать. Это закон, от которого отступлений нет.
Иначе палач, при его истинной виртуозности, может плетью и искалечить, и задрать даже человека насмерть. При таких смотрителях, как упоминавшийся мною Фельдман, любивших драть, тюрьма прямо разорялась на взятки палачам, а палачи благодушествовали и пьянствовали.
Вторая обязанность всякого каторжанина – помогать беглым. Тюрьма прячет беглых с опасностью для себя. При мне в бане Рыковской тюрьмы был пойман скрывшийся там бежавший из Рыковской же тюрьмы важный арестант. Тюрьма носила ему туда есть. Как бы беден и голоден ни был каторжанин, он отдаст последний кусок хлеба беглому. Это тоже закон каторги. Только этим и можно объяснить, например, такой странный факт: гроза и ужас всего Сахалина Широколобов, бежавший из Александровской тюрьмы, всю зиму прожил в Рыковской. Каторга укрывала и кормила его, рискуя своей шкурой и делясь последним.
Несоблюдение этих двух священных обязанностей каторжанина наказывается общим презрением. А общее презрение на Сахалине выражается общими побоями. Такой человек – хам, бить его ежечасно можно и должно.
Гражданский кодекс каторги прост и краток. Каторга предоставляет своим членам заключать между собой какие угодно договоры. И требует только одно: свято соблюдать заключенный договор. Как бы возмутителен этот договор ни был, каторге дела нет.
– Сам лез!
И так как отцы, майданщики и хозяева, – все это народ, который платит каторге, то каторга всегда на их стороне, и если должник не платит, отнимает у него последнее и еще «наливает ему как богатому». Этим и держится кредит в их мире. Часто человек, взявший «под пашню», то есть продавший свой паек хлеба за полгода, за год вперед, с голода нарочно совершает преступление, чтобы его посадили в карцер или одиночку: там-то уж никто не отнимет у него за долг его куска хлеба! Таково происхождение многих преступлений и проступков среди каторжан, особенно проступков мелких: например, «ничем не объяснимых» дерзостей начальству. Но если, вместо того чтобы посадить в карцер, только наказывают розгами, – тогда приходится совершить преступление покрупнее, чтобы попасть в последственную одиночку и поесть. Чтобы избавиться совсем от непосильных долгов, есть только один способ – бежать. Бега – единственное спасение, единственная возможность «переменить участь». И каторга относится к бегам с величайшей симпатией и почтением. Раз человек бежал из тюрьмы – все обязательства и долги иду насмарку, без права возобновления! Часто человек, запутавшийся в долгах, бежит без всякой надежды выйти на волю. Проплутав недели две, полуумирающий от голода, изодранный в кровь в колючей тайге, иззябший, в рубище, он возвращается в ту же тюрьму, откуда ушел. Получает прибавление срока, «наградные» и собственным телом расплачивается за сделанные долги. Но зато все долги уж смараны, и он снова кредитоспособный человек. Вот происхождение многих сахалинских бегов, ставящих прямо в тупик тюремную администрацию:
– Зачем же, на что надеясь, они бегут?
Уголовное законодательство каторги так же просто и кратко.
Кража – такого преступления каторга не знает. На языке каторги преступлением называется только убийство. И если, положим, человек, осужденный за вооруженную кражу, говорит вам:
– Никакого преступления я не совершал!
Это вовсе не означает упорного запирательства. Просто вы говорите на двух разных языках: он никого не убил, значит, преступления не было. И вы очень часто услышите на Сахалине:
– За разбой без преступления.
– За грабеж без преступления.
– За нападение вооруженной шайкой без преступления. Кража не считается ничем. Там, где беззакония творят все, беззаконие становится законом. В случае кражи каторга предоставляет обкраденному самому разобраться с вором или нанять людей, которые бы вора избили. Но если вор начинает уж красть у всех поголовно, тогда тюрьма учит его для острастки вся. Но все подобные дела должны оканчиваться в тюрьме и самосудом. Начальства каторга не признает. И всякая жалоба по начальству – прав человек или виноват, безразлично – оканчивается для жалобщика или доносчика жесточайшим избиением всей тюрьмой. В этом ни разноречия, ни отступления не бывает. Бьют все: одни из мести, другие – по злобе, третьи – «для порядка», четвертые – от нечего делать: надо же чем-нибудь развлекаться. Некоторые «из прилики»: не будешь такого бить, скажут: «Сам, должно быть, такой же!»
Теперь мы входим в самую мрачную часть «уложения» каторги, где звучит только одно слово «смерть». Эти законы охраняют безопасность бегства.
Каждый, кто, зная о готовящемся побеге, предупредит об этом начальство или, зная место, где скрывается беглец, укажет это место начальству, подлежит смерти. И пусть его для безопасности переведут в другую тюрьму, каторга и туда сумеет дать знать о совершенном преступлении, и такого человека убьют и там.
Если каторжник бежал, его поймали, привели снова в ту же тюрьму, и он сказывается бродягой непомнящим, никто из знающих его, под страхом смерти, не имеет права его признать, то есть открыть его настоящее имя. Этому непреложному закону подчиняются не только каторжане, но и надзиратели, никогда почти не признающие бродяг, которые у них же сидели. Этот закон имеют ввиду и другие служащие, неохотно признающие беглого, когда его возвращают:
– Охота потом ножа в бок ждать!
В Корсаковский пост доставили с японского берега Мацмая несколько перебравшихся туда беглых. Они выдавали себя за иностранцев и лопотали на каком-то тарабарском наречии, сами еле сдерживались от смеха при виде приятелей-каторжан и старых знакомых надзирателей. Но их никто не «признавал».
– Впервой видим!
Пока наконец беглецам не надоело ломать дурака, и они сами не открыли своих имен.
Мне рассказывал один из служащих:
– Приводят к нам на пост бродягу. Смотрю: батюшки, да он у меня же в лакеях, будучи каторжанином, служил. Думаю: признавать – не признавать? Уличать – не уличать? Попросил, чтобы меня с ним оставили наедине. Смеется: «Здравствуйте, – говорит, – ваше вышесокоблагородие. Как барынино здоровье?» – «Что ж ты, – спрашиваю, – так настоящее свое имя и не думаешь открывать?» – «Не думаю!» – «Да ведь тебя здесь половина людей знает. Признают!» – «Никто не признает, не беспокойтесь!» – «Да ведь я тебя первый уличить должен. Не могу не уличить!» – «Что ж, – говорит, – уличайте, коли охота есть!» А сам на меня в упор смотрит. Бился я с ним, бился часа два, пока доказал, что ему инкогнито своего не скрыть и самому признаться выгоднее – наказание меньше. Насилу уломал: «Ладно, – говорит, – сознаюсь!»
Помню испуганное лицо моего ямщика, который часто меня возил и был ко мне расположен, когда я сказал ему:
– А я Широколобова видел!
Даже вздрогнул бедняга, испугался за меня:
– Бога ради, барин, никому об этом не говорите! Беда будет!
Но я успокоил его, что пошутил.
Вот это-то обязательное всеобщее молчание относительно беглого и придает надежды сахалинским беглецам. Немногие бегут в надежде вернуться в Россию, но всякий надеется «переменить участь», при бегстве сказаться бродягой и вместо десяти-, двадцатилетней каторги отбыть полуторагодовую.
Убийство каторжанином каторжника каторга не всегда наказывает смертью. Но убийство каторжанином товарища – всегда и обязательно. Товарищ – не всякий. И часто каторжанин, совершивший убийство в тюрьме, на ваш вопрос: «Как же так, товарища?» – с недоумением ответит вам:
– Какой же он мне был товарищ? И даже смертельно обидится:
– Нешто я могу товарища убить. Вы говорите на разных языках.
«Товарищ» – на каторге великое слово. В слове «товарищ» заключается договор на жизнь и смерть. Товарища берут для совершения преступления, для бегов. Берут не зря, а хорошенько узнав, изучив, с большой осторожностью. Товарищ становится как бы родным, самым близким и дорогим существом в мире. И я знаю массу случаев, когда товарищ к товарищу, заболевшему, раненному во время бегов, относился с трогательной нежностью. К товарищу относятся с почтением и любовью и даже письма пишут не иначе, как: «Любезнейший наш товарищ», «премногоуважаемый наш товарищ». Почтением и истинно братской любовью проникнуты все отношения к товарищу.
Убить товарища в тюрьме – одно из величайших преступлений. Убить его с целью грабежа во время бегов – величайшее, какое только знает каторга.
Во всех сахалинских тюрьмах, в подследственных одиночках вы найдете несчастнейших людей в мире, ждущих как казни своего освобождения из одиночки. Полупомешанных от ужаса, дошедших до мании преследования. Все это – лица, заподозренные каторгой в доносе о предстоящем побеге, в указании места, где скрывается беглый, в уличении бродяги, в убийстве товарища во время бегов. И они имеют все основания сходить с ума. Каторга говорит:
– Не уйдут от нас! Пришьем.
Из того, что такие несчастные водятся во всех тюрьмах, вы видите, что даже закон товарищества в развращенной сахалинской каторге находит много нарушителей.
Таковы гражданский и уголовный кодексы каторги. Мне остается только сказать о постановке следственной части у каторжан. Каторга еще не пережила эпохи пыток. Производить обыск, сыск и розыск на каторжном языке называется «шманать», и на обыкновенный язык это слово следует перевести словом «пытать». Творя самосуд, каторга добивается истины жестокими истязаниями.
Капитан Моровицкий рассказывал мне, как в бытность его смотрителем Дуйской тюрьмы каторга производила там розыск убийц. Двоих заподозренных каторжане подбрасывали вверх и разом расступались. Несчастные грохались об пол. И это продолжалось до тех пор, пока несчастные, избитые в кровь и искалеченные, не сознались.
– Да это по-нашему называется просто шманать! – подтвердил мне потом и один из каторжан Иванов, производивший это следствие.






