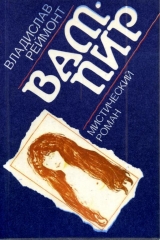
Текст книги "Вампир"
Автор книги: Владислав Реймонт
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
«Помнит ли она? Позволяет ли обожать себя с таким же, как и раньше, равнодушием? Бросала ли и другим в награду жалкие крохи своей царской милости? По-прежнему ли холодна и равнодушна?» – размышлял Зенон.
На сцене пели Ромео и Юлия.
Театр был полон. В ложах белели обнаженные плечи, блестели воспаленные глаза, искрились бриллианты и шелестели веера. Запах духов и цветов насыщал воздух.
В зрительном зале было темно, и только на залитой светом сцене притворные любовники пели о притворной любви. Томные звуки проливали раздражающий яд, зажигали безумную жажду поцелуев и дрожь страстных желаний. Страсть пела бесстыдную и ненасытную песнь наслаждений.
В тот миг, когда возлюбленные на сцене бросились друг другу в объятия, Ада уронила веер и, когда он подавал его, шепнула еле слышно:
– Помнишь?
Именно в этот момент он вспомнил то единственное необъяснимое мгновение и теперь при звуке ее голоса вздрогнул и поглядел изумленно.
Она сидела спокойная, холодная, как бы изваянная из мрамора.
Как ясно он теперь помнил тот вечер ужаса и безумья!
Он был у них в имении. Разразилась весенняя буря: то дождь лил ручьями, то вихрь срывался и ударял в стены дома, парк стонал, гремел гром и сверкали молнии.
Все общество было занято картами в соседней комнате, а он в небольшой темной гостиной играл на фисгармонии Баха. Играл, как всегда, для нее и, как всегда, пел ей о своей безнадежной любви.
Она пришла, привлеченная звуками, и мелькала по комнате, как белая тихая зарница. Ночь становилась все страшнее, небо зловеще гремело, казалось, что рушится весь мир. Она без страха смотрела на бурю и на ослепительные блестки молний, как всегда спокойная, гордая, молчаливая и такая мертвенно равнодушная, что у него на губах замирали слова признания, а душу заливали слезы безнадежного отчаяния.
В этот вечер они не сказали друг другу ни слова.
Он остался у них ночевать, так как возвращаться домой в бурю было небезопасно.
Когда он очутился в своей комнате и, погасив огонь, стал думать о том, что надо бежать из этого дома, бежать сейчас же и навсегда, открылась дверь, кто-то тихо вошел, ступая босыми ногами, и раньше, чем он успел опомниться, кто-то упал ему на грудь, обнял его, чьи-то губы впились в него жадными, голодными поцелуями, и он услышал чей-то сдавленный голос – голос восторга, страсти, безумия...
Теперь он не мог спокойно думать об этом и бессознательно поднялся с места. Ему не хватало воздуха, какая-то безумная жажда обессилила его...
К счастью, окончился акт, занавес упал и громовое «браво» заставило его прийти в себя.
Они с Адой вышли в фойе. Генрих предпочел остаться в ложе.
– Я знаю, о чем вы думали, – сказала она, глядя на него.
– Разве я мог думать о чем-нибудь другом?
У нее на губах мелькнула таинственная улыбка.
– Если бы не эта встреча, я бы забыл, – шепнул он, как бы упрекая самого себя, – я бы забыл навсегда.
На одно мгновение их разделила человеческая волна.
– Мы должны завтра встретиться. Я приду в Британский музей в одиннадцать часов. Вы будете меня ждать?
– Вы приказываете, значит, буду.
– Ах, нет, я прошу, прошу, – мягко повторила она.
– Вы еще долго пробудете в Лондоне? – спросил он уже спокойнее.
– Это зависит от того, что вы мне скажете завтра.
Она поглядела ему в лицо робко, вопросительно.
– Я должен решить? Вы никогда не желали меня даже выслушать, а теперь... Какую же новую обиду вы готовите мне? – горько улыбнулся он.
Ада побледнела, глаза ее затрепетали, и почти со стоном она произнесла:
– Вы меня ненавидите!
– Нет, я только защищаюсь, потому что слишком хорошо помню прежнее.
– Итак, до завтра, я вам все и объясню.
– Я этого ждал десять лет, – прошептал он, возвращаясь в ложу.
Начался следующий акт. На сцене одна картина сменялась другою, но он ничего не замечал, не видел даже тех пламенных взглядов, какими окидывала его Ада. Он сидел согнувшись и перебирал в уме прежние обиды, мучил себя воспоминаниями того времени и той непонятной ночи.
Она пришла и сама отдалась ему.
Сколько ужаса было в этих мгновениях страсти!
И зачем? Зачем? Зачем?
Ах, да, завтра он наконец узнает обо всем.
Но кто и чем вознаградит его за муку стольких лет? Кто вознаградит: она ли, эта прекрасная мраморная женщина, которую он уже не любил и не желал? Ведь он мечтал о той, уже умершей, навек погребенной в сердце. Не воскреснет то, что рассыпалось прахом.
Теперь он хорошо помнил, как на заре она уходила от него и на все его мольбы и вопросы не ответила ни слова.
Ушла – как сон, и хотя вскоре яркий день заглянул в окно, солнце сияло и пели птицы, ему все-таки казалось, что все это было только мечтой. И в той радости, которая по временам охватывала его, было столько беспокойства, страха и неуверенности в собственном счастье, что все время до завтрака он провел в мучительном ожидании.
К завтраку она не вышла.
Он один только знал, почему не явилась она, и ему хотелось обнять весь мир в порыве безграничного счастья.
Развод, жизнь с любимой женщиной... все представлялось ему ясным, простым и искренним. Он был бы не в состоянии обманывать кого-либо: тайных любовников он презирал. Мечты о будущем опьяняли его, он ждал ее появления с невыразимой тоской.
Но она не выходила два дня.
Генрих говорил, что она больна и лежит в кровати.
Дольше Зенон не мог ждать: он написал ей письмо, в котором выразил всю свою любовь, всю веру и всю надежду на их совместную будущую жизнь.
Письмо она возвратила ему, не распечатав.
И на третий день, выйдя из своей комнаты, она была, как всегда, холодна, равнодушна и несколько высокомерна.
Он обезумел от горя и, не понимая, что с ней произошло, в отчаянии потребовал от нее решительного объяснения, но она отошла, не произнеся ни слова.
Он начинал думать, что произошла какая-то страшная ошибка.
Но однажды, в минуту сострадания, она сказала ему откровенно:
– Не спрашивайте, все должно быть по-прежнему, когда-нибудь я все объясню вам.
Но так как он не сумел жить по-прежнему, обманывать себя туманными надеждами, так как проходили недели, а она была все так же холодна, неприступна и далека, то он последним, отчаянным усилием порвал все связи, соединявшие его со страной, бежал и создал себе новую жизнь, почти позабыв обо всем пережитом.
А теперь, по прошествии стольких лет, перед ним встает призрак минувшего.
«Чего она от меня хочет? – угрюмо думал он, погружаясь в глубину ее гордых, царственных глаз. – Не пойду в прежнее ярмо, не дамся», – восстал он, раздражаясь все сильнее.
Когда вышли из театра, Генрих очень любезно напомнил ему, что он обязан проводить с ними все время.
– Я уже пригласила пана Зенона на завтра в Британский музей.
– Приду, если моя невеста не распорядится мною иначе.
У Ады на мгновение перехватило дыханье, но она спокойно сказала:
– О, да, невеста конечно же имеет преимущество перед нами.
Генрих стал с любопытством расспрашивать о невесте.
– Завтра расскажу подробно. Вы должны познакомиться с ней. Это даже хорошо, что так сложилось: она узнает по крайней мере хоть кого-нибудь из моих родных. До свидания.
И они расстались. Зенон возвращался домой раздраженный, злой на самого себя, на них и на весь мир и решил, что не пойдет в Британский музей.
«И зачем? Бередить старые раны? Что нового я узнаю? Узнаю, что все это произошло под влиянием грозы и минутной слабости?.. Но почему она со мной так поступила?» – вспыхнул в нем снова этот старый, так давно мучивший его вопрос, и он уже не мог принять никакого определенного решения.
Дома Зенон нашел письмо от Бэти, которая просила его прийти к ним возможно скорее, чтобы решить вопрос о поездке на материк. Письмо было написано с такой глубокой нежностью, что под его влиянием Зенон забыл на время о том, что его мучило, и написал очень искренний и подробный ответ. Он уже встал, чтобы отнести письмо швейцару, как вдруг постучали в дверь.
– Войдите! – крикнул он удивленный: весь пансион давно уже спал.
На пороге стоял малаец и что-то бессвязно бормотал.
– Что случилось? Говори яснее, не понимаю!
– Идите скорее... сидит еще с тех пор, как стало смеркаться... я не...
Зенон больше его не слушал и бросился наверх.
В круглой комнате, там, где когда-то происходила сцена бичевания, Джо сидел на полу, поджав под себя ноги, согнувшись и глядя вперед стеклянными глазами.
Хрустальный шар под потолком мерцал бледным зеленоватым светом.
– Джо, Джо!
Тот даже не шелохнулся, только безумная улыбка заиграла на его синих губах, потом он беззвучно пошевелил губами и наклонился несколько вперед. Зенон проследил направление его взгляда и остолбенел. Напротив у стены сидел кто-то совершенно похожий на Джо, как бы его зеркальное отражение, так же согнутый, с такими же стеклянными глазами, с той же безумной улыбкой на посиневших губах.
Зенон испуганно огляделся: малайца уже не было, но те двое продолжали неподвижно сидеть и напряженно всматриваться друг в друга.
У Зенона пот выступил на лбу и сердце перестало биться.
«Что это, сон, что ли? Что это значит?» – думал он, протирая глаза.
Но это был не сон, и то, что здесь происходило, было какой-то непонятной действительностью и продолжало оставаться перед его глазами. Он внимательно рассматривал обе фигуры, но никак не мог решить, которая из них является отражением другой. И здесь и там был Джо, совершенно такой же, вполне реальный, настоящий.
– Значит, это возможно, значит, это правда? – шептал он побледневшими губами, возвращаясь памятью ко всему тому, что он видел и слышал и над чем всегда смеялся, считая это или сумасшествием, или обманом. Теперь для него настали минуты страшного прозрения, но его сознание не принимало эту непонятную действительность, он боролся с ней, боролся с собственным разумом, с собственной душой, чтобы только не дать себя ввергнуть в пропасть безумия. Разве может происходить то, что противоречит физической природе? Разве может человек раздвоиться? На глазах у него совершалось чудо, и он видел это чудо и проверял своим сознанием. Видел, но не мог понять.
Ужас охватил его и поверг в прах смирения перед какой-то неведомой силой.
– Боже мой, Боже! – тяжело вздохнул он, и молитвенная сладость наполнила его испуганное сердце. Первый раз в жизни повисло над ним всей своей тяжестью неведомое. Первый раз в жизни взглянул он в слепые глаза вечной загадки и отпрянул в священном ужасе и омертвении, а из сердца струей бесконечной любви и обожания лились слова какой-то позабытой молитвы. Он не знал, кому открывает свою душу, полную тревоги, кому посылает он эти горячие вздохи, кого боготворит, перед кем преклоняется, – но знал, что он должен делать это всем своим существом, всей глубиной пламенного чувства.
Потом он вышел, зажег свет во всей квартире и стал расхаживать по комнатам в каком-то странном, необъяснимом состоянии.
Малаец стоял на коленях в китайском кабинете перед золотой статуей Будды и нервно перебирал четки.
Время тянулось тихо, но было в нем столько беспокойства и тревоги, что каждый звук стенных часов отдавался в сердце Зенона пронзительным гулом. Иногда слышно было, как дождь звенел по оконным стеклам, иногда шумели деревья и согнутые голые прутья мелькали за окном призрачными очертаниями.
Зенон то и дело заглядывал в круглую комнату и всякий раз видел одно и то же: два Джо сидели, глядя друг на друга, одинаково согнутые и неподвижные. В зеленоватом освещении, словно в глубине мутной колеблющейся воды, они сидели как две статуи с живым, но безумным взглядом. Зенон подходил к ним, окликал, прикасался к холодным рукам, пытался поднять, но они точно приросли к полу, и, несмотря на все усилия, он не мог сдвинуть их с места.
«Который из них Джо? Который?» – думал он с мучительным напряжением и, не в силах разрешить этого вопроса, снова принимался бродить по квартире. Все с большим нетерпением ждал он разрешения этой ужасной загадки. Пробило уже шесть часов, когда из круглой комнаты донесся протяжный стон. Зенон стремглав бросился туда. Джо лежал в обмороке посредине комнаты и был уже один. Его перенесли на кровать и энергично стали приводить в чувство; вскоре он открыл глаза, внимательно поглядел кругом и совершенно ясно прошептал:
– Он еще здесь?
Голос его дрожал от страха.
– Никого нет. Как ты себя чувствуешь?
– Я ужасно устал, ужасно... ужасно... – повторял он медленно и сонно. Зенон посидел при нем, пока он не уснул, и затем, вернувшись к себе, сразу же лег в кровать.
В одиннадцать часов утра он был уже в Британском музее под колоннадой.
Зенон чувствовал сегодня странную грусть и вялость и, как ни старался, не мог ни на чем сосредоточиться. Мысли его текли как вода сквозь сито, даже воспоминание о том, что происходило ночью, не возбуждало в нем никаких чувств и было ему так же безразлично, как и все остальное. Он весь был как этот зимний день, туманный и скучный.
Наконец появилась Ада, такая красивая, стройная и очаровательная, что все глядели на нее с нескрываемым восхищением.
Они поздоровались молча, ему нечего было сказать, а ей нужно было сказать так много, что глаза ее пели радостный гимн, а на губах вспыхнула улыбка, как отблеск внутреннего пожара.
– Вы прекрасно выглядите, – произнес он банальную фразу.
– Потому что я счастлива... – Она прижалась к нему плечом, и он почувствовал, как она дрожит. – Говори со мной, я так хочу слышать твой голос, я столько лет ждала! – нежно просила она.
– Позволь мне это первое мгновение почтить молчанием, – произнес он с изысканностью и с какой-то бескровной улыбкой на губах.
Они вошли в Египетский зал. Сфинксы, громадные саркофаги, боги, изваяния священных животных, обломки колонн – осколки жизни, умершей много веков тому назад, стояли густой толпой в громадной, темной галерее. Блеск порфира, поблекшие краски живописи, таинственные надписи и таинственные улыбки богов, устремившихся пустыми глазами в непонятную даль, рассеивали угрюмую и тревожную тишину вокруг. В молчании слышался голос грозной тайны. В немом равнодушном бытии таилась вечность. Из глаз богов струились лучи неумолимого и неизбежного, и каменное спокойствие их раздражало, беспокоило и наполняло человеческую душу трагическим страхом.
– Почему ты оставил родину? – спросила вдруг Ада.
– Меня изгнало твое равнодушие, не помнишь?
– Мое равнодушие? – повторила она как эхо.
В нем проснулась старая мучительная обида, – он даже несколько отодвинулся от нее.
– Я пришел просить тебя объяснить мне...
– Только за этим? – Отчаяние прозвучало в ее голосе и мелькнуло во взгляде.
– Вчера мне это было обещано, – холодно сказал он.
Они сели у громадного камня, покрытого иероглифами.
– Да, ты имеешь право требовать... скажу тебе все, спрашивай!
Голос ее дрожал, и лицо затуманилось печалью, но он, как бы не замечая этого, безжалостно спросил:
– Зачем тогда... в ту ночь?.. – он не сумел кончить фразы.
– Вандя – твоя дочь, – смело и просто ответила она.
Он отстранился от нее в глубочайшем изумлении, почти в ужасе и долгое время ничего не мог сказать.
– Вандя... моя дочь... Вандя?
– Твоя. Вот я тебе все и объяснила.
– Это объясняет только один факт, но не все. Я ничего не понимаю. Вандя – моя дочь! Но почему ты после этого была так равнодушна ко мне? Почему позволила мне страдать? Почему заставила меня бежать? Почему?
Его вопросы падали как тяжелые камни, яростно и мстительно, а она глядела на него с мольбой в глазах.
– Теперь я скажу тебе все... ничего не скрою... пусть будет, что будет, я копила мужество для этого разговора, а теперь, Боже мой, как мне тяжело! Ты не представляешь, как страстно может желать ребенка одинокая женщина, такая замужняя девственница, какой я была... а ты был для меня идеалом человека, я знала, что ты меня любишь, и знала, что, достаточно мне позвать тебя... но разве я могла сказать, что мне от тебя надо? Говорю теперь совершенно искренне, что тогда мне нужен был не ты, не твоя страсть и не мое счастье. Всей силой непреоборимого инстинкта я жаждала материнства и не могла на это решиться... Я должна была побороть в себе женский стыд, привитый нам веками, должна была переломить свою натуру... Долгие месяцы продолжалось мое мучение, ты даже не догадывался, что происходит во мне... Я ждала какого-то чуда, но чуда не происходило... и вот наконец в ту ночь я решилась... знай же всю правду, я не стыжусь этого, потому что я мать... твоего ребенка.
Ада умолкла, охваченная глубоким волнением. Она была так прекрасна в искренности своего признания. Она стояла как сама жизнь, вечно жаждущая оплодотворения и вечно плодотворящая, непорочная, как солнце, чистая, как цветок, и, как Ева, гордая святостью своего предназначения.
Но Зенон будто не видел этого. Выпив из ее признаний яд страшного унижения, он со сдержанным бешенством прошипел:
– А потом я был тебе уже не нужен! Ты – паук!
– Не говори мне так, это бессердечно.
– А разве не бессердечно то, что ты мне сказала? Значит, тебя не любовь бросила в мои объятья, не страсть, не миг святого восторга, а только дикий инстинкт размножения. Я желал тебя не как самку, – нет, я любил твою душу, твою высоту, твое человеческое достоинство. А ты искала во мне только самца. Почему именно на меня пал твой выбор? Я оказался в роли орудия... Это прямо ужасно!
Его давило бессильное бешенство унижения и безмерной обиды. Ада слушала мужественно, хотя временами лицо ее покрывалось мертвенной бледностью и голова склонялась все ниже.
– И зачем ты мне все это рассказала? – простонал он.
– Я люблю тебя...
– Может быть, потому, чтобы снова... – издевался он.
Она подавила в себе обиду, схватила его руки и, целуя их с каким-то молитвенным трепетом, шептала со слезами на глазах:
– Сжалься надо мной! Я всегда любила тебя, но лишь после твоего отъезда я поняла, что я теряю. Только в эти бесконечные годы одиночества я познала всю бездну страданья.
Она стала рисовать ему такую тяжелую картину многолетних мучений, тоски и безнадежного ожидания, что душа его смирилась и он смягчился. Но когда она стала мечтать об их будущем, он вдруг нахмурился и спросил:
– А Генрих?
– Зачем же нам вспоминать о нем в это мгновение?
Он с удивлением оглянулся, как будто эти слова произнес кто-то другой.
– Ведь мы говорим только о нас с тобой, – убежденно добавила она.
Он улыбнулся, будучи не в состоянии удержаться от колкости:
– Конечно, муж всегда должен быть обманут.
– Я его никогда не обманывала, – гордо подняла она голову.
– Никогда? А Вандя? – ударил он, как ножом.
– Я всегда была ему только сестрой, и он знает, что это моя дочь. Он сам этого желал, сам мне в этом признался.
– Он знает и сам этого желал?
– Что же тебя удивляет?
– Но это совершенно невероятно.
– То, что он пересилил свой эгоизм ради моего счастья? Ведь в этом не было с его стороны даже жертвы. Какая же это жертва? А во мне он имеет зато верного друга до самой смерти.
– Не могу этого понять, не умею. Первый раз в жизни встречаю такое невероятное положение вещей. Он прямо святой.
– Он только добрый и умный человек.
– И это его удовлетворяет?
– Должно удовлетворять. Войди только в его положение: что бы он делал теперь без меня, один, больной, брошенный на произвол прислуги?
– Но и твоя жизнь не слишком завидна.
– Поэтому я и приехала взять свою долю счастья.
Он грустно улыбнулся и сказал с тихим упреком:
– Если бы ты тогда прочла мое письмо...
– Я догадывалась, что ты мне предлагал развод и брак.
– И ты возвратила мне письмо, не распечатав.
– Потому что не могла стать твоей женой.
– Несмотря на то, что произошло?
– Даже несмотря на Вандю, даже несмотря на все.
– Ах да, ведь тебе надо было только...
– Я любила тебя и именно потому никогда не стала бы твоей женой... никогда!
Он молчал, удивленный решительностью ее тона.
– Никогда, потому что я желала и желаю, чтобы ты свободно шел своим высоким путем. Орлы должны летать высоко над землей, вдали от будничных дел. Жена для истинного художника становится злым, разрушительным демоном, становится его вампиром.
– Поэтому ты сознательно обрекла меня на страдания?
– Да, но я посвятила этому также и мою жизнь, и из моего страдания выросли у тебя крылья, из моих желаний и из моих слез родился ты.
– Кто же ты, кто ты?
Его внезапно охватил какой-то суеверный страх.
– Я люблю тебя, – шепнула она, одаривая его тихим и ласковым взглядом.
Они долго молчали, проходя по бесчисленным залам, наполненным чудесами всех времен и народов. На лицо Ады легла тень смирения и покорности, он приглядывался к ней все более внимательно и участливо и наконец с грустью произнес:
– Что же я могу дать тебе теперь за такую любовь?
– Вернись на родину, я больше ничего не желаю; я буду счастлива уже тем, что вернула тебя родной стране и литературе, разве этого мало?
– Неужели я смогу жить там по-прежнему?
– Но ведь уже умерло то, что было для тебя злом, и тебя ждет там новая творческая жизнь. Твое место не занято. Ты опять станешь во главе нашей литературы и только иногда будешь навещать свою дочь и свою сестру-любовницу. Для себя я больше ничего не желаю, ничего, – добавила она тихо и грустно.
– Искушение святого Антония, волшебное искушение. Да, это те мечты, которые жили в моей душе. Но смогу ли я вырваться отсюда? Я так врос в здешнюю почву, так глубоко с нею связан.
– А самое главное – невеста? – Дольше она уже не могла сдерживать себя.
– Не только. Есть более серьезные причины. – Он беспокойно огляделся кругом, как бы боясь увидеть призрак Дэзи. – Бывают иные препятствия, лежащие вне нашей индивидуальной воли.
– Я вырву тебя отсюда и увезу с собой. Я буду бороться тебя с тобой самим. Преодолею все, увидишь, преодолею невозможное, но не отдам тебя уже никому и ничему, – говорила она с необыкновенной силой и потом добавила тихо, печально и робко: – Если только ты не связан сердцем или честью.
– Нет, нет, – нерешительно, слабо защищался он: в памяти его всплыла, как розовый куст, доверчивая и любящая Бэти.
– Возвращайся на родину с женой, мы ее быстро сделаем полькой, – сказала она, угадывая его тайное беспокойство, – так даже будет лучше для нас всех.
Глаза ее наполнились слезами, грудь тяжело вздымалась, но он не заметил этого, не почувствовал и произнес:
– Я думал уже и об этом.
Они вышли из музея и поехали домой.
Отвратительный желтый холодный туман заливал весь город, он плыл, как грязная вспененная вода, из-под которой едва виднелись темные очертания домов и людей. В узких улицах горели фонари, несмотря на то что был полдень, и никогда не смолкавший крик города просачивался сквозь туман глухим, неровным шумом.
Ада из-под опущенных ресниц наблюдала за ним, погруженным в раздумье. Она чувствовала, что он был от нее далеко, и это наполняло ее безграничной грустью. Ведь на ее любовь он не ответил ни одним теплым словом. Но она поборола в себе боль и отчаяние, разрывавшие сердце, и мягко спросила, прикасаясь к его руке:
– О чем ты думаешь?
– Трудно даже определить: сразу обо всем и ни о чем.
Ада опять погрузилась в горькое молчание.
И лишь когда они расставались, он горячо произнес:
– Ты воскресила во мне душу! Я приду к вам вечером, я уже не могу теперь обойтись без тебя... Поцелуй за меня Вандю. Ты открыла передо мной какие-то новые заманчивые горизонты. Я боюсь пока об этом говорить. Мне иногда кажется, что все то, что я пережил сегодня, только моя мечта о будущем. Может, это только галлюцинации – не знаю еще. Не знаю. Блуждаю еще...
– Я люблю тебя – вот настоящая правда!








