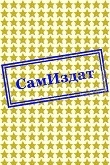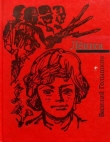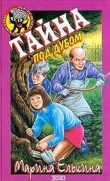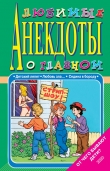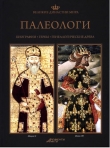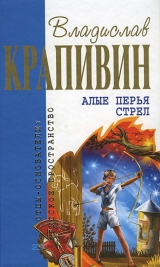
Текст книги "Алые перья стрел (сборник)"
Автор книги: Владислав Крапивин
Жанр:
Детская фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
– Кто же ты будешь по национальности с таким чудным именем? – спросил Иван Мойсенович.
– Украинец я. Закарпатский. Слыхал про такие горы – Карпаты?
– Я слыхала, – отозвалась Соня Курцевич. – Только зовут тебя больно сложно и длинно. Хочешь быть просто Айвенго – по первым слогам?
– Я фрицев хочу стрелять, а под каким названием, мне все едино…
Девять лет прошло с тех пор, а так и не отклеилось от закарпатского плотогона звонкое прозвище. До курьезов доходило дело: в собственном райотделе милиции, где он работал седьмой год, машинистка однажды так и отстукала ему справку: «Предъявитель сего мл. л-т Айвенго А. В….»
Жил он холостяком, потому что не захотел разменивать память о жене, погибшей в конце войны от бандеровской пули на родных полонинах. Побывал вчерашний партизан на ее могиле и вернулся в белорусский край – служить в милицию. Он и после войны сводил с фашистами счеты за жену и собственные лагерные муки, когда вылавливал ушедших в подполье гитлеровских прихвостней. Не щадил себя в рукопашных схватках, когда брали лесные бандитские ямы. Его геройство без слов подтверждали три медали «За отвагу». Но была и другая память о боях: в сырую погоду шевелилась под коленом пистолетная пуля, огнем горела резаная рана на левом плече. И казалось, не будет конца этой изнуряющей боли.
В мирной жизни Айвенго был флегматичным и не очень общительным человеком. Одной неизменной его привязанностью были мальчишки. Летние рассветы он встречал с удочкой на речной старице, вечерние зори проводил там же. И всегда с мальчишеским эскортом. Хлопцы зачарованно следили за каждым его движением и пытались постичь тайны рыбацкого счастья. Пока у них один окунишко клюнет, Айвенго двух сазанов вытащит. У них и пескарь не берет, а участковый лещей тягает. Когда клев кончался, он собирал вокруг себя хлопцев и распределял свой улов среди неудачников.
– Берите-берите, а то батьки вас завтра вместо реки гусей пасти пошлют. Теперь соображайте, почему этот сазан сел на мою уду, а, скажем, не на твою. Потому, что я в тени куста лежал, а твоя тень, наоборот, сама на воду легла. Другой факт: ты всего червяка насаживаешь на крючок, и он у тебя через минуту уже дух испустил. Кому же охота глотать дохлую наживку. А ты делай вот так… вот так: чтобы он крутился.
Потому-то и было для мальчишек каждое слово Айвенго законом. Сейчас он осматривал своих трех друзей с высоты дворовой скамейки, а они смирно сидели у ее подножья. Начинать разговор участковый не спешил. Вспоминал события сегодняшнего дня…
Дело в том, что дымок над лесом он и сам видел ранним утром, когда шел на рыбалку, и весьма заинтересовался. Самогонщиков участковый сразу отмел в сторону: знал он их наперечет и не верил, что кто-нибудь полезет на рожон. Отдыхающие? В будний-то день?
На два часа раньше Варькиного звена он побывал в ельнике. Видел круглое кострище. А вот медведя не встретил и яичную скорлупу тоже просмотрел – это удача хлопцев. Зато после выхода из ельника он обнаружил на берегу нечто весьма любопытное.
…Младший лейтенант милиции не был следопытом-профессионалом и не кончал специальных учебных заведений подобного профиля. Но в юности он был неплохим охотником в родных Карпатских горах. Почти три года «партизанки» тоже основательно научили его замечать то, чего другие не видят. Ну, а шесть лет службы в милиции тем более дали многое. К тому же природные неторопливость и рассудительность. Впрочем, он не знал, что повторяет методику знаменитых детективов, когда действовал по принципу: а как бы я сам поступил в данной обстановке?
«Что бы я делал дальше?» – задумался Айвенго, обнаружив сегодня утром на прибрежном песке след мужской туфли. Не сапога, не грубого ботинка, а именно туфли – узкой и остроносой с довольно высоким каблуком. След шел прямо из воды. Может быть, человек заходил в нее просто помыть обувь? Но «входящих» отпечатков не было. Значит, обладатель модной обуви появился из реки, с мокрыми ногами. И, видимо, не только ногами, потому что речное дно здесь круто уходило вниз. Следовательно, человек брел или плыл по реке в одежде.
Итак, он был мокрый. До нитки. Что обычно делает человек в таких обстоятельствах? Спешит обсушиться. Можно, конечно, подставить бока летнему солнышку, но след-то явно ночной; если сейчас на часах Айвенго было только семь утра, а края отпечатков на песке уже подсушило ветром, то ясно, что пришелец выбрался на берег затемно. Значит, нужен был костер. Но на песчаной косе топливо не водится. Выручить должен был ближний лес. Туда и отправился неизвестный. Теперь понятно, откуда взялось свежее кострище в ельнике.
Так рассуждал Айвенго, осторожно крутясь на берегу у найденного следа. Чего он крутился? А на всякий случай. Пока он старался не задумываться, какая нелегкая занесла в реку, да еще ночью, человека в городских туфлях. Мало ли в жизни бывает самых неожиданных случаев. Ясно одно: если этот водолаз имел при себе какую-нибудь поклажу – ну, вроде рюкзака, – то он не потащит ее с собой в лес. Он мог попытаться нести груз, а когда напоролся на чащобу ельника, то должен был плюнуть и бросить поклажу у кромки леса.
«Лично я так бы и сделал, – развивал свою мысль Айвенго. – А дальше? Сразу бы, как обсушился, вернулся сюда за вещами? Вряд ли. У костра человека разморит от тепла, вчерашнего хмеля и бессонной ночи, и он завалится где-нибудь похрапеть. Стало быть, есть смысл подождать, а пока поискать…»
Рюкзак он не обнаружил, а нашел под можжевеловым кустом влажную полевую сумку из желтой кожи. В последнее время у городской молодежи стало модным носить такие сумки на ремне поверх разных там коверкотовых пиджаков и вязаных жакетов. Вместо портфелей, что ли.
Ясно. Пижон из города оказался вчера ночью на том берегу Немана и за каким-то чертом решил плыть на этот берег. Несомненно, с пьяных глаз; может, с дружками поскандалил, а может, перед девчонкой характер показывал. Что ж, подождем. Выспится и явится. Уж больно интересно: кого и по какой причине сюда занесло?
Но солнце поднималось, а никто не являлся. Может, парень плюнул на свое имущество и отправился в райцентр опохмеляться?
Айвенго решил заглянуть в сумку. Все соответствовало родившейся версии. В одном отделении лежало махровое полотенце, шелковые носки в шашечку, два носовых платка, мыльница, зубная щетка и зеркальце (ишь франт!); в другом отделении поместился сверток из вощеной бумаги, а в нем бутерброды с колбасой и яйца; в третьем находилось несколько фабричных наборов для ужения рыбы: на пластмассовых рубчатых пластинках намотаны прозрачные капроновые лески с яркими поплавками, грузилами и привязанными крючками. Такое богатство Айвенго видел впервые. Особенно его восхитили капроновые жилки. Заграничные, что ли? Нет, на пластинках стояли штампы: «Артикул 14–51. Минск. Промартель № 12. 9 руб.». Дешевка, а какое удобство. «Нам небось такое в продажу не дадут, – расстроился участковый. – Все кобылам дерем хвосты!»
Участковый от нечего делать пересчитал яйца. Девять штук. Значит, одно слопал: для круглого счета обычно берут в дорогу десяток. Крутанул яйцо на твердой сумке – не вертится, сырое. Значит, намеревался печь на костре. Удивительно, что яйца не подавились во время заплыва. Впрочем, скоро их придется выбрасывать: трехдневной давности, вон стоит розовый штамп «29.7», а при нынешней жаре…
Он не дождался владельца сумки, засунул ее снова под куст (зачем причинять огорчение загулявшемуся пижону?) и отправился в поселок.
Откуда ему было знать, что через пару часов в ельнике начнется мальчишечье-медвежий переполох и на опушку выскочит тот, кого он напрасно высматривал, а потом выбредут из леса чумазые и измученные, взбудораженные встречей с топтыгиным члены Варькиного звена…
АЙВЕНГО И ГЕОМЕТРИЯ
Когда в девять ноль-ноль он доложил начальнику о дымке над лесом и, как следствие, о найденной сумке, майор недовольно пожевал губами:
– Дело-о! Обнаружил какого-то пьяного дурака… Ладно, покажи сумку.
– Но, товарищ майор… я ее на месте оставил.
– Ч-чего? Ты случайно не переутомился в смысле соображения?
– Так ведь вернется парень – искать будет. Ему и пожевать нечего перед отправкой в город. Одним яйцом сыт не будешь.
Начальник уже не хлопал губами, а железно их стиснул и минуты две пронзительно глядел на участкового. Наконец спросил хриплым голосом:
– Каким еще яйцом?!. А ну, доложи, что было в сумке!
Айвенго доложил. Когда он дошел до рыболовных лесок, майор побледнел и рванул телефонную трубку:
– Товарищ подполковник! Разрешите срочно зайти к вам с нашим сотрудником младшим лейтенантом Ай… Горакозой.
Они почти бегом пересекли улицу от райотдела МВД до райотдела МТБ, и там младший лейтенант услышал такое, что ему и присниться не могло.
Вчера еще он был в отпуске и лишь сейчас узнал о самолете без опознавательных знаков. Но не это кинуло его в холодный пот, летали и раньше. Однако ему прочитали (возможно, и не полностью) документ, полученный из вышестоящей инстанции: «Агент-парашютист может также быть снабжен миниатюрной радиоаппаратурой новейшей конструкции, рассчитанной на разовую передачу краткого сообщения о своем местонахождении. Передатчик может быть вмонтирован в конфетную обертку, сигаретную гильзу, яичную скорлупу и т. д. и поэтому после использования мгновенно уничтожен, что затрудняет обнаружение вещественных доказательств».
«Все. Под суд!» – почти хладнокровно подумал Айвенго.
«…Для приведения микроаппарата в действие и подачи разового сигнала-импульса достаточно раздавить в ладони его упаковку. В качестве антенны используется специальная проволока, замаскированная под капроновую рыболовную леску, натягиваемую для ускорения действий радиста в одном направлении на небольшой высоте, горизонтально, на расстояние от трехсот до трехсот пятидесяти футов. Антенна обеспечивает работу передатчика на волне… а затем самоуничтожается (плавится от искры в передатчике)…»
«Не просто под суд, а под трибунал, – отрешенно подумал участковый. – Полюбовался городскими удочками, добрая твоя душа!»
Но подполковник смотрел на него как-то странно. Чуть ли не с улыбкой.
– Что, Айвенго? Маетесь? Мечтаете о ковре-самолете, чтобы мчаться назад и успеть захватить сумку, а может, и ее хозяина. Так?
– Так точно!
– Ну и не надо. Вы все правильно сделали. Если владелец сумки действительно агент и если он вас видел, то очень хорошо, что вы были в гражданской одежде: он ничего не заподозрит. Покопался, мол, дядька в чужом имуществе и по-честному оставил его в покое. А если он вас все-таки не видел, что более допустимо, то совсем хорошо. Сумка на месте, агент будет спокойно продолжать свои действия и выходить на связь еще… Сколько раз, товарищ младший лейтенант?
– Девять, товарищ подполковник! – К Айвенго вернулся дар соображения.
– Именно так. И мы всегда сможем…
– …взять его с поличным.
– Не спешите, товарищ Ай… э-э… младший лейтенант. Мы всегда сможем следить за его передвижением, поскольку уже знаем длину волны передатчика. – Подполковник щелкнул ногтем по телеграмме на столе. – Это если не засечем, так сказать, визуально. В любом случае хватать за шиворот его рано: он же к кому-то пришел, кого-то ищет, что-то собирается делать. Надо знать, кого и что… Но прежде всего необходимо убедиться, что ночной пловец действительно тот субъект, который нам интересен. Сумеете это доказать, товарищ младший лейтенант? С помощью полученных вами здесь дополнительных сведений…
– Так точно, – обрадованно подтянулся Айвенго. – Разрешите вопрос: триста этих футов – сколько будет метров?
Подполковник улыбнулся:
– Эге, да я вижу, у вас уже и план какой-то есть. Будет примерно сто метров. Желаю удачи!
О походе мальчишек в лес Айвенго узнал от Петра, к отцу которого шел, чтобы попросить назавтра его плоскодонку. Узнал и испугался: а не напортили ли шустрые хлопцы чего-нибудь в лесу? Но рассказ о встрече с «двумя» медведями его только убедил, что там в самом деле был чужой человек, а сбереженная Петром крохотная скорлупа и вовсе обрадовала. Пока хлопцы собирались по его вызову, Айвенго успел доставить находку туда, где он уже был утром. Скорлупу обследовали. Она оказалась остатком вполне натурального яйца, но внутри не обнаружилось ни малейшего признака белка или желтка.
– …Ребята, прикиньте, сколько примерно будет метров от костра до места, где лежала скорлупа?
Хлопцы зашевелили мозгами. Задачка оказалась не из легких, и Варфоломей стал рассуждать вслух:
– Значит, так. Шли мы цепочкой, через двадцать метров или около того. Василь от меня справа, Петро, через Юзика, слева. Выходит, от костра до Петра было… метров шестьдесят. Так, дядя Айвенго?
– Да, но не между костром и скорлупой. Вы же не сразу обнаружили то и другое, Петро после костра еще продвинулся вперед. На сколько?
Хлопцы опять поникли головами и зашевелили губами. Вот где оказалась нужна арифметика! На сколько же метров уполз этот Петро, пока не закричал удодом? Прибрежной опушки они достигли примерно за три часа. А это три километра – измерено по просеке. Средняя скорость получается километр в час. Удод ухнул после синицы минут через пять. Тысячу метров требуется разделить на шестьдесят минут – получим скорость движения: примерно шестнадцать метров в минуту. Затем их надо умножить на пять минут…
– Дядя Айвенго, получается восемьдесят метров, – почти одновременно возгласили трое следопытов.
– Спасибо, грамотеи, но вы опять посчитали не то расстояние. Костер-то от Петра оставался наискосок.
Ребята растерялись– а ведь действительно, круглое кострище ушло куда-то вбок. Но как рассчитать эту третью линию, они попросту не знали: в четвертом классе геометрию не проходят.
– Ладно, хлопцы, я хоть и в зрелом возрасте кончал вечернюю Десятилетку, но помню, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов…
Он нарисовал пальцем на песке прямоугольный треугольник, расставил по его коротким бокам цифры «60» и «80» и тоже зашевелил губами. Ребята глядели на Айвенго с глубоким почтением. Через пять минут он встал и торжественно поднял испачканный в песке палец:
– От костра до скорлупы было сто метров. Что мне и требовалось доказать. Очень требовалось, хлопцы вы мои дорогие!
– А зачем, дядя Айвенго?! – мальчишки тоже вскочили на ноги.
…И сказать им было нельзя, и отправлять разочарованными жалко. Он нашел мудрое решение: попросил их наловить к утру как можно больше божьих коровок, снять со своих удочек грузила, явиться на берег в пять ноль-ноль. Тогда он им кое-что покажет. А сейчас – бывайте здоровы!..
Веселее жить, когда впереди ожидается что-то интересное. Но и о делах забывать нельзя. Раз Юзиков батя просит помочь бригаде, надо помочь. Тогда появится в летнем дневнике звена еще одна выразительная запись: «2 августа 1951 года. Пионеры звена № 2 обеспечили горячей пищей жнецов колхозной бригады в количестве…» Вообще-то записей в коричневой дерматиновой тетради скопилось за лето уже немало. Были и такие: «Звено вытащило из болота телушку, которая тонула, которую пас безо всякого розума первоклассник Тихон Мозоль. Матери не сказано». Или: «В школу грузовик привез торф, шофер покидал у сарая не весь, а увез к себе на двор. Ночью доставлено к школьному сараю 14 ведер. Собаку кормили салом, которое принес Микола».
Вот последняя запись: «Копали у старой бани червяков, нашли ящик, похоже, железный, а что в нем, пока не знаем».
Содержательно жило звено.
БУДНИ
Вершинины обитали втроем в кирпичном трехкомнатном доме. Кроме комнат была кухня и застекленная веранда. Софья Борисовна немного конфузилась: «Вроде бы и многовато для нашей семьи, да у прежнего секретаря было шесть душ, а домик достался нам как бы по наследству, когда того в область перевели». Зато четырехлетняя Лялька нисколько не смущалась излишками жилплощади. Ей было даже маловато пространства для лихих гонок на трехколесном велосипеде. Сшибая по дороге стулья, она гоняла из кухни через прихожую на веранду, преследуя ошалелую кошку.
– Катись, Лялька, на двор! – умоляюще сказала мать.
– Не хочу! Там песок. Там колеса бускуют.
– Надо говорить «буксуют».
– А мне так легче. Это ты говори правильно, раз учительница, а я еще маленькая.
Софья Борисовна ахнула и дернула дочь за ухо. Лялька выдержала. Нахально спросила:
– А если я тебя так? Только ты, пожалуйста, нагнись…
Алексей хохотал на диванчике. Племянница приблизилась к нему, понаблюдала и изрекла:
– Ты глупый, да? Ничего тут смешного нет, а сплошная таргедия. Моя мама самая высокая из всех садиковых мам, а выродила меня самую коротенькую в группе.
В комнате Дмитрия зазвонил телефон. Алексей сгреб Ляльку под мышку и пошел туда.
– Дмитрий Петрович? – осведомился далекий голос. – Могу доложить, что первый обоз с хлебом…
– Нет, это Алексей Петрович. Так что передать ему?
Трубка замолчала, потом громко хмыкнула:
– Гы-ы! Что еще за Алексей Петрович? Ты Димин брат, что ли? Тот самый? Ну с приездом. Это Иван говорит, Иван Григорьевич Мойсенович. Не забыл?
Алексей сказал, что не только не забыл, но и сегодня целых полдня вспоминал его с Пашей. В ответ он услышал настоятельное приглашение пожаловать в воскресенье в колхоз на какие-то «дожинки». Конечно, с братом и Соней. А за Прасковьей и Варькой он бричку пришлет. Еще Алексея попросили передать секретарю райкома, что первый обоз с зерном нового урожая нагружен и с рассветом отправится на приемный пункт.
– Ольга, ты не знаешь, что такое «дожинки»? – спросил он племянницу.
– Нет, я не знаю, что такое «донжики», мы в садике еще не проходили. Зато я знаю слово ин-тер-тан. Это такая школа, когда дети не ходят домой спать, потому что далеко живут. Скоро у мамы в школе будет этот самый ин.
Соня сказала, что интернат и правда будет, а «дожинки» – это праздник последнего снопа, когда кончают жатву хлебов. В Кра-сдвщине нынче собираются праздновать широко, потому что получили самый высокий урожай в районе. А вообще-то в районе положение сложное: комбайнов в МТС мало, а колхозные жатки старые. Приходится, как и раньше, пускать в ход серпы и косы. Да еще портят людям настроение всякие слухи будто бы о близкой войне. Ктораспускает слухи? Мало ли осталось разных подкулачников.
– Ну, это уже называется антисоветская агитация! – возмутился Алексей. – Существует уголовный кодекс!
– Э, Лешенька, не так-то все просто. Чаще это называется – за что купил, за то и продаю. Один слышал от другого, тот от третьего, а третий в костеле. Вот-вот, в костеле! Ксендз, бывает, разразится такой проповедью, что вроде и придраться не к чему, разглагольствует себе о священном писании. Потом на латинские изречения перейдет, и получается еще звонче. А потом слухи… У тебя, кстати, как с латынью?
– Если бона фидэ, то есть чистосердечно, то пока гроссо мо-до – знаю весьма приблизительно. Только один курс за плечами. «Гаудеамус игитур» [7]7
Начало старинной студенческой песни (лат.).
[Закрыть], конечно, поем.
– Ну-у! – восхищенно протянула Соня. – Да ты уже почти Цицерон. Знаешь что: дам я тебе кусочек латинского текста вперемешку с польским. Это отрывок из недавнего выступления ксендза. Переведешь?
– Но я же польский – ни в зуб.
– Польский я сама знаю, ты латынь расшифруй.
– Дай… А для кого ксендз такие проповеди чешет? Кто ее понимает, эту латынь?
Соня объяснила, что «переводчики» находятся. Воскресная проповедь в храме – это, так сказать, парадное выступление римско-католического пастыря, и неважно, что он изъясняется непонятно для слушателей. В каждой деревне у него есть помощники – члены костельного совета, которые получают от ксендза копии проповедей на понятном всем языке. Они-то и доводят до сознания верующих истинный смысл речений ксендза. Доводят по вечерам, при закрытых окнах, без «посторонних». Вроде бы никакого нарушения законов, а наутро у колодцев – шу-шу-шу: «Вось завчора пан ксендз говорил…»
– Так, а чего вы прямо не скажете ксендзу: не пыли, не темни, укороти язык, раз живешь на советской земле и с нее кормишься?
Оказалось, что опять же не получается лобовая атака– ксендз получает жалованье из епархии за рубежом. Хотя, конечно, главный (и немалый, ох немалый) его доход составляют «доброхотные даяния» верующих… Так просто ксендза и его помощников не прижмешь, тут людям долго разъяснять надо. Потому Митя и является домой только к ночи. Да и все коммунисты так: переночевал – и снова в деревни, втолковывать людям, где правда, а где провокация. В общем, нелегкая у райкомовцев жизнь, Лешенька…
– У тебя, наверное, тоже.
– Тоже, но веселее: дети есть дети… Хотя – полюбуйся: седеть начинаю в тридцать лет.
Не удержалась Софья Борисовна, рассказала гостю кое-что о своих бедах, после которых хочется ей проклинать эту директорскую должность. Ладно бы только заботы о ремонте, топливе да инвентаре. Двоечники тоже явление не смертельное, потому что временное. А вот как быть со всеобучем? Каждый апрель, едва пробьется первая травка, на уроках в четвертых – седьмых классах нет половины учеников. Оказывается, коров пасут. Вызывают мать. Является в учительскую и… на портрет Крупской: «Слава пречистой деве Марии… А кто же скотинку попасет, как не моя Катерина, если деревенский пастух в колхоз подался. Не уйдет ученье-то. Ну дык што, што екзамен. В осень сдаст».
Вызывают отца, и тот крестится уже на портрет Макаренко: «Слава Исусу… О господи, что это у вас Спаситель в окулярах? Ах, не он? Эге: вот этот, значит». Кладется поклон перед Ушин-ским. А потом – осточертевший рефрен:
– Не-е, не-е, и не говорите, товарищ директорша, не пущу зараз Ванечку в школу. Закон нарушаю? Какое же нарушение, если парень целую зиму ходил к вам. Штраф? А нехай – мусить, дешевле обойдется, чем корову загубить без зеленого корма.
В конце концов райком помог: обязал председателя колхоза выделить общее пастбище для частного скота и двух пастухов, но трудодни им начислять за счет владельцев буренок. Опять нет согласия: «Дорого! Пастуху, который был от обчества, поставишь шклянку первачу, он и не заикается о чем другом, а тут – кровные трудодни. Ванька мой обходится куда дешевле – сунешь кавалак хлеба да яйцо – и вся зарплата, а самогонку он по малолетству еще не пьет».
– Вот так-то, Леша… – вздохнула Соня. – Но почему ты меня не обругаешь, что пичкаю гостя всякими печалями? Больно тебе интересно… Погоди, с минуты на минуту принесут свежее молоко, будем ужинать. Не дождаться, наверное, Митю…
МИНОИСКАТЕЛЬ СПОКОЕН
Молоко принес конопатый Юзик. Парнишка был причесан, в свежей ковбойке и вообще настолько степенен, что Алексей не узнал сначала пацана, который ругался утром с Варькой.
– Вечер добрый, Софья Борисовна. Здравствуй, Ляля. Держи ящерицу, только пересади ее в другую стеклянную банку, побольше, и мух туда напусти.
Девочка задохнулась от восторга, а Соня сказала, принимая глиняный кувшин:
– За молоко спасибо, ящерица – это лишнее, а вот почему ты не поздоровался с нашим гостем?
– Мы здоровались. Утром, у Варфоломея.
– Вот как… Деньги за молоко тебе сейчас отдать?
– Мать говорит – в конце месяца, больше скопится. Как раз мне на книжки пойдет.
– Видал?! – Софья Борисовна возмущенно повернулась к Алексею. – Десять раз толковали родителям, что дети партизан и инвалидов получат учебники бесплатно. Не верят! В прошлом году выдали некоторым костюмы за счет фонда всеобуча, а назавтра пришли ко мне мамаши-папаши, сколько стоит и кому нести деньги. Иосиф, у тебя же отец сознательный, бригадир!
Юзик шмыгал носом. Отец-то сознательный, а вот мать… Все вспоминает, что «за польским часом» учитель требовал деньги даже за мел, которым пишут на доске. Говорит, что не может долго держаться такая власть, которая столько делает для людей бесплатно. Капиталов, говорит, у нее не хватит. Батька кулаком стучит: «Цыц, подпевала ксендзовская!», а она встанет на колени и крестится у иконы: «Пресвятая дева, сохрани и продли светлые денечки Советов, дай народу дольше подышать полной грудью». И опять сцепятся с отцом.
Как-то неохота обо всем этом здесь рассказывать. Тем более что есть дело поважнее.
– Софья Борисовна, мне звено поручило поговорить с вами. Один на один только…
– Ну и говори. Леша не чужой, а Ляльку я сейчас спать отправлю.
– Еще чего! – раздалось из кухни. – Ярещица спать не хочет, она вниз головой бегает в банке.
– Софья Борисовна, – продолжал Юзик, – вы минером в партизанах были?
– И минером, и учительницей, и санитаркой. Чего тебе на ночь глядя война вспомнилась?
– Не война, а мины. Выходит, вы в них разбираетесь. Так вот, слушайте…
Юзик рассказывал обстоятельно и неторопливо.
Записи о железном ящике, которая появилась в дневнике звена, предшествовали некоторые события. Мальчишки вышли на заброшенную баню в поисках особо породистых червей для рыбалки. Вокруг хлипкого черного домика гнила многолетняя куча слежавшейся соломы. Именно под такой соломой водятся ярко-красные и необычайно подвижные червяки. Юзик в этом сам недавно убедился.
В сумерках он возвращался со своей коровой из стада и пошел не проселком, а свернул на луговую тропинку. Она огибала зеленый островок ольховника и лозняка, где на возвышении и стояла закоптелая банька. Оттуда спускалась мужская фигура. Юзик узнал глухонемого старика Дударя, тоже заядлого рыболова и главного конкурента Айвенго на рыбалке.
Жил Дударь одиноко на заброшенном хуторе в километре от поселка. От всего хуторского хозяйства там осталась вросшая в землю хатенка с половиной соломенной крыши, но ее, видать, хватало бобылю. Из обычной крестьянской живности он держал одну лишь черную козу, которую сам доил. Иногда он появлялся в райцентре, продавал на базарчике козий сыр и вяленую рыбу, покупал хлеб, махорку, керосин и снова исчезал на своем хуторе, а вернее, на берегах Немана.
Рыбачил он и зимой, к великому удивлению местных мужиков и мальчишек, поскольку о подледном лове здесь раньше не слыхали. Как большинство глухонемых, был нелюдим и мрачноват. Мальчишек близко к себе не допускал, и подсматривали они рыбацкие секреты на расстоянии – летом из-за кустов, зимой из-за сугробов. Главное, чтобы Дударь их не увидел, а орать от восторга можно было сколько угодно, все равно не услышит. Это случалось, когда Дударь размеренными движениями выбирал на лед или берег леску с метровой щукой на крючке. Мальчишки разносили в поселке весть о пойманной фантастической рыбине, и в следующий базарный день женщины райцентра поджидали Дударя. Мечтой каждой хозяйки было уязвить соседку воскресной фаршированной щукой невиданного размера.
Дударь никогда не торговался, да и не в состоянии был из-за немоты, а молча поднимал чугунные пальцы: три – тридцать, пять – пятьдесят рублей и так далее. Это было недешево, но если покупательница растопыривала в ответ меньшее количество пальцев, старик равнодушно отворачивался от нее. Рыночных конкурентов, которые могли бы сбить цену, он не имел и потому обязательно получал в конце концов запрошенную сумму. Отдавая проданную рыбу, он непонятно дудел, что можно было в равной степени воспринять и как «кушайте на здоровье», и как «чтоб тебе костью подавиться!».
Была ли это фамилия – Дударь, или так прозвали его за гулкие горловые звуки, мальчишки не знали. Он был не местный, а откуда-то с верховьев Немана и появился здесь после войны через несколько лет. Поговаривали, что были у него когда-то семья и дом, но немцы угнали глухонемого на земляные работы – позарились на его диковинные мускулы, а вернувшись, он нашел на прежнем месте обгорелые бревна и кости. Так он изложил крупными каракулями местным властям свою биографию.
Кочуя вниз по Неману со своим рыболовным скарбом в поисках пропитания и немудрящего заработка, Дударь добрался до здешнего поселка и бросил якорь. Документы какие-то у него были, и в сельсовете его прописали без проволочек. Там же порекомендовали бобылю-горемыке занять пустующий хуторок. Секретарь сельсовета сказал будто бы так:
– Вроде бы не тунеядец, а по социальному положению соответствует графе «кустарь-одиночка». Хай живе…
С той поры и бродил по речным берегам хотя и нелюдимый, но безобидный старик Дударь. Сейчас он нос к носу повстречался в сумерках с Юзиком. В одной руке у глухонемого была жестяная банка из-под тушенки, в другой саперная лопатка. Снаряжение, понятное каждому рыболову. «Вон он где наживку берет, глухой дьявол! – сообразил хлопец. – У нас под боком, а мы не догадались!» Однако кепку хлопец снял уважительно, как положено перед старшим. Похоже было, что Дударь немного растерялся. Он затоптался на тропинке, но потом щелкнул пальцем по банке и поманил Юзика, явно приглашая его взглянуть на содержимое. «Правильно, – подумал Юзик, – что уж тут таиться, раз я все равно тебя накрыл».
Было темновато, но Дударь крепко затянулся цигаркой, и при свете ее стал виден в банке большой клубок шустрых красных червяков.
– Ого! – сказал Юзик и поднял перед носом Дударя большой палец в знак одобрения. – Там? – протянул руку к бане.
Отпираться было бесполезно, и глухонемой покорно прогудел: «До-до, д-даб д-д…» Юзику пришло в голову попросить у старика лопату и сейчас же накопать червяков. Завернуть можно в лопухи, а корова подождет. Как мог, он объяснил свое намерение. Дударь понял и стремительно замотал головой. Он показал на небо, потом на землю, потом закрыл ладонями глаза: уже темно, ничего не видно. Юзик согласился: ладно, накопаем завтра, и они мирно расстались со стариком.
Но не согласился Варька:
– Дубина ты, мы же опоздаем утром на клев. Сейчас надо идти. Там же солома, в жгуты скрутим – знаешь какие получаются факелы!
Позвали Петра, взяли саперную, давно испытанную лопатку и отправились к бане. Червей добыли быстро – полную литровую банку. Но Варька пожадничал и копнул глубже. Лопата звякнула о металл. Немедленно зажгли новые факелы. При свете их раскопали квадратный металлический ящичек.
– Ну его, – сказал Петро. – Может… это самое. Мало, что ли, хлопцев подорвалось…
– Мина у бани? – усомнился Юзик.
– И очень может быть. Фрицы набились туда помыться, гуляют себе голые, а партизаны подобрались и заминировали. Те выйдут наружу и – ба-бах! – с легким, значит, паром…
– Ну, разбабахался, – нахмурился Варфоломей. – Не похоже сочиняешь. Легче было баню гранатами закидать… Ладно, трогать эту штуку все равно не будем. Надо посоветоваться.
– С Айвенго? – догадался Петро.
– Можно, но надо сначала с Софьей Борисовной посоветоваться. Она говорила: о всех ваших летних делах докладывайте мне. К тому же она по минам специалист получше Айвенго.
Снова закидали ящик землей и соломой, спрятали в кусты обгорелые факелы. Вроде и не были здесь. На обратном пути Варфоломей задумчиво спросил Юзика: