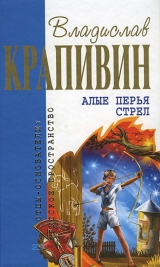
Текст книги "Алые перья стрел (сборник)"
Автор книги: Владислав Крапивин
Жанр:
Детская фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
– Ты кто – звеньевой или шеф-повар, чтоб тебе подавиться своими щами-борщами! У тебя что – часов нет? Переизберут тебя хлопцы, раз операцию срываешь!
– Не тебя ли выберут? – огрызнулся Варька.
– Минутку, братцы. Почему суета? – вмешался Алексей. – И что за операция, если не тайна?
– Как раз и тайна. Тем более что мы вас не знаем, – нахально парировал Юзик.
– Варфоломей меня знает. Но дело в другом. Почему ты, звеньевой, не идешь к своему заждавшемуся коллективу?
Варька коротко обрисовал ситуацию с проклятым керогазом.
– Иди, я послежу, – великодушно сказал Алексей.
– Прасковья заругается, – не очень уверенно возразил Варька.
– Хм! Уверяю, что и не вспомнит о тебе, – несколько самонадеянно заверил гость.
– Ладно. Только ты не забудь… Здесь процесс непрерывный. Ты помешивай…
Алексей остался один. Он прошелся по кухне, заглянул в две небольшие комнаты. Ничего похожего на ту убогую хатку шестилетней давности. Перестроен домик полностью. Любопытно, сохранился ли хлев, где они тогда с Пашей доили корову с забавной кличкой Трижды?
Он приоткрыл дверь, чтобы выйти во двор, и отпрянул: от калитки шла беловолосая девушка с черными глазами.
СКОЛЬКО БЫЛО МЕДВЕДЕЙ
С часовым опозданием, но операция началась. Еще раз обсудили обстановку. Дымок, по мнению Юзика, был виден километрах в трех, недалеко от реки. Ребят собралось восемь человек. Если держать между собой интервал в двадцать метров – так, чтобы при перекличке в полптичьего голоса слышать друг друга, площадь прочеса получалась немаленькая.
Сложнее было Варьке распределить среди хлопцев позывные.
– Микола, будешь петь дроздом.
– Не могу. Лучше я кукушкой…
– Может, еще петухом пожелаешь закукарекать? Кукушки внизу не кукуют. Василь, синицу знаешь? Молодец, действуй. Петро, тебе быть витютенем. Покажи, как лесной голубь трубит. Ну чего ты горло раздул, словно блином подавился. У тебя удод получается, а не витютень. Ладно, нехай будет удод…
Договорились: на поданный сигнал всем не кидаться, иначе треска в ельнике не оберешься. Подползают только Варька и Юзик. Для общего сбора – крик совы.
– Днем-то? – усомнился кто-то.
– Если сову неожиданно спугнуть, она и днем кричит, – авторитетно пояснил звеньевой.
– Ну, а если медведь встретится? – хихикнул в рукав не очень храбрый Микола. – Говорят, бабы опять следы видели…
– Тогда, ясное дело, реви своим голосом. И мы все подхватываем. Ни один косолапый не выдержит.
Посмеялись и нырнули в чащобу ельника. Двигались где в рост, где на коленках, а то и вовсе ползком. Иначе и нельзя: под нижними засохшими ветвями елок легче проползти на животе, чем продраться сквозь них напрямую. Того и гляди, без глаза останешься.
Из восьми разведчиков только двое догадались надеть плотные куртки с длинными рукавами и штаны. Шестеро пришли в майках и трусах. Через полчаса майки превратились в немыслимое рванье. Пот заливал глаза, но вытереть его было нечем – хвоя для этого не годилась, а лопухи под ногами не росли. Рос жесткий вереск, в котором прыгали маленькие кузнечики. Они были безобидны, а вот разбуженные комары освирепели. Пришлось пустить в ход обломанные еловые ветки. Их буйное вращение над головами явно демаскировало разведчиков. Варфоломей от возмущения чуть было не заорал во весь голос: «Потерпеть не можете, неженки?» Но тут в двух интервалах от него раздался нежный посвист синички. И раз, и два. Звеньевой кинулся на сигнал.
…Василь с ободранными в кровь коленями и локтями, с перемазанным смолой и раздавленными комарами лицом лежал на крошечной лужайке и тыкал пальцем в свежий след костра. Ветерок еще не сдул белесый налет пепла на обгоревших скелетиках веток. А больше здесь ничего не было. Ни самогонного аппарата, ни каких-либо его признаков. Не было даже ямок от кольев, которые чаще всего вбивают у костров. Ни спички, ни окурка. Ничего.
– Дурацкий какой-то костер, – прошептал Юзик. – Будто пришел человек, разжег огонь, постоял над ним и ушел.
– То-то что постоял, – согласился Варька. – Если бы он сидел, так на вереске осталась бы вмятина.
Согласились, что найденное кострище отношения к самогонщикам не имеет, и двинулись дальше.
Следующий сигнал поступил от Петра, коротко ухнул удод: «Худо тут!» На зеленом мху лежал кусочек яичной скорлупы.
– Тоже мне – след! – хмыкнул Юзик. – Тебе сказано, человечьи следы искать, а не птичьи. Ну выпало яйцо из гнезда, разбилось…
– В-во-на как! – насмешливо протянул Петро. – В августе-то яйца в гнездах бывают? Эх ты, юннат… И где видано, чтобы птицы свои яйца в городе клеймили?
Ребята присмотрелись. На осколочке скорлупы отчетливо проступали красноватые знаки. Ясно можно было разобрать две цифры, разделенные точкой: 9.7.
– И опять, значит, не самогонщик яйцом закусывал, – подытожил Варфоломей. – Что у них, своих курей нет, чтобы клейменые яйца покупать в магазине? И потом, в нашем райцентре синей краской их метят, а не красной.
Сошлись на том, что приезжали, видимо, на выходной день отдыхающие из Гродно, от них и осталась городская скорлупа. Только Петро с сомнением качал головой и про себя хмыкал: «Видал я тех отдыхающих. Они после себя не кусочек с ноготок оставляли, а полберега выбеливали скорлупой на Немане».
Свою находку он не выбросил, а завернул в березовый листок и спрятал на животе под майку.
По Варькиной прикидке, поиск продолжался уже больше двух часов, и прошли они километра два. Так они скоро и на берег Немана выйдут. Тогда придется признать полный провал операции. Конечно, брехло Юзик получит по шее, но от этого не легче.
Не крик, а истошный вопль разнес в клочья сумрачную тишину ельника. Где-то на левом фланге цепи панически орал Микола. Тотчас же к нему присоединились семь других мальчишеских глоток. Взвилась над лесом стая перепуганных голубей. Смолкли и попрятались дятлы. И наоборот, оголтело застрекотали невесть откуда взявшиеся сороки. Продолжая орать, мальчишки ломились по направлению Миколы, а навстречу им ломился… медведь. Самый настоящий. Он улепетывал от дикого визга Миколы и, повстречав других пацанов, совсем ошалел. Роняя на хвою жидкий помет, он полез на тоненькую елку. Та, конечно, согнулась, косолапый снова очутился на земле. Уныло, почти по-собачьи тявкнув, он задним ходом сунулся в кусты колючего можжевельника и там исчез.
А трясущийся от страха Микола продолжал вопить и показывал рукой в сторону, как раз противоположную той, где скрылся косолапый.
– Там, та-аам! – всхлипывал он.
– Да не там, а наоборот! – озлился Варька. – Хватит глотку драть, медведь больше тебя передрейфил.
– Не-е, там! Вон же елки шевелятся!
Действительно, и в той стороне было заметно движение кого-то крупного и ясно слышался удаляющийся треск.
Неужели они повстречали сразу двух медведей?
ДАЛЕКИ ТЕ ГОДА…
Злополучный керогаз был выключен, дом заперт, ключ спрятан под половичок на крыльце, и они шли по луговой упругой тропинке, как и шесть лет назад. Но тогда они как-то умещались на тропинке рядом, а сейчас оставалось одно из двух: идти гуськом или тесно касаться плечами. Попробовали то и другое. Не получалось.
– Сядем лучше, – сказала Паша около ольхового куста.
– Сядем, – согласился Алексей. – Тем более что именно на этом месте мы с тобой тогда поссорились.
– Не помню.
– Ну как же! Ты меня все жалела как хворого, а я видел себя этаким мужественным героем и ляпнул тебе какую-то чушь. Ты обиделась… А потом мы помирились. Помнишь?
Ей хотелось опять сказать «не помню». Но она не умела врать. Она все помнила, и, уж конечно, больше, чем этот сегодняшний Алексей Вершинин – шикарный студент какого-то далекого университета да еще загадочного факультета журналистики. Да еще после московской практики в газете «Комсомольская правда». Что у него могло остаться в памяти об их тогдашнем детском знакомстве? Кто знает, сколько раз с тех пор он ссорился и мирился с другими девчонками и девушками, которые не чета ей, деревенской простушке? Недаром за шесть лет – всего шесть писем. В основном к праздникам.
Она не обижалась на него за то, что не писал. Сама виновата. Ясно, что ее редкие и сдержанные ответы не могли вдохновить Лешку на теплую переписку. Она и подписывалась как-то по-глупому официально: «Знакомая тебе пионерка Прасковья Мойсенович». Потом – «знакомая комсомолка».
От одного она не могла удержаться: наступая на горло собственной гордости, не стеснялась при каждой встрече с Софьей Борисовной дотошно расспрашивать, что пишет «Лешенька» в семью Вершининых. И потому почти в деталях знала его жизнь за шесть лет.
А что ему известно об ее жизни? И интересно ли ему знать? Правда, в первое же утро он разыскал ее, но, кажется, мимоходом, ради прогулки после завтрака. Сидит вот в своей фасонистой тенниске, пряжками на туфлях поблескивает, брюки подтянул на коленях, чтобы пузыри не вздулись. Такой уж не покраснеет, если случайно коснется девчоночьей шейки, как однажды случилось у них – в душном сарайчике, когда она доила корову Трижды…
– Паш, а как живет Иван? Я знаю – он все в председателях ходит, – сказал Алексей.
– Ну как… Хозяйствует. Соответственно своему характеру. Два выговора получил за партизанские замашки.
– То есть? – заулыбался Алексей, вспомнив цыгановатого, хромого и стремительного старшего Пашиного брата.
– По шее надавал хапуге-кладовщику. А в другой раз тракториста из МТС напоил, чтобы тот остался на лишний денек. Он и остался… на неделю запит. Сейчас-то выговора сняли. Говорят, к ордену представили за нынешний урожай.
Помолчали. Алексей потаенно, из-под руки разглядывал девушку. Ситцевый сарафанчик в горошек, клеенчатые босоножки. Но слепит же господь бог в глухой деревне такую точеную фигурку, такие хрупкие кисти рук с длинными тонкими пальцами, такие словно полированные смуглые ноги с крохотной узкой ступней. А этот ошеломляющий контраст светлых волос с черными глазами и мохнатыми ресницами! Черт возьми, у них на курсе немало девчат из семей артистов и разных потомственных интеллигентов, есть даже одна дочка академика – но ничего похожего. Он чуть ли не сокрушенно вздохнул.
– Соскучился? Может, пойдем, – обеспокоилась девушка.
– Да не то, – отмахнулся Алексей. – Ты вот что мне скажи… У тебя каких-нибудь дворян в роду не было?
Изумленно взметнулись черные дуги бровей на продолговатом лице, заплясали ямочки смеха на загорелых щеках.
– Кого не было, того не было. Цыгане были. Отец-то мой наполовину цыган. Говорят, что все черное у меня – от него, а светлое – от мамы. А вот характер уж весь мамин.
– Это какой же?
– Ладно, пойдем, Леша. Наверное, Варька уже прибежал. Конечно, голодный. Какой, спрашиваешь, характер? Люди говорят, что слишком тихий и покладистый. Не умею я ни на обиду ответить, ни постоять за себя…
…Варфоломей сидел на крыльце в глубокой задумчивости. Он не услышал вопроса сестры насчет аппетита, а отрешенным взором поглядел на ее спутника.
– Скажи, Алексей, если спугнуть в лесу сразу двух медведей, они вместе будут удирать или в разные стороны?
БРАТЬЯ
Когда конопатый Юзик получил от матери кое-что заслуженное в связи с погубленной майкой, в события включился отец.
– Где тебя холера носила?
– Тебе же хотели помочь! Накрыть самогонщиков, чтобы хлеб не переводили… А накрыли медведя…
– Какого медведя? – ахнула мать.
– Живого. С поносом.
Женские причитания по медвежьему поводу отец пресек коротким «цыц!» и стал вразумлять Юзика:
– Мозги у тебя и твоих дружков не варят. Подумали бы, какой самогонщик будет пускать дым на виду у райцентра, где милиция и все другое начальство. Если ему приспичит, он или на хутора закатится к родственникам, или в погребе дело так оборудует, что вся гарь будет выходить в печную трубу. Приснился вам с дедом этот дым.
– Ага, приснился… А след от костра? Не медведь же его разводил.
– Кто там чего разводил, не знаю. Чем рубахи драть в лесу, помогли бы завтра доставить на поле горячий обед людям. Третий день на жниве народ харчуется всухомятку… А то шумите: звено, звено, пионеры…
Юзик подумал, что работенка предстоит скучноватая, но в отцовских словах был резон. Надо было согласовать этот вопрос со звеньевым. Юзик отправился к Мойсеновичам и сошелся по дороге с Петром. Тот рысцой бежал туда же. Зачем? А затем, чтобы позвать Варьку к участковому милиционеру. Вернее, к себе во двор, где в данный момент находился участковый. Он зачем-то пришел к отцу и вдруг страшно заинтересовался кусочком яичной скорлупы, который среди разговора подсунул ему Петро. Велел:
– А ну, зови ребят.
У Мойсеновичей пили послеобеденный чай с черной смородиной. Варфоломей глотал терпкие ягоды, посыпанные сахаром, и обдумывал ответ Алексея насчет медвежьих повадок: «Я не знаком с обычаями здешних топтыгиных, но, насколько знаю, в нашей тайге нормальные медведи не бродят парами. Мамаша с детенышем – другое дело, а взрослые мишки – индивидуалисты. У меня родной дядюшка охотовед, он рассказывал… Не думаю, чтобы ваши медведи слишком отличались от сибирских собратьев. Тут какой-то зоологический нонсенс. Увы, я не зоолог…»
Варфоломей не знал, что такое нонсенс, но понял, что второго медведя в ельнике не было. Выходит, был человек. Чего же он удрал от мальчишек?
Когда Юзик сообщил Варьке о приглашении участкового, Алексей вдруг почувствовал зуд в подошвах: ему захотелось тоже отправиться к местному блюстителю порядка. Там явно попахивало чем-то необычным… Тут же он круто одернул себя: «Опять суешься? Забыл, что утром говорил Митя?»
…А Дмитрий Петрович действительно говорил. Встретив младшего брата на лесном полустанке, он усадил его в «Победу» и все три километра до райцентра тыкал Лешку носом то в одно, то в другое:
– Вон там были окопы, помнишь? Заровняли, гляди, какой лен вымахал. Отсюда начинается новая дорога на Красовщину, где тебя защучили бандиты, не забыл? Уложили дорогу булыжником до самой переправы через Неман, а на переправе мотопаром. В том бору, где бункер Бородатого стоял, сейчас смолокуренный завод…
– Сейчас-то, надеюсь, тихо в смысле этих «лесных братьев»? – поинтересовался Алексей.
– Надейся, – усмехнулся Дмитрий. – Отставных полицаев со «шмайссером» под полой, конечно, теперь не встретишь… Но… граница как была рядом, так и осталась.
– За ней дружественная Польша!
– Гм! Ты с международным положением слегка знаком? Ах да, вы только что прибыли из центральной газеты! Тем более. Вам известно, что идет война в Корее, и обстановочка так себе. Между прочим, американским самолетам что до Польши, что до нас одинаково близко от какого-нибудь готического городка в Западной Германии, нашпигованного разными шпионскими школами. И учатся в тех заведениях разные «недобитки», как их называет здешнее население. Ну те, которые удрали на запад, поскольку ты их не успел перестрелять… Ладно, не свирепей, больше не буду.
Уже за завтраком, когда разрумянившаяся от плиты и радости встречи Соня Курцевич-Вершинина пичкала братьев гречневыми блинами с жареным салом, Дмитрий Петрович закруглил свои дорожные мысли несколько неожиданным выводом:
– Конечно, ты сейчас парень взрослый и гулять можешь где вздумается. Однако боюсь, что твой дивный талант попадать в истории не иссяк. Посему ограничься здесь ради мамы скромными визитами к знакомым, загляни к коллегам в районной редакции и вообще живи мирно. Ну и все, я пошел в райком.
Но со двора крикнул в открытое окно:
– Лешка, выйди на минутку!
И вполголоса сказал на прощание:
– Ты о спокойствии спрашивал… Так вот для сведения, звонил из Гродно небезызвестный тебе полковник Харламов. Вчера прошел с запада в нашем направлении самолет без опознавательных знаков. Туда и обратно. Черт его знает какой и где он оставил груз. Чекисты, конечно, начали поиск, но партийно-комсомольский актив мы тоже поставили в известность. Тебя я почему-то склонен отнести к его числу…
– Спасибо, оправдаю…
– Убери ухмылку, дубина стоеросовая! Я тебе это на всякий случай сказал. А вот мое категорическое требование: занимайся отдыхом, местной прессой и… лирикой. Но-но, не смей поднимать руку на старшего брата!
КОЕ-ЧТО О ПЕДАГОГИКЕ
Вот почему Алексей не пошел к участковому, а остался с Пашей мыть посуду. Она-то нисколько не обеспокоилась уходом братца. По всему было видно, что Варфоломей растет не на вожжах, а на свободе. И не потому, что без отца-матери, а просто парнишка не по годам основателен и раздумчив. По словам Паши, «босое детство научило». У него и забавы-то мальчишечьи всегда сочетаются с делом и пользой. В школе записался не в какой-нибудь развлекательный кружок, а в столярный: «Ты, Лешенька, на его табуретке сидишь…» Подарил ему Иван в первом классе педальный автомобиль, так он его приспособил под тягач для доставки картошки с «соток»: прицепит сзади тачку на двух колесиках, насыплет в нее три ведра бульбы и крутит педали по пыльной дороге целую версту. Потеет, но крутит. Если с синяком придет, то, значит, вступился за справедливость. Недавно соседка прибегала жаловаться, что раскровенил нос ее сыну. А тому уже пятнадцатый год, почти на четыре старше Варьки, и был уличен в некрасивом деле – плевал в колодец. За что и поплатился.
А вот учится Варька неровно, особенно с русским языком не ладит. Как-то в третьем классе дважды написал в диктанте «яйцо» без «и» краткого.
– Да не я-и-цо, а яйцо, – вскипела учительница. Варфоломей ответил хладнокровно, с присущей ему степенностью:
– Нехай, лишь бы не тухлое.
Учительница Леокадия Болеславовна посчитала эту реплику хулиганской выходкой и сообщила Прасковье, что она «не потерпит». А в прошлом, четвертом классе Варька снова довел ее до каления, написав на доске слово «лучше» так: «лутче». Последовало наказание:
– Уйдешь из класса, когда всю доску правильно испишешь этим словом.
Варька терпеливо исписал половину доски, но так как торопился натаскать сестре воды для стирки, то сделал внизу приписку: «Мне треба до дому. Лутче я утром допишу». Назавтра Леокадия Болеславовна прибыла к Мойсеновичам и объявила, что тут пахнет прямым издевательством в ее адрес. В связи с этим она намерена поставить вопрос перед советом отряда об отстранении «закоснелого и невоспитанного мальчика» с поста звеньевого.
Оказавшийся при беседе брат Иван молча слушал разговор. Но при последних словах гостьи резко дрыгнул под столом хромой ногой, что повлекло падение кувшина с квасом, который щедро окропил подол светлого крепдешинового платья.
– Вы уж извините! – сказал он, вставая.
– Пожалуйста, бывает… – снисходительно поморщилась Леокадия, отряхивая крепдешин.
– Нет, вы извините за то, что я вам хочу сейчас сказать. Конечно, у парнишки не было родителей с высшим образованием, чтобы тонко его воспитывать. В ранние свои годочки он не в кружевной коляске спал, а на соломе в партизанском блиндаже. На пианино его тоже не учили играть, а вот минную музыку он слышал. Если ему грамматика трудно дается, так на то вы и поставлены, чтобы он ее одолел. А чтобы он задумывал какую-нибудь грубость или зло имел против вас – в это я ни за что не поверю. Он ко всем взрослым уважительный, а к учителям вдвойне. На вашу директоршу Софью Борисовну только что не молится!
Именно этого не следовало Ивану говорить. Леокадия нервно встала:
– Ну, а я не удостоилась. Где уж там – я не партизанская героиня. Впрочем, я и не ожидала встретить понимания в вашей семье.
Она удалилась, а разозленный Иван бросил сестре:
– Не знаю, чья она сама героиня, но что несет от нее шляхетским гонором, это я чую.
Вот такие эпизоды из жизни Варфоломея передала Паша своему гостю. Слушал он с увлечением. Может, потому, что вспоминалось многое похожее из собственного детства. Конечно, в блиндажах он не жил и свиста мин не слышал. И родители у него как раз были с высшим образованием да и к тому же учителя, так что почтение к данному сословию он испытывал, что называется, по нескольким каналам. Но попадались и ему малосимпатичные педагоги. Например, Лешка замечал еще с шестого класса, что его друг Платон Ложкин находится в явной опале у преподавателя физкультуры Викентия Антоновича. Платон был парень сильный и ловкий и на зависть всем умел сделать опорный прыжок через коня с сальто-мортальным соскоком. Но больше четверки он на уроках гимнастики сроду не получал по маловразумительному мотиву, что «так не положено». А на лыжных соревнованиях учитель однажды снял Платона с дистанции под тем предлогом, что тот будто бы срезал поворот, хотя Лешка шел за другом лыжа в лыжу, и они вместе миновали контрольный пост. Никакие заверения не помогли, и Платон лишился призового места.
– Слушай, Платон, где ты дорогу перебежал Викентию? – напрямик спросил Лешка.
– Да не я, а батя, – угрюмо пояснил друг. Оказалось, что его отец – грузчик судоверфи – и «физкультурник» вместе по субботам встречаются в бане, а там обязательно борются перед парилкой. Мальчики уговорили добродушного грузчика хоть раз поддаться сопернику. На следующем уроке Платон получил пятерку за упражнение в вольных движениях, которые он, кстати, терпеть не мог, да еще услышал панегирик в свой адрес на тему, что сын достойно развивает атлетические традиции семьи. Однако вскоре грузчику надоело разыгрывать слабака, и на парня опять посыпались в спортзале придирки. В результате в аттестат была проставлена «четверка» по физкультуре.
– Помять ему слегка пиджак? В силу семейных атлетических традиций… – задумчиво спросил Платон на выпускном вечере, разглядывая олимпийскую фигуру Викентия Антоновича.
Алексей отсоветовал:
– Да гнетет его собственная педагогическая совесть.
– Сомневаюсь, что гнетет, – вздохнул Платон. Вчерашние десятиклассники рассмеялись и предали забвению полуанекдотическую фигуру горе-учителя.
Но были конфликты и посерьезнее, когда очень глубоко проникала горечь в мальчишечью душу.
Литература – любимый предмет Алексея, и вела ее в старших классах беззаветно чтимая всеми ребятами Серафима Серафимовна. До нее Лешка знал Виктора Гюго по «Отверженным» и «Девяносто третьему году», «Собору Парижской Богоматери» и «Человеку, который смеется». Она открыла мальчикам Гюго – поэта. Она иногда пол-урока читала его стихи из циклов «Осенние листья», «Лучи и тени», его «Оды» и приглашала юных слушателей оценить тончайший лиризм, музыкальность, а также душевную нежность и чистоту человека – создателя этих шедевров. Алексей помнил, как Серафима Серафимовна, пожилая и суховатая вне урока женщина, прослезилась, читая стихи, посвященные поэтом трагически погибшей дочери. «Только человек с кристальным сердцем мог создать такие строки», – сказала тогда учительница.
Было это в восьмом классе. Но одновременно в десятом она факультативно вела литературный кружок для любителей западной литературы XIX века. Это могло им пригодиться при поступлении в вузы. Алексей однажды проник на занятие кружка. И что же он услышал из уст почитательницы Виктора Гюго? Она и здесь не отрицала его литературных заслуг, но клеймила как человека и гражданина чуть ли не последними словами, обвиняя в распутстве и скопидомстве, многократном политическом ренегатстве и нечистоплотности.
Алексей был ошеломлен: как может педагог искренне плакать над действительно великолепными стихами, а потом «поливать» их автора?
Горькое недоумение не исчезало, и он под разными предлогами перестал ходить на ее уроки…
Паша слушала Алексея и потихоньку вздыхала: она уже сама сейчас учительница, через месяц придется вести первый урок. Не дай господи, если ей попадутся такие въедливые ученики, как собеседник. Лучше бы он рассказал ей, как понимает настоящих педагогов.
– А сейчас я тебе поведаю об учителях – кумира» немеркнущих, – многообещающе сказал Алексей Паше.
– Лешенька… – конфузливо шепнула девушка. – А тебя не потеряют дома?
Он глянул на часы и ахнул: полпятого. Свинство беспардонное!..
ХОРУНЖИЕ ИСЧЕЗЛИ
Леокадия Болеславовна Могилевская не была ни бывшим, ни настоящим кумиром своих младшеклассников. Она сама это знала и не очень печалилась, что гурьба школьников не провожает ее до дому, а на учительском столе отсутствуют свежие цветы. Даже рада была, потому что искала одиночества в этой глухомани.
Что касается цветов, то она верила, что будут еще в ее жизни не чахлые ромашки и унылые астры из деревянных палисадников, а розы и магнолии, орхидеи и тюльпаны в изящных корзинах с атласными лентами.
Они уже были – эти роскошные подношения. Сначала в Вильне – от влюбленных хорунжих с блестящими саблями и мелодичными шпорами. Они скопом ходили за пышнокудрой гимназисткой панной Ледей. В тридцать девятом она окончила гимназию и уже готова была подарить свое сердце одному из хорунжих. Но все они куда-то внезапно подевались вместе со своими шикарными конфедератками. Скоро на бульварах появились рослые парни в отутюженных гимнастерках с малиновыми петлицами. Они при встрече с задорными гимназистками вежливо прикладывали ладони к околышам круглых фуражек со звездочками, но цветов не дарили. Тем не менее Леокадия, отлично владевшая русским языком, попыталась очаровать одного светло-русого крепыша-танкиста с двумя кубиками в петлицах. Изредка он посещал Леокадию на частной квартире, где она жила с подругой в ожидании счастливого поворота своей девичьей судьбы. Такую компанию и застал однажды ее отец, приехавший из села проведать дочь. Он молчаливо дождался ухода лейтенанта и крепко потянул Леокадию между лопаток.
– С большевиками нюхаешься?!
– Та-а-ту! – изумилась Ледя. – А чем он плохой?
– Ты, дармоедка кудрявая, выгляни во двор, посмотри, на чьих я приехал лошадях. На чужих! А наши все восемь штук голодранцы поотобрали, одного жеребчика оставили. Из полсотни моргенов пахоты сорок отрезали. И все с благословения большевиков.
…Леокадия любила свой богатый хутор, где росла до гимназии. Отец – белорус по национальности, но принявший при Пилсуд-ском католическую веру – вошел в доверие к польским властям. Ему дали на откуп сплав леса по Неману, и за три года оборотистый мужик нажил на мозолях поденных сплавщиков немалый капитал. Приобрел после смерти осадника [4]4
Осадник – отставной военнослужащий в буржуазной Польше, получивший от правительства за «особые заслуги» богатый земельный надел. Осадники являлись на селе опорной силой реакционного режима (прим. авт.).
[Закрыть]его хутор, раскорчевал руками батраков лесную пустошь и пустил ее под лен. Но не ограничился землепашеством. Прибрежные воды Немана буквально кишели тогда раками. Деревенские хлопчики за час налавливали в подолы рубах по полсотни штук и тащили улов матерям в приварок к убогому обеду из надоевшей бульбы и ржаного хлеба с овсяными охлопьями.
Могилевский купил у гмины [5]5
Гмина – сельская административно-территориальная единица в Польше.
[Закрыть]за сто злотых монопольное право на вылов раков в течение трех лет. С той поры два километра берега принадлежали ему. Зачем ему понадобились раки? Вот зачем. Однажды приехал он в Варшаву, чтобы прощупать цену молотильного локомобиля. Сделка с немцем – управляющим заводом – удалась, и пан Болеслав пригласил пана Транзе в «ресторацию».
Там метрдотель зычно воскликнул:
– Панове, имеем свежие раки с Вислы!
Немец плотоядно зажмурился. Болеслав Могилевский тоже с удовольствием рвал крепкими мужицкими зубами раковые клешни, а сам думал: «Почему с Вислы, а не с Немана? Только что далековато, но если отправлять по чугунке…»
Когда подали счет, он ахнул: десяток раков стоил целый злотый, поскольку они шли как изысканный деликатес. А злотый – это полпуда хлеба.
И вот полезли в студеную воду Немана десятки мальчишек. Полезли наперебой, даже очередь устанавливали между собой. Еще бы: Болеслав Иосифович платил хлопцам ползлотого за сотню раков. Выходит, четыре сотни – это пуд зерна в гминовской краме [6]6
Крама – магазин, лавка (польск.).
[Закрыть]. Ради такого заработка родители избавляли ребят от нудной пастьбы коров.
И никто не знал, что в Варшаве за каждую сотню раков на счет Могилевского столичные рестораны перечисляют восемь злотых. Правда, приходилось платить немалые деньги железной дороге за отправку живого груза в специальных бочках с водой. Но чистая прибыль все равно была один к четырем.
За зри года владения раковыми берегами Могилевский отгрохал белокаменный дом под стать помещичьему. Из этого поместья и уехала в Виленскую гимназию «панна Ледя». Именно панна – так круто оторвало ее отцовское богатство от обычных сельских девчат и хлопцев. Ледя с головой окунулась в тщеславные интересы своих гимназических подружек: блеснуть на балу в городском магистрате, понравиться родовитому шляхтичу, найти, наконец, себе суженого среди блестящих офицеров доблестных польских легионов.
Но она и училась неплохо. Понимала, что ей надо сравняться в знаниях и манерах с дочерьми адвокатов и чиновников, коммерсантов и помещиков. Жила она на квартире у старой петербургской эмигрантки и от нее научилась говорить и писать по-русски. Читала в оригиналах Бальмонта и Гиппиус, Надсона и Северянина. Гимназические преподаватели научили ее правильному польскому языку и в достаточной степени немецкому, а ксендз – основам латыни. Один лишь язык не хотела знать Леокадия – родной белорусский, потому что это был язык «хлопов» и напоминал ей запахи бедных крестьянских дворов.
Сообщение отца о разорении семейной усадьбы она восприняла трагически: ведь только что пригласила двух подруг и трех симпатичных выпускников лицея прокатиться в свое «имение».
– Но тату! – ахнула она. – Дом-то уцелел, свободные комнаты есть?
– Фигу с маслом не хочешь! Дом отбирают под школу для деревенских оборванцев, а нам с матерью сельсовет отдает в деревне ту самую заколоченную хатенку, где ты родилась. Вот что наделали твои большевики!
– Почему – мои?! – вскипела Леокадия. – Гимназисты, что ли, пустили их в Гродно и Вильно? А где хваленые легионы, где твой приятель пан полковник с толстым пузом, которому ты на рождество и на пасху по кабану дарил? Почему он не защитил твое богатство?
– В Лондон драпанул ясновельможный пан, – огрызнулся отец. – Перевел туда капиталы и спокоен. А землю не переведешь. Слушай, дочка, что я тебе присоветую…
…Так Леокадия Могилевская вернулась в родное село и стала учительницей русского языка в семилетней школе, открытой как раз в их бывшем доме. «Хоть за ним присмотришь, – настаивал отец. – Авось ненадолго обосновалась эта батрацкая власть».
Приняли ее на работу без особых придирок: кадров пока не хватало, а у нее солидное образование. Что из того, что отец был матерый кулак? Дочь за него не ответчица. Тем более что папаша по решению сельского схода был выслан Советской властью из здешних мест. От самой же Леокадии крестьяне плохого слова не слышали. Пусть учит детишек да кормит старенькую мать на свою наставницкую зарплату.
И она учила. А в ушах стояли отцовские слова. «Авось ненадолго эта батрацкая власть».
Меньше чем через два года пришли немцы.
АЙВЕНГО
Варька, Юзик и Петро правильным треугольником расположились на корточках вокруг младшего лейтенанта милиции Айвенго. Нет, не они нарекли добродушного сорокалетнего участкового именем славного рыцаря. Произошло это еще в партизанском отряде, куда приполз из лагеря военнопленных в кровь изодранный колючей проволокой младший сержант РККА Айсидор Венедиктович Горакоза.






