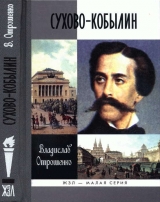
Текст книги "Сухово-Кобылин. Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга"
Автор книги: Владислав Отрошенко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Генерал-губернатор, находившийся под влиянием клубов и собственной обиды, ни минуты не сомневался в виновности Сухово-Кобылина. Дополнив следствие «фактами довольно ярких колеров», Закревский издал указ:
«По важности обстоятельств, сопровождавших убийство иностранки Луизы Ивановны Деманш, признаю нужным нарядить под председательством коллежского советника Шлыкова Особую следственную комиссию для производства исследования о сказанном убийстве и предписываю употребить самые строгие меры к открытию виновных в преступлении и по окончании действий комиссии произведенное следствие доставить ко мне».
«Нарядите следствие – и строжайше, строжайше!» – иронизировал потом Александр Васильевич по поводу этого указа в пьесе «Дело».
Утром 12 ноября, на следующий день после похорон Деманш, во флигель Сухово-Кобылина внезапно нагрянули с обыском. Для Александра Васильевича это был неожиданный удар.
«Дело – злодеяние – повальный обыск! Я один! Надежда Нарышкина уехала», – записывает он в дневнике.
Результаты обыска были ошеломляющими:
«По осмотру приставами городской части Хотинским и Редькиным и следственных дел стряпчим Троицким, учиненному 12 ноября во флигеле Сухово-Кобылина, где он сам жил, оказалось, что в комнате, называемой зале, видны на стене к сеням кровавые пятна. Одно продолговатое на вершок длины в виде распустившейся капли, другое величиною в пятикопеечную монету, разбрызганное. На штукатурке видны разной величины места, стертые неизвестно чем. Полы во всех комнатах крашены и недавно вымытые, в сенях около двери кладовой видно на грязном полу около плинтуса кровавое пятно полукруглое величиною около аршина и к оному потоки и брызги кровавые частью уже смытые, на ступенях заднего крыльца также видны разной величины пятна крови и частью стертые или смытые».
Это были грозные улики. И они были в руках у Закревского – и в переносном, и в буквальном смысле, ибо следователи топором вырубили из крыльца доски, на которых были кровавые пятна, и унесли их с собой.
Тринадцатого и четырнадцатого ноября в доме Сухово-Кобылина вновь были произведены обыски с изъятием бумаг и писем…
Шестнадцатого ноября 1850 года к дому Александра Васильевича подъехала черная карета, запряженная вороными. Два полицейских офицера с четырьмя вооруженными солдатами, оттолкнув камердинера, прошли прямо к нему в кабинет. Не снимая перчаток, старший чин быстро вытащил из-под шинели бумагу, развернул ее и, держа двумя руками, молча приблизил к лицу Александра Васильевича. Это было постановление Особой следственной комиссии, утвержденное военным генерал-губернатором Москвы:
«Сообразив ответы, отобранные от отставного титулярного советника Сухово-Кобылина, с ответами камердинера его, кучера, дворника и сторожа и найдя разногласие в словах их относительно обстоятельств вечера 7 ноября, а равно приняв в соображение кровавые пятна, найденные в квартире Сухово-Кобылина, – и так как эти обстоятельства наводят сильные подозрения относительно убийства купчихи Деманш, то постановляем:
Отставного титулярного советника Александра Васильевича Сухово-Кобылина арестовать».
Он прочел постановление, сверкая глазами и в бешенстве стиснув зубы. Он не верил. Кого арестовать?! Его?! Помещика! Столбового дворянина! Потомка тевтонского рыцаря! Крестника императора! Теряя рассудок, он обрушился на полицейских с ругательствами, пытался выгнать их в шею, как гнал кредиторов. Но это были не кредиторы и предъявляли ему не вексель. Ему заломили руки, связали и без шапки вывели на улицу. В толпе любопытных, осадивших дом на Страстном бульваре, раздались возгласы:
– Ведут! Ведут!
Он поставил ногу на подножку арестантской кареты, облепленной комьями замерзшей грязи, оглянулся на толпу.
– Убийца! Убийца! – закричали студенты с красными от мороза лицами, выпрыгивая из темного водоворота качающихся шапок. Согнувшись, он рывком протиснулся в узкий проем. Солдаты захлопнули дверцу, закрыли ее на засов. Бойко орудуя прикладами, они расчистили путь от напиравшей толпы; карета качнулась на рессорах, и два вороных не спеша повлекли Сухово-Кобылина по дороге пожизненного бесчестья.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Так извольте вы мне эти существенные факты из дела выбрать и составить по оному мое мнение – и построже.
А. В. Сухово-Кобылин. Дело
Слава, почет, овации, признание академий – эти подарки для своего избранника Великий Слепец еще хранил в тайне. Но имя его уже было известно, хотя еще не было написано ни строчки знаменитой комедии, собиравшей толпы у театральных касс России. Эту первую его «известность» никогда не забудут. Даже на гроб его, сокрытый в земле полюбившейся ему Франции, она падет тяжелым камнем презрения и подозрения. Не будет в российских газетах ни одного некролога в память об «отечественном бессмертном», почетном академике изящной словесности, где не вспомянут дни его печальной славы. И, воздавая ему посмертно почести, перечисляя в статьях, взятых в траурные рамки, его триумфы и взлеты, будут писать:
«В первый раз его имя прогремело по всей России, когда ему было около 30 лет. Его, молодого, родовитого, богатого барина обвинили в убийстве француженки Деманш. Был ли он причастен к убийству? Быть может, тут было только несчастное стечение обстоятельств. А может быть, страшная роковая тайна».
Едва только Александра Васильевича привезли в тюрьму и посадили в «секретную» – одиночную камеру для особо опасных преступников, сырую, темную, без окон, ощетинившуюся острыми выступами шершавых булыжников, он тут же потребовал перо и бумагу. Нет, еще не «Свадьбу Кречинского», строки которой засверкают на серых казенных листах во время его второго, шестимесячного заключения, задумал он писать. Он принялся писать сановникам Москвы и Петербурга безвестно канувшие в бумажную Лету, тлеющие в архиве московского обер-полицмейстера «адреса протестов». Он писал их, не смыкая глаз, в перерывах между жестокими ночными допросами, во время которых в полицейскую часть вдруг являлся сам обер-полицмейстер Лужин и, пристально глядя в глаза Александру Васильевичу, объявлял ему на французском языке, чтобы он «безрассудно не медлил с добровольным признанием», поскольку «запирательство» его «послужит только к аресту» всех близких ему лиц. В ответ Сухово-Кобылин требовал, чтобы ему представили все улики, и продолжал протестовать: против «совершенно произвольного делания в доме моем трех обысков, с выемкою бумаг, вещей и половых досок, нисколько к делу не относящихся, и без объявления следователями основания и повода к учинению оных обысков в дворянском доме»; против «заключения меня под тягчайший арест и содержания в секрете, в Тверской и Мясницкой частях, совершенно без всякого основания, без улик и без чьего-либо голословного оговора, без предварительного разведывания, без огласки: следователи самопроизвольно и пристрастно направились ко мне в дом, меня арестовали и тем самым привлекли безвинно к делу, а имя и честь мою предали публичному позору». Он гневно вопрошал: «Почему подвергнут я, ограждаемый законами и государей моих жалованными грамотами, дворянин, без всяких улик и обвинений, высшей степени заключения в частной тюрьме, в секретных оной помещениях, об стену с ворами и безнравственной чернью?»
– Что это, а? а? Скажите, скажите мне, кто здесь командует?
– Господин частный пристав.
– А! – частный пристав – частный пристав – а как он смел, частный пристав, меня беспокоить, а? как он смел?
– Да вот извольте объясниться с ними.
– Нет, я спрашиваю: как же он смел? Да знает ли он, кто я? а? Да я… я сам власть имею, а? Я помещик Чванкин!! Да у меня в Саратовской губернии двести душ! Да у меня в Симбирской губернии двести душ! Да у меня черт знает где черт знает сколько душ! Да я… Да он…
– Что прикажете тут делать?
– Попроси их в темную.
– Можно?
– Можно. Пиши постановление, знаешь – там – по форме, сбивчивость речей… нечто тяготеющее душу и прочее.
(Это слова прямо из подлинного дела об убийстве Деманш: «Принимая во внимание обстоятельства дела, навлекающие сильные подозрения… а равно сбивчивость его в речах, смущение его и как бы нерешительность высказать нечто тяготеющее совесть и душу…» Формы, формы! Он хорошо изучил их за семь лет беспрерывного следствия.)
– Чью душу? Говорите, чью? – мою? Так знайте, что у меня в Саратовской губернии триста душ, да у меня в Симбирской губ…
– Ну-тка в темную!
– Как в темную?! Стой! Вы! – Эй! Стой! Зачем? Я протестую, я адрес! У подножия престола… я у подножия…
«Смерть Тарелкина», действие третье, явление VI
В этой сцене беспощадная и желчная самоирония – «высшая потенция нравственности».
До «подножия престола» дело пока еще не дошло. Но вот министру юстиции Сухово-Кобылин уже слал «адрес»:
«Ваше сиятельство.
Закон не дозволяет мне видеть Вас, но оскорбление, нанесенное моему имени, и страдания, которые я безвинно и противузаконно должен был вытерпеть, дают мне право беспокоить Вас.
Я не имею никакой нужды в оправдании. Взгляд Ваш на дело убедит Вас в этом…»
Потом и над этим своим письмом он будет иронизировать, изображая диалог недоуменного просителя и умудренного чиновника:
– В чем же невинному человеку оправдываться?
– Невинному, сударь, и оправдываться, а виновный у меня не оправдается – за это я вам отвечаю. Продолжайте.
«Дело», действие третье, явление IX
«…но я прошу Вас именем правосудия, которого Вы главнейший орган, обратить строгое внимание Ваше на вопрос: за что я был взят и содержим в тюрьме и почему судопроизводство не оградило мое имя от дела по смертоубийству. Это вопрос о чести гражданина, и я не могу допустить в себе мысли, чтобы он не был первым вопросом судебного правосудия».
Что является извечно первым вопросом судебного правосудия в России, он узнает позднее, когда его незрячий поводырь, упорный в своем стремлении открыть ему глаза, проведет его по коридорам всех судебных инстанций империи – от низших до высших. И тогда, отчаявшийся и уставший от беспрестанного требования взяток, от откровенного шантажа, от бесконечных опровержений лжесвидетельств, от подтасовок и фальсификаций, от унижений и оскорблений, он скажет:
– Когда ближе, как можно ближе посмотришь на эту матушку-Расею – какая полная и преполная чаша безобразий. Язык устает говорить, глаза уста-ют смотреть.
И произнесет слова еще более жесткие:
– Богом, правдою и совестью оставленная Россия – куда идешь ты – в сопутствии твоих воров, грабителей, негодяев, скотов и бездельников?
Но в те ноябрьские дни 1850 года он был еще далек от понимания этих истин. И только относительно себя самого, своей судьбы он многое уже прозревал.
«Жизнь начинаю постигать иначе, – пишет он, сидя в тюрьме. – Труд, труд и труд. Возобновляющий освежительный труд. Среди природы под утренним дыханием… Да будет это начало – начало новой эпохи в моей жизни… Мое заключение жестокое, потому что безвинное – ведет меня на другой путь и потому благодатное».
В его могучей, страстной и жизнестойкой натуре была заложена врожденная способность возрождаться из пепла и грязи. И именно эта счастливая способность, верным признаком которой служит наличие в нем особого внутреннего жала, напитанного ядом язвительных самооценок, а не бодрящие упражнения шведской гимнастики, которую он делал в тюремной камере, чтобы укрепить свои нервы и не сойти с ума, спасла его от отчаяния и разложения духа.
«Мне очень грустно и ужасно одиноко, – писал он сестре Евдокии, – я испытываю судьбу ребенка, избалованного любовью, и учусь быть и жить в одиночестве. Я не думал, что это будет так трудно, и как все такие дети, не знал цены того, что мне давали. Я прохожу школу, как говорится, но к чему?»
Он уже и тогда, во время первого тюремного заключения, был близок к ответу на этот вопрос – к чему?
«Зная наслаждения всякого рода, – писал он, – я прихожу к убеждению, что лучшими из них являются те, которые доставляют нам наука и искусство, – они дают нам возможность говорить omnia теа тесит porto[10]10
Всё мое ношу с собой (лат.).
[Закрыть]. Это имеет огромное значение в жизни».
«Адреса протестов» Сухово-Кобылина оставались без ответов. Сановники угрюмо молчали, предоставляя возможность Закревскому единолично распоряжаться судьбой столбового дворянина. И он распоряжался. Он вновь направил следователей в дом Сухово-Кобылина с обыском. Невод и на этот раз был закинут удачно: явились новые улики – кастильские кинжалы. Доставив их завернутыми в бумагу к генерал-губернатору, следователь Троицкий тут же завел новый лист в деле об убийстве Деманш и, аккуратно пронумеровав его, записал:
«Побудительной причиной к отобранию при обыске от Сухово-Кобылина двух кинжалов, найденных у него, была записка, в числе многих писанная рукою Сухово-Кобылина на французском языке, который я понимаю. В записке этой он намеревался поразить Симон-Деманш кастильским кинжалом».
К делу была подшита и сама записка, которую Александр Васильевич послал Луизе из Москвы в Останкино летом 1850 года, за несколько месяцев до ее гибели.
«Милая маменька, – писал он француженке, – мне придется на несколько дней остаться в Москве. Зная, что Вы остались на даче лишь для разыгрывания своих фарсов и чтобы внимать голосу страсти, который называет Вам не мое имя, но имя другого! – я предпочитаю призвать Вас к себе, чтоб иметь неблагодарную и клятвопреступную женщину в поле моего зрения и на расстоянии моего кастильского кинжала.
Возвращайтесь и трррррр… пещите».
Кинжалы у него нашлись, два кинжала, обоюдоострых, как и его дело. Они не могли не найтись в доме известного фехтовальщика. И Закревский, когда посылал следователей в дом Кобылина, знал, что кинжалы там найдутся обязательно. Да только не об этих кинжалах шла речь в страстном любовном письме. «Кастильский кинжал» здесь не более (и не менее) чем эротический символ в интимном лексиконе любовников.
«Об этом письме, как улике против него, – пишет Александр Рембелинский, – мне часто говорил сам Сухово-Кобылин, он придавал этому письму совсем другой, игривый любовный смысл».
Но вот это письмо вместе с кинжалами, которые были приобщены к делу в качестве вещественного доказательства преступления, стало фигурировать во всех обвинительных речах и резолюциях.
«Из числа писем, взятых в квартире убитой Деманш, – указывал министр юстиции, вынося заключение по делу, – в одном, под номером 2, Сухове-Кобылин писал, что решился призвать ее к себе из деревни, чтобы иметь при себе неблагодарную и клятвопреступную женщину и чтобы иметь возможность пронзить ее своим кастильским кинжалом (граф Панин, конечно, не подозревал, какую двусмысленность он говорит. – В. О.). Записка эта весьма малая, но Симон-Деманш сохранила ее в своих бумагах. На сие обстоятельство следователям надлежит обратить внимание».
Имея в виду это же послание, обер-прокурор Лебедев подчеркивал: «В некоторых письмах Кобылина к Деманш выражаются неудовольствия, укор в неверности и даже угрозы пронзить ее своим кастильским кинжалом».
Что ж, «кастильский кинжал» Сухово-Кобылина – нет сомнения, улика серьезная: до начала следствия он успел им «пронзить» и «поразить» немало московских ветрениц.
* * *
Пока Александр Васильевич сидел в тюрьме, по Москве шатался некий поручик Григорий Скорняков – сентиментальный авантюрист с явными признаками психических отклонений. Этот поручик, выдававший себя за австрийского подданного и потомственного графа Иоганна Мошинского, а на самом деле мелкий мошенник, подделывавший документы об отставке армейским офицерам, рассказывал всем, кто желал его слушать, ужасную историю. Будто какой-то коллежский регистратор Алексей Петрович Сергеев, «человек, гонимый бурею жизни», встретился с Сухово-Кобылиным в маскараде и предложил ему «свои адские услуги». Сухово-Кобылин «промотал пятьсот тысяч капитала Симон Демьяновой, на нем висел тайный долг, да к тому же Симон Демьянова была женщиной под осень жизни, начинающая увядать красотою». И вот Сухово-Кобылин «решился истребить ее с лица земли и поручил это адское дело вышеозначенному Сергееву за тысячу рублей… Сергеев схоронился в кабинете Сухово-Кобылина за портьерой с кинжалом… Как тигр бросился он на свою жертву и перерезал ей горло. Кровь слил под половицу, и только на стену брызнуло два пятна».
Каково же было изумление Скорнякова, когда Особая следственная комиссия, снаряженная самим военным генерал-губернатором Москвы, удостоила вниманием его персону и призвала его давать показания под присягой. Десять листов клинического бреда внесены в дело с полной серьезностью в качестве полноправного свидетельства. Следователи записывали слово в слово – о «бурях жизни», об увядающей красоте «Симон Демьяновой», о коллежском регистраторе за портьерой, о броске «тигра», и Скорняков, видя их неожиданное усердие, возбуждался с каждой минутой. Он говорил без умолку, не жалея эпитетов и красок для «адской истории». Он бы в порыве чувств и на себя показал, чтобы только стать героем громкой драмы, обсуждавшейся в обеих столицах, если бы не грозившие 20 лет каторги и 100 шомполов.
Вот и голословный оговор в деле появился.
– Эх, эти пятидесятые годы! – говорил Александр Васильевич студенту Сергею Сухонину, посещавшему его на вилле во Франции. – Накануне каторги я был. И не будь у меня связей да денег, давно бы я сгнил где-нибудь в Сибири.
* * *
Собирая улики против Сухово-Кобылина, показания свидетелей, а заодно и лжесвидетелей, Закревский преследовал свою цель, следователи – свою. Для них Александр Васильевич был «жирным куском», и они не упускали возможности поживиться.
Капканы были заряжены, сети расставлены, и пора было тянуть. Во время допроса, изложив Александру Васильевичу разнообразные обстоятельства дела и возможные пути его дальнейшего развития, следователь Троицкий вдруг мягко взял арестанта за локоть и повел в свой кабинет… До Сухово-Кобылина никому из русских литераторов не представлялась «счастливая» возможность писать подобные сцены с натуры:
ВАРРАВИН….я затем коснулся этих фактов, чтобы показать вам эту обоюдоострость и качательность вашего дела, по которой оно, если поведете туда, то и всё оно пойдет туда… а если поведется сюда, то и всё… пойдет сюда…
МУРОМСКИЙ. Как же это так и туда и сюда?
ВАРРАВИН. Да! И туда и сюда. Так, что закон-то при всей своей карающей власти, как бы подняв кверху меч, и по сие еще время спрашивает: куда же мне, говорит, Варравин, ударить?!
МУРОМСКИЙ. Боже милостивый!
ВАРРАВИН. Вот это самое весами правосудия и зовется. Богиня-то правосудия, Фемида-то, ведь она так и пишется: весы и меч!
МУРОМСКИЙ. Гм… Весы и меч… ну мечом-то она, конечно, сечет, а на весах-то?
ВАРРАВИН. И на весах, варварка, торгует. МУРОМСКИЙ. А, а, а… понял.
ВАРРАВИН. Ну, а сколько б, вы думали, в старину взял бы приказный с вас за это дело?
МУРОМСКИЙ. Я, право, не знаю. Я по этим торгам – неопытен.
ВАРРАВИН. Ну вы для шутки.
МУРОМСКИЙ. Право, неопытен… Тысчонки бы три взял.
ВАРРАВИН. Тридцать тысяч!
МУРОМСКИЙ. Как!.. Как вы это сказали?
ВАРРАВИН. Да, тридцать тысяч и ни копейки бы меньше приказный этот не взял. Да, слышите: не на ассигнации, а на серебро.
МУРОМСКИЙ. На серебро!!! Силы небесные – да ведь это сто тысяч – это гора!!! Состояние! Жизнь человеческая! – Сто тысяч!
МУРОМСКИЙ….Где я их возьму? Их у меня нет, видит Бог, нет… Что же, стало, Стрешнево продавать? Прах-то отцов – дедов достояние[11]11
Подмосковное имение Сухово-Кобылина Воскресенское, которое «растаяло на взятках», было родовым гнездом, где сам он родился 17 сентября 1817 года, где появились на свет его отец, герой Отечественной войны 1812 года, полковник гренадерского полка, дед и прадед.
[Закрыть]. Так нет! Не отдам!
«Дело», действие второе, явления VI и VII
– Ну а раз так, любезнейший Александр Васильевич, будем свидетельствовать, а? Извольте дать следствию объяснение о найденных в вашем доме кровавых пятнах… И подробно, подробно, господин Кобылин!
И он стал объяснять, путаясь, сбиваясь с одного на другое:
– При осмотре квартиры моей действительно найдены два, весьма малых, кровавых пятна не в зале, а в прихожей комнате, ведущей в сени и в кухню, происшедших от двух капель на стену, поелику я проживаю в этой квартире только с четвертого числа сего месяца, до меня же жили в оной многие из моих родственников, а в особенности мать моя и тетка, тайная советница Жукова, со своим семейством, состоявшим из восьми человек с прислугою, имея двух больных дочерей, коих она пользовала, как то: ставила пиявки и тому подобное, и, наконец, здесь же проживала, тою же осенью, двоюродная сестра моя, тайная советница Бороздина с девкою; а потому я совершенно не могу определить причины, по которой оные капли на стене оказались. К тому же, как заметно, они были стары и вся стена довольно ветха, что доказывает во многих местах осыпавшаяся штукатурка. При этом необходимым нахожу я присовокупить, что камердинер мой подвержен кровотечению из носа, и потому немудрено, что, живя в этой комнате и обертываясь к стене, он и сам мог запачкать оную, а равно и прислуга матери моей, потом тайной советницы Жуковой и, наконец, тайной советницы Бороздиной, которая помещалась в этой комнате, легко могли запачкать стену сими двумя кровавыми пятнами по какому-либо болезненному припадку или случаю, как то: обрезу, уколу и тому подобное; что же касается до кровавых пятен, замеченных в сенях, ведущих в кухню, а равно и на ступенях крыльца черного, ведущего в ту же кухню, то, без всякого сомнения, они произошли от поваров, которые в сенях прикалывали живность для стола.
Министр юстиции граф Панин нашел это объяснение «не заслуживающим никакого вероятия».
Пройдет время, и Панин усмотрит в нем «вполне разумные доводы». Нет, Виктор Никифорович не забудет своего первого мнения и обвинительных резолюций. Этот человек, по свидетельству сослуживцев и многочисленных биографов, обладал не только «изумительным и чарующим красноречием», но и «памятью необыкновенной». Он помнил наизусть, от корки до корки, весь Свод законов и при докладе дел в Государственном совете «удивлял всех знанием обстоятельств оных». К своим словам министр относился с чрезвычайной ревностью. «Раз данную им на представленном докладе или вступившей бумаге резолюцию, – пишет сенатор Семенов, – граф уже не считал возможным изменить, полагая, что этим умалил бы достоинство своего звания и положения, хотя бы такая резолюция была дана им по ошибке или недоразумению или была бы вовсе неисполнима».
Да, министр юстиции был тверд в словах и поступках. Старший юрисконсульт министерства Колмаков утверждал, что на убеждения графа «не влияли никакие ходатайства высокопоставленных лиц; он равно относился ко всем, и для него буква закона была превыше всего». Правда, верный чиновник, ставший под старость биографом графа, тут же с горечью добавлял: «А между тем говорили и писали, что будто бы граф Панин не был самостоятелен и справедлив в мнениях своих и что будто бы он желал угождать особам и лицам, близко стоявшим ко двору или к высшим властям». Что ж, букву закона граф Панин чтил. Но была и другая буква – «я». Поставленная в сочетании с «высочайшим именем» на резолюцию, прямо противоположную мнению Панина, она становилась превыше любого закона, ибо над ней незримо сияла корона российского самодержца. Эта буква приводила Панина в трепет, превращала в послушного попку, и он, докладывая в Сенате свое «новое мнение», противоречащее прежнему, громко выкрикивал свое маленькое, по сравнению с этим большим и грозным, но всё же важное министерское «я».
Может быть, именно это глубокое чувство родства с забавной птицей побудило однажды Панина завести в Министерстве юстиции попугаев. Сенатор Семенов, служивший под его началом, вспоминает об этом с искренней нежностью: «Как-то раз Виктор Никифорович поручил экзекутору и казначею департаментов Министерства юстиции Ивану Матвеевичу Лалаеву купить несколько попугаев поречистее и велел расставить их в клетках у себя по разным комнатам. Во время его занятий, когда, утомленный долгим сидением, он вставал, чтоб пройтись по залам своей просторной квартиры в доме Министерства юстиции, попугаи начинали кричать и болтали. Это настолько утешало его, что он говорил, что одиночество стало для него легче с тех пор, как у него попугаи, что он слышит у себя как бы живую речь и чувствует, что он не один…»
И не он один…
* * *
Кровавые пятна оставались самой грозной уликой против Сухово-Кобылина. Но для того, чтобы на основании этой улики признать его виновным в убийстве, следственной комиссии необходимо было установить три факта: во-первых, что эти пятна крови появились во флигеле Сухово-Кобылина между 7 и 9 ноября; во-вторых, что кровь, обнаруженная на ступеньках крыльца и на стене, принадлежит человеку; в-третьих, что это кровь Луизы Симон-Деманш.
Закревский надеялся получить подтверждение этих фактов от медицинской конторы полиции, куда он и направил доски с кровавыми пятнами и куски штукатурки, доставленные ему следователем Троицким. Ответа генерал-губернатор ждал с нетерпением, торопил экспертов, посылая курьеров в контору через каждый час. Получив, наконец, запечатанное в конверт заключение медицинской конторы, Закревский заперся в кабинете и велел никого к нему не пускать. Арсений Андреевич волновался. Он не исключал, что, быть может, держит сейчас в руках баснословный вексель на светского донжуана и острослова, оплатить который можно только одной монетой – двадцатью годами каторги. Закревский распечатал конверт, быстро пробежал глазами подробные описания размеров и конфигурации пятен, прочие мелочи, подмеченные скрупулезными медиками, и остановился на главном. И в этой своей главной части документ гласил:
«Что же касается до предлагаемых Комиссиею вопросов: человеческая ли кровь на кусках дерева или нет и каковому именно времени должно отнести появление кровавых пятен на штукатурке – то решение этих вопросов лежит вне границ, заключающих современные средства науки».
– Дармоеды! – выругался Закревский, бросив бумагу на стол.
Карта была бита, но партия еще не проиграна. Даже при таком заключении медицинской конторы дело сохраняло «качательность» и «обоюдоострость». Куда его повести, зависело от искусства следователей.
Александра Васильевича вновь вызвали на допрос. От него потребовали дать объяснение, почему он, еще до отыскания трупа Деманш, с таким «упорством и убеждением» высказывал предположение, что француженки нет в живых.
– Вы знали об этом, господин Кобылин. Вы даже знали, где лежит ее мертвое тело! Без вашей помощи мы его не смогли бы найти, не так ли?
Александр Васильевич стал терпеливо и обстоятельно говорить о состоянии беспокойства, которое приводило его «к мыслям самым ужасным, теперь подтвердившимся». При этом он сослался на письмо поручика Сушкова, стараясь доказать следователям, что не только у него, но и у постороннего человека могли возникнуть подобные опасения и что это вполне естественно.
Письмо Сушкова уже находилось у следователей. Жирными линиями в нем были подчеркнуты слова: «…в Петровском обворовали и даже могли убить», «…произошло какое-нибудь несчастье», «…полиции оно уже известно».
У следствия возникла версия: а почему бы Сушкову, близкому другу Сухово-Кобылина, не быть соучастником преступления? Поручика вызвали на допрос и предъявили ему письмо, указывая особо на подчеркнутые места.
– Письмо это было написано мною очень скоро, впопыхах, не перечитывая, – объяснял напуганный Сушков. – Я в нем написал всё, что только мог придумать для успокоения господина Кобылина, и, зная привычку Деманш ездить гулять по вечерам в парк на извозчике, сделал и это предположение – о том, что Деманш могла быть ограблена и убита.
Из письма поручика следовало, что Деманш была у Эрнестины Ландрет за несколько часов до своего исчезновения: «…она, уезжая от Эрнестины, говорила, что ей хотелось бы еще погулять в санях». Следователи ухватились за этот факт. Допрос Сушкова показал, что Луиза провела у Эрнестины в Газетном переулке всю вторую половину дня 7 ноября. Выяснилось также, что и поручик Сушков был вместе с ними. Его заставили дать подробный отчет об этом дне, он давал его трижды, отвечая каждый раз на одни и те же вопросы, поставленные в разной последовательности. Его показания следователи тщательно сопоставляли с показаниями Эрнестины и кучера Луизы, пытаясь найти разногласия, но всё безрезультатно. Допросы Сушкова никаких улик против Сухово-Кобылина и самого Сушкова не дали.
Однако Закревский решил на всякий случай держать поручика на крючке. Он крепко-накрепко привязал его к делу Сухово-Кобылина, предъявив ему обвинение в незаконном сожительстве с француженкой Ландрет и сокрытии от властей незаконного сожительства Кобылина с француженкой Деманш. Это давало возможность полиции взять с поручика (до решения судом вопроса о его наказании) подписку о невыезде с обязательством являться на допросы по первому требованию и в любое время. При этом Закревский дал тайное распоряжение следователям вызывать Сушкова в полицию регулярно, если не каждый день, то, по возможности, через день. Выдержать такое было непросто. Закревский надеялся, что рано или поздно поручик «заговорит».
* * *
В первые дни ареста Александр Васильевич не предпринимал никаких продуманных действий в свою защиту, кроме того, что писал жалобы и протесты высшим сановникам. Показания он давал совершенно безучастно, не вникая в дело, в замыслы Закревского. Но обстоятельства складывались так, что дальнейшее его неучастие могло привести к непоправимым последствиям. И он опомнился. Он начал действовать. Он потребовал, чтобы ему дали прочесть копии допросов его крепостных по делу об убийстве Деманш.
Внимательно изучив протоколы следствия, он понял, что первое, что выбивает у него почву из-под ног, – это показания его дворника, сторожа и повара, в которых утверждалось, что вечером 7 ноября он никуда не выезжал из дома. На основании этих показаний следователи делали вывод, что на балу у Нарышкиных он не был, а в своих показаниях от 10 ноября стремился «ввести комиссию в заблуждение», заявляя, что ужинал у Александра Григорьевича с восьми часов вечера до второго часа ночи. Он поинтересовался, были ли опрошены гости или прислуга Нарышкиных, и выяснил, что их показаний в деле нет. И тут только он начал понимать, как и кем затягивалась петля на его шее. Александр Васильевич заявил ультиматум следствию: он отказывался давать какие бы то ни было показания, пока не будут опрошены дворовые люди и гости Нарышкиных. Закревский вынужден был дать следователям разрешение на эти допросы.
– Сухово-Кобылин с седьмого на восьмое число ноября у господ моих был вместе с сестрою своею графинею Салиас, – показал дворовый Нарышкиных Павел Рудаков. – Прибыл он часа в четыре вечера и был часу до первого ночи и уехал вместе с графинею. К Кобылину в то время никто не приходил и никто его не спрашивал.





