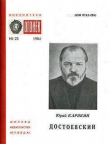Текст книги "Петербург-Москва-Петушки, или 'Записки из подполья' как русский философский жанр"
Автор книги: Владислав Бачинин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
На протяжении переезда от станции "33-й километр" до станции "Электроугли" Веничка излагает систему своих воззрений по одному частному вопросу, которые нельзя назвать иначе, как трактатом о пьяной икоте. Обильно сдобренный кантовской терминологией, латинскими выражениями, ссылками на Маркса и Энгельса, цитированием Евангелия и Достоевского, этот трактат обращается к темам рока и свободы, раскрывает диалектику взаимопревращений хаоса и порядка, случайности и необходимости, т.е. излагает чуть ли не универсальные принципы синергетики. Это одновременно гимн хаосу, вопль первобытного ужаса перед неодолимостью рока и возвышенная Теодицея. И все это на полутора страницах текста, которые можно успеть прочитать или произнести вслух на коротком перегоне между двумя остановками пригородной электрички. Возникает впечатление, будто душа великого Лао-цзы вселилась в бренную оболочку уже изрядно пьяного Венички, не утратившего, однако, способности прозревать глубины и осязать тайны.
Гений Венички позволяет ему констатировать сущностные особенности одолевающей человека икоты – ее неподвластность контролирующим усилиям рассудка и воли и отсутствие малейшего намека на регулярность проявлений. Тут же его мысль, оттолкнувшись от эмпирически фундированной констатации, взмывает в метафизические и сакральные выси: "Не так ли беспорядочно чередуются в жизни человечества его катастрофы? Закон – он выше всех нас. Икота – выше всякого закона... Она неисследима, а мы беспомощны. Мы начисто лишены всякой свободы воли, мы во власти произвола, которому нет имени и спасения от которого – тоже нет. Мы -дрожащие твари, а о н а – всесильна. Она, т.е. Божья Десница, которая над всеми занесена и пред которой не хотят склонить головы одни кретины и проходимцы. Он непостижим уму, а следовательно, Он есть. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный".
В эстетике винопития Ерофеева раблезианское начало нередко оттесняется далеко на задний план той чисто русской метафизикой пьянства, которая зачастую тождественна метафизике суицида. К художественному анализу этого тождества был близок Достоевский, когда задумывал роман "Преступление и наказание", называвшийся у него первоначально "Пьяненькие". В этой метафизике нет жизнерадостного веселья и карнавального разгула радующейся плоти, а есть лишь трагическое предчувствие неизбежности рокового конца. В ней душа, и так уже отдалившаяся от всех, готовится к последнему шагу, в неизбежность и близость которого верит пуще, чем в Господа Бога.
Подполье не занимает все внутреннее пространство души Венички. Для него, в отличие от Подпольного господина, существуют и истина, и добро, и красота. Их нет рядом и вокруг, но он уверен: они существуют и их свет брезжит для него в сумраке житейского туннеля. Он говорит: "Я не утверждаю, что теперь – мне -истина уже известна или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я уже на такое расстояние к ней подошел, с которого ее удобнее всего рассмотреть".
Подпольный гражданин Веничка – это, как и его литературный предтеча, Подпольный господин Достоевского, человек с больной, страдающей душой. Для него "мировая скорбь" – не литературный штамп, а умонастроение, которое он носит в себе и от которого не в силах избавиться. Состояние страждущей души Венички -это "горчайшее месиво" скорби, страха и немоты. Но если Подпольный господин ни от кого не скрывал своей боли, то Веничка существует в такой социальной среде, где не следует подавать вида, что твоя душа страждет, где нельзя демонстрировать симптомов своего внутреннего неблагополучия, а необходимо симулировать душевное здоровье, тратя на это огромные силы.
Невозможность диалогического общения демонстрируется Веничкой при помощи как иронии, так и цинизма. Будучи хотя и древней, но вместе с тем вполне модернистской формой одиночества в культуре, цинизм – это возможность пребывания не столько наедине с собой, сколько "наедине со всеми". Однако цинизм Венички позволяет ему обособиться в первую очередь от ценностей культуры советского модерна-авангарда. У него это совершенно особый цинизм, умный и едкий, направленный не против мира в целом, а против своего пребывания в этом окаянном мире в его окаянные дни. "Крылатые", словно летучие мыши, цитаты советских литературных классиков вместе с зубодробительными марксистскими идеологемами постоянно помещаются Веничкой в принижающие, "опускающие" их контексты. Так происходит, например, когда он сочиняет эссе на тему: "Стервозность как высшая и последняя стадия блядовитости". Порой, рассуждая, например, о женщинах, он берет на себя роль "марксиста" и говорит, что ему, "как Карлу Марксу, нравилась в них слабость, т.е. вот они вынуждены мочиться, приседая на корточки..." Временами интонации Венички весьма напоминают интонации Подпольного господина: "Я остаюсь внизу и снизу плюю на вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы -по плевку". А временами в них чувствуется что-то от бунта Ивана Карамазова: "...Умру, так и не приняв этого мира", или же звучит что-то гамлетовское: "Какая-то гниль во всем королевстве и у всех мозги набекрень". Порой его захлестывает темное чувство неудержимой ярости, и тогда в адрес "архитекторов" и "прорабов" московско-советской цивилизации раздаются проклятия: "О, позорники! Превратили мою землю в самый дерьмовый ад..." Они, эти "позорники", сделали все, чтобы "убить Бога" в живой душе Москвы, изнасиловать ее и погрузить в состояние сумеречной бездуховности. Они сокрушили многие сотни освещавших внутреннее пространство этой души золотых куполов.
Погасив этот свет, они тем самым создали гигантское темное социальное "подполье". Оттуда, из этого "подполья" Веничке явилась судьба в образе того "неизвестного с бритвою в руке", перед которым трепещет всякая русская душа. Для Венички он оказался слишком хорошо известным субъектом, но только не с бритвой, а с огромным шилом в руках. Он предстал в окружении нескольких обладателей классических профилей, то ли явившихся с Лубянки, то ли сошедших с тисненых переплетов священных марксистских скрижалей. "И вот тут случилось самое ужасное: один из них, с самым свирепым и классическим профилем, вытащил из кармана громадное шило с деревянной рукояткой... Они пригвоздили меня к полу, совершенно ополоумевшего... Зачем, зачем, – бормотал я... зачем, зачем? Они вонзили мне шило в самое горло... густая, красная буква "ю" распласталась у меня в глазах и задрожала. И с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду".
Этим "метафизическим намеком" на парадигматический характер судьбы Йозефа К. закончилась полемика поклонника уютных Петушков с архонтами московской цивилизации, которая не верит ни слезам, ни крови и не слышит ни жалоб, ни стонов, ни молений. Ему не просто "наступили на горло" или "подержали за горло", ему проткнули певчее горло трубадура жасминного рая. И сделано это было даже без театральности декоративного судопроизводства, как в цивилизованной Европе Франца Кафки, а по-московски брутально, с опричнинской безжалостностью. На этом оборвались московские "записки из подполья", ставшие эпитафией советскому официальному авангарду.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Чичерин Г. Моцарт. Исследовательский этюд. М., 1979. С. 155.
(c) В. Бачинин, 2001