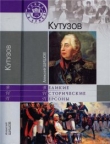Текст книги "Царская карусель. Война с Кутузовым"
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Последние крохи мира
В тридцать пять лет ничто не обременительно и необъятный мир объятен.
Император Александр, без охраны, с кучером на козлах и с обер-гофмаршалом Толстым в экипаже, прикатили в Товяны, в имение графини Морикони. Это был визит для души – согреться в кругу очаровательных женщин от летних морозов жесточайшей политики, от грубости солдатчины.
Графиня, вдова генерала, была на год-полтора моложе гостя, ее дочь, Доротея, роза не распустившаяся, но уже чудо. Что же до графини Софьи Шуазель-Гуфье, урожденной Тизенгаузен – тут у государя объявилась сердечная немочь.
Говорили о совершенстве Божьего мира. Юная Доротея собирала мудрую коллекцию малого, но прекрасного. В этой коллекции были крошечные жучки, сияющие, как драгоценные камешки, мотыльки, изумительных форм раковины, зерна.
– Вы у Господа должны быть в любимицах! – Александр поцеловал розовые пальчики Доротеи. – Ваши очи видят прекрасное, безупречное даже в обыкновенных зернах! И это воистину прекрасно! Это совершенно!
За обедом подавали блюда самые изысканные. Куропатки, приготовленные в драгоценных винах, нашпигованные сорока снадобьями, бобровые хвосты, улитки по-французски…
Но изумляться пришлось женщинам. Император кушаньями восторгался, но насытился ничтожно малым.
– Вот кто исправный едок! – показал государь на Толстого.
И граф даже осерчал:
– Его Величество считает человека пообедавшим, если он съел в одиннадцать часов утра кусочек курицы и одно яйцо!
После обеда графиня Доротея пела. У Александра сверкнули слезы в глазах. Эта алмазная синева вызвала ответные затаиваемые слезы графини Софьи. Александр воскликнул:
– Какая жалость! Я не учен музыке, и, должно быть, многое проходит мимо моего сознания. Великая бабушка моя не позволяла внукам тратить время на музыку, почитая занятнее сие пустой шалостью. Я слушал вас, графиня, одним сердцем. И сердце мое благодарно вашему чувству. Оно достигает таких глубин души, о которых я, прожив тридцать пять лет, не знал в себе.
Столь пылкие слова в похвалу графини Доротеи произнесены были ради графини Софьи.
Прощаясь, Александр сказал дамам:
– С нетерпением буду ждать завтрашнего вечера, чтобы видеть вас в Закрете.
Царские праздники – на земле и на небе.
Восемь часов вечера, июль. Бал открыли в парке.
Старые деревья величественны. Свет с неба, от ласковой ряби облачков, свет от Вилии – река скорее небесная, чем земная.
Рухнувшую галерею убрали, но паркет посреди лужайки был манящ и совершенно к месту.
Дамы расселись на легких стульях по кругу площадки. Глаза красавиц туманили мечты, предчувствие волшебного. Юные личики розовели от ожиданья, и облака, увидавши, как это мило, тоже порозовели.
Появились генералы, офицеры. Градус ожидания поднимался выше и выше.
Прапорщики-квартирьеры, как синички, замелькали среди гостей.
Братья Муравьевы в Большой бальный парад облачились первый раз в жизни: слепящие белизною штаны, чулки, башмаки. Зеленые мундиры от соседства с белизною, в удивительном природном освещении, казались изумрудными.
– Одного недостает! – состроив озабоченную мину, тяжко вздохнул 5-й.
Братья смотрели на Мишу, не понимая.
– Орденов, господа!
Николай засмеялся, но старший, Александр, не принял шутки:
– Всему свой срок!
– Ах, этот срок! – 5-й указал глазами на генералов. – Видите, что приложимо к орденам?
– Да что же?! – Теперь уже и Николай осерчал умничанью меньшого.
– Пузцо!
Как было не раскатиться дружным, притаенным, приличия ради, хохотом.
– Да где же государь?! – потерял терпенье Дурново.
И тут все увидели Александра.
В мундире Семеновского полка с небесно-голубыми отворотами, он вел под руку графиню Беннигсен, хозяйку Закрета.
– Такого женского великолепия не знали ни греки, ни римляне! – Муравьев 1-й почитал себя знатоком красоты.
– Обладателю сего сокровища под семьдесят, но его счастье выстраданное! – шепнул братьям всеведающий Дурново. – Леонтий Леонтьевич наследовал в юности огромное состояние. Увы! Вследствие чрезмерной страсти к прекрасному полу в 28 лет он уже был нищим. А где искать немцу кладезь рублей и славы? Угадали, господа! Определился в русскую службу, от природного ганноверского подданства, впрочем, не отказываясь. У нас это возможно.
Беннигсен даже рядом с императором выглядел неподступным монументом. Серые, ледяные и все-таки влекущие к себе глаза. Голова лошадиная, но породы отменной. Лоб – светоча! Стреловидный нос, пересекая лицо, нависал над тонкими, вроде бы и безжизненными губами, но – взмах ресницами, губы растягивает полуулыбка – сфинкс ожил, и всё пред ним ничтожно.
– Это мы – прапорщики! Немцы – сразу генералы! – Миша невинно помаргивал глазами.
Муравьев 1-й глянул на брата укоряюще:
– Леонтий Леонтьевич начал с премьер-майора. Отнюдь не в гвардии, а в самом что ни на есть провинциальном полку, а мушкетерском Вятском. Генеральский чин получил через двадцать лет. Кстати, от самого Суворова.
– Беннигсен – командующий в деле у Прейсиш-Эйлау! – Дурново вроде бы взял сторону Муравьева 1-го.
– И при Фриндланде! – тотчас напомнил Миша.
– Представляя Беннигсена к чину генерал-майора за пыл, отвагу и быстроту, Суворов посчитал непременным указать, что это предел для ганноверца, ибо сей муж не выявил более высокого призвания, необходимого для командующего армией! – В глазах Дурново вспыхнули искорки. – Александр Васильевич не учел, что Леонтий Леонтьевич на самом-то деле Левин Август Теофил. Немецкое рыцарство! В какие-нибудь полтора месяца после получения генерала Екатерина наградила ганноверца Георгием 3-й степени, Владимиром 2-й, золотой, в бриллиантах, шпагой «За храбрость» и впридачу пожаловала 1080 душ в Минской губернии.
– Под Прейсиш-Эйлау Беннигсен победил Наполеона, стало быть, императрица была прозорливее Суворова. – Александру Муравьеву нравился генерал.
– Победил, положивши двадцать тысяч русских солдат, – прибавил младший братец.
– В Тильзите, – тонко улыбнулся Дурново, – Наполеон воздал должное графу Беннигсену: «Вы были злы под Эйлау, – сказал он. – Я всегда любовался вашим дарованием, еще более вашею осторожностью».
– Осторожность – не худшее качество для генерала! – Было видно, Муравьев 1-й уже сердится. – Уберечь от неоправданной смерти одного солдата – дело Божеское, а если роту, полк, армию?!
– И все-таки граф более всего похож на байроновского командора! – Миша был серьезен.
– Кто же дон Жуан? – громко спросил средний, Николай, и прикусил язык.
Император Александр, оставивши хозяев дворца, шел по кругу, приветствуя дам, не позволяя им подниматься с места.
Официанты обносили гостей бокалами с прохладительными напитками.
– Нам всем надо радоваться, что от взглядов человека не убывает! – не унимался Муравьев 5-й.
– Дорогой братец! – Александр до боли сдавил локоть говоруну.
– Нет, ты посмотри, как все эти ясновельможные пани пожирают очами предмет своего обожания!
– Самки! – согласился с младшим прямодушный Николай. – Они же все ненавидят русское до скрежета зубов и – без памяти от императора русских.
Возле Беннигсена пошло какое-то движение, и у Дурново в глазах снова запрыгали искорки:
– Мозги русской армии! – К Беннигсену подошли, жали ему руку Нессельроде, Анстед, Фуль, Анфельд и… – Кто этот партикулярный?
Дурново исчез и появился:
– Граф Огиньский прибыл из Петербурга. Видимо, весьма надобен императору.
– Ну, разумеется! – многозначительно сдвинул брови Муравьев 1-й.
Они были в восторге от самих себя. Пусть прапорщики, но при Главной квартире, при государственной тайне. При самом счастье.
И тут опять, совершенно рядом, ведя графиню Шуазель-Гуфье под руку, прошел император. Он был в прекрасном настроении. Прапорщики слышали, как Александр говорил графине по-французски:
– Я теперь вправе носить мундир виленского дворянина. Завтра на обеде, который я даю в Вильне, вы увидите меня в обнове.
– Свершилось! – Дурново смотрел на Муравьевых такими глазами, словно бы сам продал Закрет императору.
Есть тайны двора, а есть тайны для Двора. Побежали шепотки, вот уже и прапорщики знали: графу Беннигсену государственный казначей только что отсчитал двенадцать тысяч червонцами! Граф спасен от безденежья. Да что от безденежья, от полного разора… О, благородный Александр! Ведь если Наполеон перейдет Неман, а он его перейдет, Закрет достанется французам. Много через месяц, скорее всего – через неделю.
Об этом молчали. Чего нельзя – нельзя, а что можно – можно. Получивший волю язык остановиться не умеет. Прапорщики взяли в оборот стоявших троицею Аракчеева, Балашова, Шишкова.
– Два столпа государственности – вполне столпы! – Дурново показывал глазами на Аракчеева и Шишкова. – А сие какой же столп – столбушок. И, Господи! – есть ли еще в России более некрасивый человек, нежели…
Разумеется, не договаривал. Тирада относилась к Балашову.
– Александр Дмитриевич один стоит Государственного Совета, – сказал Муравьев 1-й. – Главному полицмейстеру России достало бы и дюжего кулака, но государь поручил сию должность не просто умному, но стремящемуся к знанию.
И тут грянул полонез.
Александр открыл бал, танцуя с графиней Беннигсен. Второй танец – с супругой Барклая де Толли. Третий был за Софьей Шуазель-Гуфье.
Далее бал перебрался в залу второго этажа, и тотчас стало невыносимо жарко. После кадрили Александр увлек графиню Софью в путешествие по залам своего Закрета.
Им встретился человек в парике, надетом несколько набекрень.
– Ведь это вашего сочинения кадриль, господин Мерлине? – спросил государь.
Композитор был чудовищно близорук и не разглядел, кто это с ним разговаривает.
– Никуда не денешься, друг мой, – моя кадрилька!
Графиня сделала страшные глаза, но сочинитель не разглядел и предупрежденья. Государь придвинул к ее лицу свое, быстрым поцелуем прикрыл уста. Тотчас радостно пожал руку автору кадрили:
– Вы замечательный музыкант, маэстро!
– Нынче мои кадрили пляшут! – согласился Мерлине. – Завтра придут другие, со смычками и литаврами. Но сегодня мой день.
– Что нам до завтра, когда сегодня сердце замирает от восторга! – Государь и графиня оббежали чудака, очутились на балконе.
– Господи! Какая луна!
– Фонарь, – сказал Александр, не больно-то жалуя светило.
Два огромных стола в парке были накрыты для ужина, и на государя, на его даму смотрело множество глаз.
Александр вздохнул, и очень огорченно.
– Вы хорошо и грациозно танцуете, – сказал он графине.
– Но вздох ваш был такой тяжкий. Вы устали?
– Графиня! Неужто вам не известна причина моего огорчения! Что же до вашего танца – это полет.
– Я сделаюсь от похвал гордою.
– Упаси вас бог! Грацией тщеславиться нельзя! Грация – природный дар. Приобрести его невозможно.
Графиня молчала. И государю пришлось самому вести разговор.
– Остаетесь ли вы при отце?
– Если Ваше Величество покинет Вильну, ее покинут многие, я буду среди тех, кто последует за вами.
– На месте вашего батюшки я никогда бы не расставался с вами. – Александр, видимо, не вслушивался в слова, ему сказанные. Он приготовлял эту самую важную фразу.
Раздались сильные хлопки, в небо взлетели звезды фейерверка, и надо было идти к ожидающим его царского восхищения.
А бал гремел.
Прапорщики соколами налетали на лебединую стаю красавиц. Царица музыка позволяла прилюдно взять любую диву за руку и пуститься с нею по волнам восторга.
После очередной карусели танцев, прапорщики, сойдясь на краткий миг, искали, кого еще подвергнуть озорному обсуждению. И, конечно, всех опередил глазастый Муравьев 5-й:
– Уморительно! Куда вы смотрите?
Увидели. Высоченный господин, в платье отнюдь не для бала, изогнувшись знаком вопроса, прилюдно шептал Балашову в ухо.
– Доносы при честном народе! – хохотнул Дурново.
– Это Бистром, ковенский городничий! – узнал Муравьев 1-й. – Я с ним знакомился во время поездки в Гродно.
Раздались звуки мазурки, прапорщики готовы были лететь к дамам.
– Посмотрите! Посмотрите! – показывал Муравьев-младший на удаляющихся высоченного Бистрома и крошечного Балашова. Это было очень смешно.
Рескрипт за полночь
Государственный секретарь Александр Семенович Шишков, оставшись на мгновение в одиночестве – Аракчеев завладел вниманием канцлера Румянцева – поторопился исчезнуть.
Поехал к ученым друзьям, пригласившим поэта-адмирала на ужин, на беседу, на карты…
Где Шишков, там все другие темы разговоров заслоняет спор о языке. Именно спор! Не спорить невозможно, когда высшее, стало быть, просвещенное сословие предпочитает родному языку язык не только потенциального врага, но врага, изготовившегося к нападению.
– Французы не имеют возможности черпать из духовных своих книг столько, сколько могут русские из своих церковных сочинений! – кинулся в бой Александр Семенович, хотя никто ему ни в чем еще и возразить не успел. – Слог церковно-славянских сочинений величественен, краток, силен, богат. Сравните наши духовные книги с духовными писаниями французов. Сказанное мною обнаруживается тотчас!
Проблемы русского языка нисколько не интересовали ученых поляков и литовцев. Для тех и других животрепещущим был вопрос государственного переустройства.
Поляки, обещавшие Наполеону поголовное участие в войне с Россией, наградой для себя полагали провозглашение Речи Посполитой самостоятельным государством, Сейм, предвосхищая грядущие события, уже успел объявить эту самую независимость. Однако Наполеон решения сейма не утвердил.
– Депутат Вербицкий, – рассказывал Шишкову магистр философии с огнем в глазах, – умолял императора: «Скажите «да» – и будет Польша! Ваше слово для целого мира равносильно действительному восстановлению Польши». И что же ответил Наполеон на сей пламень любви и надежды? «Я награжу преданность вашу всем, что может по обстоятельствам от меня зависеть».
– Наполеону дороги союзные отношения с Австрией и Пруссией, – развел руками Шишков. – Австрия и Пруссия участницы раздела Польши. Восстановить Речь Посполитую для них – лишиться территорий.
– Но что приносит огромной России обладание Польшей, Литвой? Разве не выгоднее русским перед угрозою войны с Наполеоном иметь в своих рядах благодарные армии Польши и Литвы?
Александр Семенович поразился напряженной тишине, с какою ждали его ответа.
– Господа! Вспомните Ярослава Мудрого. Он дал сыновьям веник и предложил сломать. Сломать веник сил не хватило, хотя сломать веточки, составляющие веник, оказалось просто… Россия обезопасила себя от такого слома. Наша империя – слагаемое многих царств, земель, а Германия не озаботилась о венике и стала легкой добычей Наполеона.
– Ужасное сравнение! – вскипел магистр. – Веник! Метла! Кто-то ведь должен думать о счастье народов?! Ныне, слава богу, на дворе век просвещения. Стало быть, тяга к национальному самосознанию.
– Ах, вы о счастье! Первейшее счастье народа – мир. Россия дала мир своим народам. Это не все ценят. Для многих, господа, – увы! – для очень многих гордыня и престиж дороже мира, дороже благополучной жизни! – Шишков смотрел на пылкого националиста твердо и открыто. – Есть ведь и такое обстоятельство, господа: история. Римская империя, хаос истребительных войн между племенами и снова – империя. Теперь уже священная… Ничто не вечно, господа! Империя французов самоистребится, как только не станет Наполеона. Рухнет Британская империя. Согрешим перед Богом – и Россию обкорнают… Вот только какую цену придется заплатить народам за так называемую свободу? По мне, цена ей – исчезновение с лица земли. Сколько их, живых языков, ставших мертвыми?
Рассуждения Шишкова не понравились. Разговор пошел пустой, хозяин предложил игру. Но игра шла мелкая, и вечер быстро завершился.
Впрочем, Александр Семенович домой вернулся вполне довольным.
Он, как всегда, выиграл. Покрыл взнос на бал в Закрете. И, главное, в час ночи был уже в постели. За день утомился до изнеможения.
Приснились стихи Анны Петровны Буниной. Она и впрямь когда-то читала у Державина заупокойную оду о своей подруге, умершей в шестнадцать лет, и наглец Жихарев, коему было чуть поболе шестнадцати, раскритиковал оду за холодность, чопорность, но расхвалил две строки эпиграфа. Саму оду Александр Семенович не запомнил, а вот эпиграф он как раз и перечитывал в своем сне: «Бог дал нам ее не для того, чтоб оставить ее здесь, но чтобы показать на земле свое творение».
Сон уплывал, возвращался.
Потом вместе с Олениным, директором Публичной библиотеки, Александр Семенович очутился в антикварной сокровищнице Секалдзева. Сей авантюрист показывал своим гостям уродливую дубину – посох Иоанна Грозного, серый камень, на коем отдыхал на Куликовом поле князь Дмитрий Донской.
И вдруг сказали:
– Адмирал, проснитесь!
Открыл глаза: фельдегерь.
– Вас ждет император.
Во дворце тьма. Лампы и свечи горят, но не светят. Огромные тени на стенах наваливаются друг на друга.
Кто-то сказал адмиралу:
– Скорее, пожалуйста!
Александр Семенович шел сколь мог быстро, а заторопясь, засеменил, и ему было досадно, словно взяли за шиворот и окунули в суету.
Александр сидел за малым столиком. Мундир, ленты, звезды. Не раздевался после бала.
Не поднимая головы, не отрывая пера от бумаги, распорядился:
– Надобно теперь же написать приказ нашим армиям и другой – к фельдмаршалу графу Салтыкову о вступлении неприятеля в пределы России.
«Я от государя услышал о войне». С этой застрявшей в голове мыслью Александр Семенович побежал к себе в кабинет.
На столе сиротою уже горела свеча. Других не стал зажигать. Обмакнул перо в чернила, одновременно садясь и придвигая лист бумаги. Глаза на икону, и рука побежала, оставляя на безупречно белом поле черные борозды.
«Из давнего времени примечали мы неприязненные против России поступки Французского императора, но всегда кроткими и миролюбивыми способами надеялись отклонить оные…»
Перечитал. Государь выглядит за сими словами благородно. Есть и горчинка… Разве что мягко по отношению к столь коварному врагу, напавшему без объявления войны?
Наливаясь энергией, закончил приказ армиям молодецки:
«Не нужно мне напоминать вождям, полководцам и воинам нашим о их долге и храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь Славян. Воины! Вы защищаете Веру, Отечество, свободу. Я с вами».
Перо зависло в воздухе и, забывши окунуться в чернила, приписало: «На зачинающего Бог».
Буквы бледные, но слова зияли.
Александр Семенович выпростался из стула, пал на колени перед иконою.
– Господи, благодарю!
Рескрипт Председателю Госсовета, Председателю Совета Министров, фельдмаршалу Николаю Ивановичу Салтыкову в Петербург написал, не отрывая пера от бумаги.
Но здесь тоже нужна была концовка, разящая воображение. В памяти встала картина учения войск, устроенная Александром Нарбонну – глазам и ушам Наполеона.
Перо написало:
«Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве Моем».
Держа листы в обеих руках – пусть чернила просохнут – поспешил к царю.
Государь все писал и писал, и, должно быть, сердитое. Поднял голову на вошедшего.
– Я прочитаю? – спросил Александр Семенович и, не дожидаясь разрешения, огласил обе бумаги.
Император показал глазами на стол, ему, должно быть, не хотелось слышать своего голоса. Подписал, не перечитывая, приказ и рескрипт.
Так началась война для адмирала Шишкова и для всей необъятной Россия.
Через два ли часа, через три – летом ночи короткие – Александра Семеновича снова позвали к царю.
Та же выправка, безупречность в мундире, в лице. Протянул бумагу:
– Скажите ваше мнение.
Бросилось в глаза число: «Вильно. 25 июня 1812 г.». – Александр пометил письмо по европейскому стилю.
– Читать вслух?
– Да, вслух. Впрочем… Впрочем…
Александр Семенович помешкал, но прочитал послание про себя.
«Государь брат мой! Вчера дошло до меня, что, несмотря на честность, с которой наблюдал я мои обязательства в отношении к Вашему Императорскому Величеству, войска Ваши перешли русские границы, и только лишь теперь получил из Петербурга ноту, которою граф Лористон извещает меня по поводу сего вторжения, что Ваше Величество считает себя в неприязненных отношениях со мною с того времени, как князь Куракин потребовал свои паспорты… Он не имел на то от меня повеления… и как только я узнал о сем, то немедленно выразил мое неудовольствие князю Куракину, повелев ему исполнять по-прежнему порученные ему обязанности. Ежели Ваше Величество не расположены проливать кровь наших подданных из-за подобного недоразумения и ежели Вы согласны вывести свои войска из русских владений, то я оставлю без внимания все происшедшее, и соглашение между нами будет возможно. В противном случае я буду принужден отражать нападение, которое ничем не было возбуждено с моей стороны. Ваше Величество ещё имеете возможность избавить человечество от бедствий оной войны. Вашего Величества добрый брат Александр».
– Письмо Вашего Величества – сама кротость и детская безупречная чистота! – сказал, не лукавя, Александр Семенович. – Однако ж, думаю, письмо приведет в ярость совершившего бесчестие.
Александр кивнул головою.
– Рад, что вы сие почувствовали. Почувствует и он. Я пошлю к нему Балашова. Балашову надобно придать умного офицера. Пусть выяснит, с каким настроением вершат нашествие те, кто исполняют приказы бесчестия.
– Настроение неприятеля зависеть будет от оказанного ему приема.
Александр снова кивнул, но губы у него вытянулись в тугие струны:
– Армия Барклая де Толли отходит ввиду численного превосходства противника. Необходимо соединиться со 2-й армией, но мы не знаем, где Багратион, что у него.
Александр Семенович поклонился, отступил к двери.
– Приготовьтесь к отъезду, адмирал! Наступают весьма быстро. Местопребывание моей квартиры – Свенцияны.