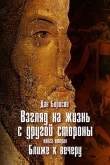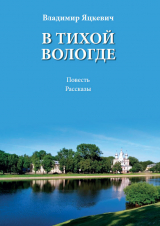
Текст книги "В тихой Вологде"
Автор книги: Владимир Яцкевич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
4. Палачи и жертвы революции
(1917–1918 гг.)
Дверь за спиной захлопнулась, лязгнули засовы, и Хвостов очутился в большой камере, заставленной деревянными нарами. На всех нарах сидели люди, было жарко и душно. На него посмотрели, но без особого любопытства. Лишь один заключенный махнул рукой:
– Алексей Николаевич, это вы? Идите сюда, здесь пока свободно.
Хвостов подошел к бородатому старику, вглядываясь ему в лицо. Неужели Маклаков?
– Николай Александрович? С трудом вас узнал.
– Так ведь и вас узнать не просто. Только по мундиру вашему и опознал. Правда, теперь он вам великоват.
Да, действительно, мундир сидел на Хвостове мешком. Со дня ареста в марте 1917 года он сбавил, наверное, килограммов двадцать. Алексей Николаевич устроился по соседству с Маклаковым, которого он знал как беззаветно преданного Царю человека. Когда-то он, Хвостов, сменил Маклакова на посту министра внутренних дел, потом они вместе заседали в Госсовете, вместе вошли в руководство Союза русского народа.
Хвостов огляделся. Он видел знакомые лица: вот Степан Петрович Белецкий, бывший глава департамента полиции, сенатор, а вот Иван Григорьевич Щегловитов, бессменный министр юстиции. Видно, здесь собрали активных сторонников монархии.
Хвостов провел руками по лицу:
– Николай Александрович, а побриться здесь нельзя?
– Нет, это вам не Петропавловские казематы, здесь тюрьма московской ЧК. Отпускайте бороду, как я.
Вы про расстрел Государя Императора слышали? – спросил Хвостов.
– Недавно узнал. Какое злодеяние! Говорят, всю семью… – голос у Маклакова сорвался.
– Все как во Франции: штурм Бастилии, казнь королевской семьи, якобинцы, Дантон, Робеспьер…
– Ну, вы хватили, Алексей Николаевич. Во Франции гильотина работала не переставая.
– И у нас начинается то же самое. Только вместо гильотины маузеры. Вы думаете, большевики нас пощадят? Не надейтесь.
– А какой им смысл нас убивать? Ну, Государя Императора – это понятно: он мог послужить живым знаменем сопротивления. А мы что?… Мне тут сказали по секрету, – Маклаков перешел на шепот, – большевики хотят нас на свою сторону привлечь. Предложат: или с ними сотрудничать, или уезжать за границу. Поведут нас на переговоры к Ленину или к Троцкому. Для этого и в Москву привезли. Им наш опыт государственников нужен.
Хвостов не стал спорить. Маклаков всегда был слишком доверчив, пусть тешит себя надеждой. Он-то хорошо знал этих революционеров, знал их логику убийц и разрушителей. Шансов у патриотов России никаких нет. Рухнула огромная империя, и все они погибнут под её обломками. То, что так произойдет, стало ясно, когда все эти родзянки, гучковы, Шульгины обманом вынудили Государя подписать отречение. Разве они, эти присяжные поверенные, знали, как управлять государством. За несколько месяцев развалили армию, полицию и вообще все важнейшие государственные механизмы. В итоге, шайка пройдох без всякого труда взяла власть. И теперь сидят в Кремле хитрые бестии, лишённые каких-либо нравственных устоев. Они обманули доверчивых бедняков, посулив им богатство; уставшему от войны народу обещали мир и, главное, моментально создали карательные органы из наемников и освобожденных из тюрем бандитов-головорезов. Теперь пойдет по России такая резня, по сравнению с которой бунты Разина и Пугачева покажутся детской шалостью.
Он, Хвостов, изо всех сил боролся с надвигавшейся революцией. Сначала на посту вологодского губернатора, потом нижегородского, потом в Государственной Думе, где возглавлял партию правых. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Число убитых от рук террористов исчислялось тысячами. Его дядя, Сергей Алексеевич Хвостов, пензенский губернатор, погиб в 1906 году при взрыве на даче Столыпина. Другой дядя – Алексей Алексеевич, черниговский губернатор, после покушения лишился зрения. Тогда патриотам удалось подавить революцию, уничтожить террористов. Всё это благодаря твердой воле Столыпина, хотя он и сам погиб в этой кровавой схватке.
Россия выходила на путь экономического процветания. Грянувшая внезапно война спутала планы, но она могла лишь отсрочить расцвет империи. К 1917 году силы Германии были на исходе, а в России военная промышленность ещё только вышла на нужный уровень и, наконец, наладилось снабжение фронта всем необходимым. Формировались новые армии, готовилось решающее наступление. Близилась победа.
Удар по России был нанесён изнутри: враги решили подорвать репутацию монарха, очернить Царскую семью. Появились непонятно где и как изданные брошюрки с нелепыми, грязными вымыслами и злобными карикатурами. Вершиной этой кампании стала речь Милюкова на заседании Думы, где он прозрачно намекнул на то, что императрица передает военные секреты германскому командованию. Этим оратор объяснил неудачи на фронте. Речь появилась во всех газетах, и ничем не подтвержденная версия пошла гулять по стране.
То, что эта милюковская версия – очередная «развесистая клюква», для Хвостова было очевидно, как и для всякого, кто хоть немного знал императрицу и образ её жизни. Несмотря на немецкое происхождение, Александра Федоровна стала русской патриоткой и настолько укоренилась в православной вере, что дамы высшего света с недоумением говорили: «она верует, как простая крестьянка». В конце концов, немецкой крови в ней было столько же, сколько английской. Вообще, высший свет недолюбливал Царскую семью: слишком уж необщительную и замкнутую жизнь вели венценосные супруги со своими детьми, чуждаясь принятых в аристократическом кругу развлечений: балов, званых обедов, театров. Не потому ли, когда Государь был отстранен от власти, большинство аристократов откровенно радовалось. Даже родственники Царя, великие князья, щеголяли с красными бантами. Какая тупость и слепота! Ведь история не раз показывала, какие страшные вещи происходят, когда пресекается династия. Ну, допустим, о Смутном времени в России в начале XVII века все забыли, но историю Франции обычно изучают хорошо и наверняка многие нынешние аристократы ещё застали в лицеях учителей-французов, сбежавших в Россию от якобинского террора. И наверняка от них слышали, что Франция после революции и последующих наполеоновских войн превратилась из могущественной державы во второразрядную страну, уменьшив своё население почти на треть.
Можно было предвидеть, что та же участь угрожает России. В ноябре 1916 года кружок монархистов, куда входил А. Н. Хвостов, подготовил для Государя записку, в которой указывалось, что Дума при поддержке так называемых общественных организаций вступает на явно революционный путь. В записке предлагался ряд решительных мер для подавления готовящегося мятежа: назначить на высшие посты только лиц, преданных Самодержавию; распустить Госдуму без указания срока её созыва; ввести военное положение в столицах и больших городах; закрыть все органы левой и революционной печати и т. д. Видимо, эти предложения были сочувственно приняты Государем, поскольку князь Голицын, представивший это послание, был назначен председателем правительства. Однако твердой воли для решительных действий не хватило.
После низвержения Государя Временное правительство сразу же арестовало всех не успевших скрыться членов кабинета министров. В камере Петропавловской крепости, куда поместили Хвостова, условия содержания были сносными. Следователь был вежлив, вёл дело обстоятельно. Хвостова обвиняли в растрате 500 тысяч казенных денег, но он столь же обстоятельно объяснял, что все средства тратились на поддержку монархических организаций, то есть на укрепление государственной власти. Дело затягивалось, поскольку из-за всеобщей неразберихи непросто было найти нужные документы. Дотянули до прихода большевиков. Вот тогда Хвостов, сидя в одиночке, впервые в своей жизни узнал, что такое голод. Его стокилограммовое тело требовало пищи, а давали две ложки кашицы. Спасением стали передачи от жены и от других родственников, еще оставшихся в Петрограде. На одном из свиданий жена рассказала про Сережу Бехтеева[11]11
Бехтеев Сергей Сергеевич (1879–1954 гг) – русский поэт, монархист. Воевал в Белой армии. С 1920 г. жил в эмиграции в Сербии и Франции.
[Закрыть], двоюродного брата Алексея Николаевича:
– Он сейчас в Ельце, в имении бабушки. Собирается на Кавказ в Добровольческую армию. Стихи пишет. Просил тебе передать. Там увидишь: листок свернутый лежит в пакете с мылом.
В камере Хвостов прочитал стихотворение, названное «Торжество антихриста» с подзаголовком «Октябрьский переворот 1917 года». Листок пришлось сжечь, но две строфы остались в памяти:
Плачь, Россия, плачь, родная,
Неутешная вдова —
Пала русская, святая,
Златоглавая Москва!
Обесславлены твердыни
Русских набожных царей,
Опоганены святыни
Православных алтарей…
Хвостов хорошо помнил брата Сережу. Мальчишками они провели не одно лето вместе в имении бабушки Екатерины Лукиничны (в девичестве Жемчужниковой). Пожалуй, это были лучшие годы его жизни.
Из Петрограда Хвостова вместе с такими же, как он, горемыками повезли в Москву, куда переехала вся большевистская верхушка, и вот теперь он в битком набитой камере Московской ЧК.
В первый день после ареста, когда его привели в камеру Петропавловской крепости, ему временами казалось, что это – дурной сон, что он сейчас проснется и вместо тюремных стен увидит свою роскошную опочивальню в большой квартире на Невском проспекте. Постепенно царский сановник привык к положению заключённого, к скудному тюремному быту, и верхом блаженства для него были свидания с женой, свежие газеты, привычная еда и прогулки по тюремному дворику. Теперь он оказался в условиях, которые раньше показались бы ему просто нечеловеческими, однако он принял их смиренно и радовался самой малости: и тому, что нашлись свободные нары с матрацем, и что соседом оказался единомышленник и хорошо знакомый человек. И уж совсем растрогался бывший министр и камергер императорского двора, когда Маклаков предложил ему толстый кусок сыра с хлебом.
Заключенных поодиночке вызывали на допрос. Возвращались все молчаливые, подавленные. Белецкий, придя с допроса, рассказывал:
– Мы все для них заведомо преступники. Мне следователь, хотя, следователем-то его не назовешь… В общем, этот чекист так и сказал: «Вы по своему происхождению и роду занятий – наши классовые враги, и никаких других доказательств вашей вины нам не нужно». Вот так. Сидит этакий юный Марат в студенческой тужурке, раздувается от важности и вершит нашу судьбу.
– А какой нас ждет приговор, он не сказал? – спросил Маклаков.
– Сказал, что революционный суд – справедливый, но гуманный.
Следующий день принес неожиданную весть, переданную традиционным тюремным способом – с помощью перестукивания через стену: застрелен глава Петроградской ЧК Моисей Урицкий и тяжело ранен Ленин. Оба покушения совершили эсеры: Каннегисер и Фанни Каплан. Когда Белецкий, принявший «стенограмму», огласил её в камере, многие не могли сдержать радостных улыбок. Кто-то даже пытался захлопать, но на него сразу зашикали.
– Кажется, гидра революции начинает пожирать сама себя, – услышал Хвостов радостный шепот своего соседа.
– В нашем положении, Николай Александрович, радоваться нечему, – отвечал Хвостов. – Теперь у большевиков появился повод расправиться со всеми, кто недоволен их властью.
И он оказался прав: на следующий день кому-то вместе с передачей принесли свежий номер газеты, где объявлялось о начале красного террора и о расстреле заложников. Все в камере поочередно читали пугающе крупные жирные строки: «…На единичный террор наших врагов мы должны ответить массовым террором… За смерть одного нашего борца должны поплатиться жизнью тысячи врагов…»
Вечером по камере разнеслась страшная весть: завтра их всех поведут на расстрел. Сообщил об этом охранник, которому через дверное окошко сдавали миски после ужина. В камере воцарилась мрачная тишина. На лицах у заключенных – страх и отчаяние. Многие молились, молча шевеля губами.
Хвостов уже давно заметил в камере священника, у которого было спокойное, умиротворенное лицо. «Так это же Иоанн Восторгов», – он только теперь узнал в этом истощенном старце своего сподвижника по Союзу русского народа. Отец Иоанн получил широкую известность благодаря своим ярким проповедям в защиту монархии и Церкви. Протискиваясь между нарами, он подошел к батюшке и попросил разрешения исповедаться. Тот приветливо взглянул на него:
– Епитрахили у меня, правда, нет, но в особых случаях таинство исповеди можно совершать и без нее.
Последний раз бывший министр причащался Святых Христовых Таин два года назад, когда еще был на свободе. Исповедался он тогда кратко и формально, как, впрочем, и всегда до этого. Но за те полтора года, что он провел в неволе, он многое переосмыслил и, как никогда ранее, чувствовал себя большим грешником. Сколько раз, будучи на высоких государственных должностях, он интриговал и порой лукаво говорил о благе России, а думал о том, как сделать карьеру и приумножить свое состояние. Заканчивая свою исповедь, он сказал:
– Еще я осуждаю наших крестьян за то, что бросили нас, оставили без защиты. Мы ради их блага работали, защищали их от революционеров, чтобы они могли мирно трудиться, а они наши усадьбы разгромили, растащили. Осуждаю. Грешен.
Батюшка тяжело вздохнул:
– Ты Алексей, свой грех осуждения оправдать хочешь, значит, нет в тебе раскаяния. Давай подумаем вместе, имеем ли мы право осуждать крестьян. Что мы сделали им хорошего? Часто ли мы делились с ними своим богатством? Не относились ли к ним как к людям низшего сорта, вместо того, чтобы видеть в них своих братьев? А сколько крестьян мы оскорбили, не заметив этого в своем барском высокомерии! Сколько девушек-крестьянок, опозоренных барами, было поспешно, с приплатой, выдано замуж за первого попавшегося! А что для них, крестьян, значат наши усадьбы с бесчисленными анфиладами комнат, в которых никто не живет, с бессмысленными для них статуями, вазами, картинами, с беседками, фонтанами! Что, кроме раздражения, все это может вызвать у людей, живущих всемером в тесной избе и озабоченных тем, как вырастить столько хлеба, чтобы хватило до следующего урожая. Так что осуждать мы их не вправе. Мы перед ними виноваты, за это и расплачиваемся теперь.
– Да, всё это правда, горькая правда, – подумал Хвостов. Глаза его были мокрыми от слёз. – Грешен, батюшка, – сказал он. – Во всём, что вы сказали, грешен.
Получив отпущение грехов, Хвостов сказал:
– Научите, батюшка, как перед смертью быть таким же спокойным, как вы?
– Этому у христианских мучеников надо учиться. Они говорили: «Я в узах, но Христос со мною и я радуюсь. Меня ведут на казнь, значит, я иду ко Христу, и я счастлив».
Ранним утром группу из 12 человек вывели в тюремный двор, по приставной лесенке загнали в открытый кузов грузовика и рассадили на скамейках. Рядом с отцом Иоанном сидел епископ Ефрем. Он приехал из Сибири для участия в Соборе, жил на квартире у отца Иоанна и был арестован вместе с ним. Хвостов вгляделся в лица конвоиров, стоявших у бортов. – «Монголоиды, – удивился он, – наверное, китайцы». Долго ехали пустынными московскими улицами, потом по песчаной дороге. Остановились у кладбищенских крестов. Недалеко виднелась церковь.
– Братское кладбище, – сказал кто-то. – Здесь мы в пятнадцатом году хоронили героев войны[12]12
Братское кладбище на окраине Москвы было основано в 1915 г. по инициативе Великой Княгини Елизаветы Федоровны для захоронения героев войны, сестер милосердия, авиаторов. Здесь же был воздвигнут храм в честь Преображения Господня. В ноябре 1917 г. на кладбище были захоронены 37 юнкеров, погибших в Москве в боях с большевиками. С 1918 по 1920 год на кладбище и вблизи его большевиками проводились массовые расстрелы. В 1930-е годы надгробия были уничтожены, храм снесен, на территории кладбища был разбит парк, построен кинотеатр и другие здания. В настоящее время в этом парке, расположенном недалеко от станции метро «Сокол», установлен мемориальный комплекс с часовней.
[Закрыть].
«Что ж, место почетное, – подумал Хвостов. – Мы, правда, не герои, а просто жертвы. Да и вся Россия принесена в жертву страшному Молоху революции».
Когда выбрались из кузова, увидели широкий свежевырытый ров. Тут же стояли уставшие землекопы с лопатами в руках и отряд солдат.
До этого момента Хвостов думал, что спокойно встретит смерть, но при виде ямы и могильщиков его затрясло. Он изо всех сил стискивал зубы, чтобы они не стучали. Подошел маленького роста чернявый человечек в кожанке, с огромным маузером, болтающимся у ноги, и долго по списку проверял привезенных. Потом высоким фальцетом заголосил:
– Именем Советской республики революционный трибунал приговорил вас к расстрелу как врагов мирового пролетариата!
Все стояли бледные, растерянные. Раздался голос Маклакова:
– Господа! Мы жили достойно, давайте достойно примем смерть. Мы отдали жизни за Россию, и она нас не забудет… Смута пройдет, и Россия возродится!
Протоиерей Иоанн Восторгов обратился к объявлявшему приговор:
– Позвольте нам проститься и помолиться перед смертью?
Тот пожал плечами, скривился, но все-таки сказал: Не возражаю.
– Братья, – сказал отец Иоанн, – помолимся перед смертью. – Он и вслед за ним все приговоренные опустились на колени и стали молиться.
– Упокой, Господи, души наши в селениях Твоих праведных, – наконец сказал отец Иоанн и поднялся. Все стали подходить к нему и к епископу Ефрему под благословение. Потом прощались друг с другом, обнимались со слезами.
– А жалко все-таки. Православные же люди, – сказал кто-то из солдат, видимо, растроганный зрелищем.
– Ишь, жалко! – замахнулся на него высоченный, звериного вида матрос. – Эти графья кровь нашу пили, а ты – «жалко». – Он грязно выругался.
– Побарствовали, посидели у нас на шее, будет, – поддержал матроса другой солдат.
Всех подвели ко рву и поставили лицом к собственной могиле. Матрос достал из кобуры маузер и подошел к отцу Иоанну. Взяв его левую руку и вывернув ее за спину, он выстрелил священнику в затылок и толкнул его в яму. Потом подошел к стоявшему рядом епископу Ефрему. В это время Белецкий, стоящий у другого конца рва, бросился бежать. Раздались крики, выстрелы. Беглец упал. Раненного, окровавленного, его притащили ко рву, выстрелили в голову и сбросили вниз. Казнь продолжалась.
В этот день 23 августа 1918 года (5 сентября по новому стилю), в первый день объявленного большевиками «красного террора», были казнены наиболее известные приверженцы монархии[13]13
Протоиерей Иоанн Восторгов и епископ Ефрем (Кузнецов) причислены к лику святых в Соборе новомучеников и исповедников Российских на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года.
[Закрыть].
В 1920 году в Крыму офицер Белой армии Сергей Бехтеев, навсегда покидая Россию, напишет пророческие строки:
Они пройдут, чудовищные годы,
Свирепою, кровавою пятой
Поколебав все царства и народы
Безудержной, безумною мечтой.
Свечу пудовую затеплив пред иконой,
Призвав в слезах Господню благодать,
Начнет народ с покорностью исконной
Своих Царей на службах поминать.
5. Кирилловские мученики
(1918 г.)
Десять лет минуло с тех пор, как Мария Николаевна стала насельницей Ферапонтова монастыря. Нелегко было на шестом десятке привыкать к монашеской жизни. Не сразу смирилась душа с долгими монастырскими службами, с молитвенными правилами, со строгим распорядком дня. Сильно тосковала по родным, особенно по дочери, которая с мужем переехала в Петербург. А когда узнала из письма, что родился у них сын, то был сильный соблазн, пока не поздно, пока еще была в послушницах, вернуться в мир, чтобы нянчиться с внуком. Даже и сейчас, когда она уже не просто Мария, а мантийная монахиня Мария, ноет сердце от тоски, и лишь недавно научилась смягчать тоску молитвой.
Удачно вышло с послушанием: не посылали её ни в поле, ни в коровник, ни на другие тяжелые работы, а с самого начала мать игумения направила Марию в швейную мастерскую, и занималась она теперь шитьем, к чему всегда имела склонность. Правда, получить отдельную келью, как мечталось когда-то, не удалось. Жила она вдвоём с такой же, как она, немолодой вдовой. Но вышло к лучшему: быстрее научилась смирению, а это самое главное качество для монашествующих.
Вологодская земля – страна монахов и отшельников. Они приходили на Север по благословению Сергия Радонежского, селились в глухих местах возле рек и озер, строили церковь и жилище. Вокруг подвижников собирались люди, желающие спастись. Возникала монашеская обитель. Недалеко от монастыря, основанного преподобным Кириллом, его друг и сподвижник Ферапонт в 1398 году устроил небольшую обитель. Через сто лет здесь было четыре храма, один из которых – собор Рождества Богородицы – великолепно расписал иконописец Дионисий со своими помощниками. Однако постепенно жизнь в монастыре угасала. В 1798 году он был закрыт, а главный храм переведен в ранг приходского. К началу XX века все четыре храма вместе с иконами и утварью хорошо сохранились. Не осталось лишь монашеских келий.
Немало сил приложила игумения Леушинского монастыря Таисия, чтобы вновь открыть древнюю обитель. В конце концов, в 1903 году последовал указ Святейшего Синода об учреждении женского монастыря «с таким числом инокинь, какое обитель в состоянии будет прокормить». Первыми насельницами были двадцать леушинских монахинь, а игуменией стала казначейша Леушинской обители мать Серафима.
При монастыре открылись рукодельные классы для девочек и женская церковно-приходская школа. Эту школу монастырь содержал полностью на свои средства: монахини учили детей, кормили их, шили для них школьную форму. Игумения взяла под свою опеку учениц из бедных семей. Она много занималась благотворительностью: поддерживала неимущие крестьянские семьи, помогала бесприданницам выйти замуж, а когда началась война, организовала сбор вещей и денег для воинов и их семей.
Матушка Серафима отличалась удивительной добротой. Даже когда она делала выговор сестре за плохо сделанную работу или нарушение устава, она смотрела на провинившуюся так по-матерински заботливо, что та принимала упрек без обиды и старалась больше не огорчать матушку.
Молодые послушницы обычно с трудом отвыкают от мирских привязанностей. Бывало и так, что за послушницей являлся жених и звал ее домой. Матушка помогала советом. Она умела распознать тех, кто сердцем крепко привязан к прошлой жизни, таким она советовала вернуться в мир.
Мария и сама не раз обращалась к матушке, когда становилось тяжело на душе, когда одолевал дух уныния. Они были почти ровесницами, и Мария удивлялась, насколько духовно опытнее была мать игуменья, а ведь Мария всю жизнь была церковным человеком и хорошо знала Священное Писание.
В 1907 году, когда Мария пришла в обитель, сестринский корпус был уже построен. Трудолюбивые сестры налаживали хозяйство, и к 1917 году оно стало образцовым.
Однако в стране происходило что-то странное. Когда Мария узнала, что Царя теперь в России нет, и что на ектении поминать надо Временное правительство, она заплакала. Появилось предчувствие, что грядут страшные события. Так и вышло.
В начале мая 1918 года из Кириллова прибыла комиссия описывать церковное имущество обители. Однако, в отличие от других монастырей Белозерья, здесь имущество принадлежало не монастырю, а приходу. Крестьяне – члены приходского совета встретили незваных гостей враждебно, не пускали их в храмы. Завязалась потасовка, членов комиссии выгнали. Только благодаря уговорам монастырского священника Иоанна Иванова удалось избежать кровопролития.
Через два дня отца Иоанна арестовали и заключили в тюрьму за «погромную агитацию против Советской власти и против комиссии по учету монастырей Кирилловского уезда». Игумению Серафиму вызвали в следственную комиссию для дачи показаний и оставили под домашним арестом на монастырском подворье в Кириллове.
Через день в монастырь явилась толпа народу: мужики, бабы и даже дети. Они занялись открытым грабежом: ходили по кладовым, по чердакам, по кельям, срывали замки, взламывали сундуки, похищали всё, что попадалось, угрожали сестрам. Такого разбоя монастырь не знал со времен смуты XVII века. Чему удивляться, если большевистские газеты натравливали голодное население на монастыри. А ведь хлеба в обители оставалось только-только прожить до нового урожая. Все запасы изъяли еще зимой: более 500 пудов.
После этого погрома кое-кто из сестер стал уходить из обители в соседние деревни. Крестьяне из приходского совета успокаивали: «Больше такого не будет, поставим вам охрану».
Арестованного отца Иоанна перевезли в Череповецкую тюрьму. Прихожане составили прошение с просьбой помиловать единственного монастырского священника и отвезли бумагу в Череповецкий революционный трибунал, но это не помогло. Службы в монастыре прекратились, по воскресеньям и праздникам сестры ходили за десять верст в Кирилло-Белозерский монастырь, где в единственном действующем храме служил епископ Кирилловский Варсонофий.
Владыка был из тех немногих людей, кто не боялся новой власти и пытался противостоять ей. Он основал в Кириллове Братство православных жен и мужей, цель которого была блюсти чистоту православной веры, охранять церковные святыни и имущество. В день усекновения главы Иоанна Предтечи, Владыка на проповеди сказал прихожанам:
– Против нашего Братства ополчились большевики, признали его контрреволюционным. Мне постоянно угрожают, но я никаких угроз не боюсь и свое дело при Божьей помощи буду вести, хотя бы сейчас меня на расстрел повели. Я не страшусь расстрела, рассуждая, что пуля – это есть ключ, отверзающий двери рая.
В сентябре грянула новая беда. Жил в деревне Сосуново бедный крестьянин Андрей Иудович Костюничев. С приходом к власти большевиков он вступил в партию и возглавил деревенский комитет бедноты. Благодаря ему план по изъятию излишков хлеба у крестьян выполнялся на сто процентов. Спрятать что-либо от настырных продотрядовцев крестьянам не удавалось. Осенним вечером деревенский активист был убит у себя дома выстрелом через окно. Найти стрелявшего не удалось.
Незадолго до этого в столице объявили о начале массовых репрессий, поэтому местная власть на этот выстрел отреагировала без промедления. Появилось постановление Череповецкого ревтрибунала: «Ответить на убийство коммуниста Андрея Костюничева красным террором, а именно: кроме наглых убийц и заговорщиков, подвергнуть расстрелу из числа 52 заложников… 37 человек».
Заложников брали из всех слоев населения: от крестьян до членов городской Думы. Услышав об этом, монахини недоумевали, логика революционеров не укладывалась в голове: убийца не пойман, следствие продолжается, а невинные люди обречены на смерть. Мария, хорошо знавшая историю, вспомнила, что подобные злодейства когда-то в XIV веке вытворял Тамерлан, за что и прослыл непревзойденным по жестокости злодеем. Однако в XX веке его превзошли. И кто же? Те, кто объявил себя борцами за светлое будущее человечества.
Вечером 14 сентября недобрая весть пришла из Кириллова: арестован епископ Варсонофий. А ночью, около 12 часов, когда мать Мария молилась у себя в келье, она услышала на улице шум. В окно увидела, что возле дверей, где был вход в келью игумении, мелькают фонари. Удалось рассмотреть, что люди в шинелях вывели игумению, посадили на подводу и увезли. Мария бросилась к спящей за занавеской соседке:
– Мать Христина, беда! Матушку Серафиму солдаты увезли.
Решили с утра идти вдвоем в Кириллов искать игумению. Едва рассвело, собрали корзинку для передачи в тюрьму и тронулись в путь. Лошадей в монастыре не осталось, всех отобрала новая власть. На подходе к городу увидели ехавшую навстречу телегу, на которой сидели мужик и баба с детьми.
Это наши, ферапонтовсие, – сказала Христина, сама родом из местных крестьян. – Галина с детьми, видно, из Череповца приехала на раннем пароходе, а муж встречать ездил.
Ехавшие тоже узнали своих. Мужик остановил лошадь и заговорил, усмехаясь:
– Что же вы, монашки, игумению свою выдали солдатам? Идет бедная под конвоем, хромает.
– Не шути, лешай, – перебила Галина. – Не солдаты ведут, а чекисты из Череповца. С ними не поспоришь. А с ней ведут и архиерея нашего и еще из мирских кого-то.
Из дальнейшего разговора выяснилось, что конвой ведет арестованных из Кириллова в Горицы по старой дороге, а потом, наверное, повезут пароходом в Череповецкую тюрьму.
Мужик посоветовал:
– Вам скорей будет не через город идти, а в обход, вон по той тропке. Сразу на старую Горицкую дорогу и выйдете. Ход у вас резвый, догоните их еще до пристани.
И правда, догнали. Издалека увидели колонну: человек двадцать солдат с винтовками, а между ними бредут арестованные. Только почему-то вместо того, чтобы идти прямо к пристани колонна свернула с дороги вправо.
– Куда это их повели? – прошептала Мария.
– К горе Золотухе ведут, – так же шепотом отвечала Христина. – Неужто убивать будут?
– Как это, убивать? Ни суда, ни следствия не было. Не может такого быть.
Вдруг на обеих напал такой страх, что обмякли ноги. Вместо того, чтобы бежать к своей игумении, они остались стоять в кустах. Было видно, что арестованных ведут к крутому склону горы. Впереди шел архиерей в клобуке, с посохом в руке, рядом, почти вровень с ним, прихрамывая, с палочкой в руках, шла матушка Серафима, следом – четверо мирян. Вдруг матушка пошатнулась и стала оседать. Владыка подхватил её и, видно, стал говорить что-то ободряющее. Она выпрямилась и дальше продолжала идти спокойно.
Всех шестерых поставили лицом к отвесному склону горы, палачи встали у них за спиной совсем близко. Раздались выстрелы, все упали, только владыка остался стоять, молясь с воздетыми к небу руками. Наконец он опустил руки, повернулся в сторону Кирилло-Белозерского монастыря и благословил его. Один из палачей подскочил к епископу и выстрелил из револьвера ему в затылок. Владыка Варсонофий упал.
Подъехала подвода с четырьмя мужиками, которые быстро выкопали яму. В нее положили тела всех расстрелянных и засыпали землей. Вскоре отряд палачей вместе с могильщиками пошел по направлению к городу.
Монахини подошли к могиле. Мария бросилась на сырую землю, покрывающую могилу, и зарыдала. Христина опустилась на колени и стала читать молитву об усопших.
Начинался воскресный день 15 сентября 1918 года…
В тот же день наместник Кирилло-Белозерского монастыря Феодорит обратился в городской исполком с просьбой разрешить перенести тело убиенного епископа в монастырь. Было разрешено сделать это ранним утром с 4 до 6 часов. В пять часов утра монахи раскопали могилу, но тут появились чекисты и потребовали могилу зарыть. Монахи стояли в недоумении, этот приказ казался им диким. Чекисты угрожали оружием, выстрелили в воздух. Пришлось подчиниться. На другое утро история повторилась: монахи снова разрыли могилу, а потом под дулами винтовок зарыли. Отчаявшись обрести тело, вечером совершили заочное отпевание при закрытых вратах монастыря.
На девятый день после расстрела из Новгорода прибыл член епархиального совета Владимир Николаевич Фиников. Правящий архиерей поручил ему добиться разрешения захоронить погибшего Владыку Варсонофия в монастыре и отпеть его по архиерейскому чину.
Председатель Кирилловского исполкома Евгений Волков уклонялся от ответа, было видно, что сам он боится принять решение. От него удалось узнать, что казнь совершал череповецкий карательный отряд, который прибыл с готовым приговором. Фиников поехал в Череповец, ставший губернским центром с лета 1918 года, когда была образована Череповецкая губерния. Он добился приема у председателя губернского исполкома Тимохина и умолял его разрешить перезахоронить тело Владыки.