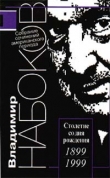Текст книги "Полное собрание рассказов"
Автор книги: Владимир Набоков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Подлец
1
Проклятый день, в который Антон Петрович познакомился с Бергом, существовал только теоретически: память не прилепила к нему вовремя календарной наклейки, и теперь найти этот день было невозможно. Грубо говоря, случилось это прошлой зимой: Берг поднялся из небытия, поклонился и опустился опять, – но уже не в прежнее небытие, а в кресло. Было это у Курдюмовых, и жили они на улице Св. Марка, чорт знает где, в Моабите, что ли. Курдюмовы так и остались бедняками, а он и Берг с тех пор несколько разбогатели; теперь, когда в витрине магазина мужских вещей появлялся галстук, дымно-цветистый – скажем, как закатное облако, – сразу в дюжине экземпляров, и точь-в-точь таких же цветов платки – тоже в дюжине экземпляров, – то Антон Петрович покупал этот модный галстук и модный платок, и каждое утро, по дороге в банк, имел удовольствие встречать тот же галстук и тот же платок у двух-трех господ, как и он, спешащих на службу. С Бергом одно время у него были дела, Берг был необходим, Берг звонил ему по телефону раз пять в день, Берг стал бывать у них – и острил, острил, – Боже мой, как он любил острить. При первом его посещении Таня, жена Антона Петровича, нашла, что он похож на англичанина и очень забавен. «Антон, здравствуй!» – рявкал Берг, топыря пальцы и сверху, с размаху, по русскому обычаю, коршуном налетая на его руку и крепко пожимая ее. Был Берг плечист, строен, чисто выбрит, и сам про себя говорил, что похож на мускулистого ангела. Антону Петровичу он однажды показал старую, черную записную книжку: страницы были сплошь покрыты крестиками, и таких крестиков было ровным счетом пятьсот двадцать три. «Времен Деникина и покоренья Крыма, – усмехнулся Берг и спокойно добавил: – Я считал, конечно, только тех, которых бил наповал». И то, что Берг – бывший офицер, вызывало в Антоне Петровиче зависть, и он не любил, когда Берг при Тане рассказывал о конных разведках и ночных атаках. Сам он был коротконог, кругловат и носил монокль, который в свободное время, когда не был ввинчен в глазницу, висел на черной ленточке, а когда Антон Петрович сидел развалясь, блестел, как глупый глаз, у него на брюшке. Фурункул, вырезанный два года тому назад, оставил на левой щеке шрам, и этот шрам, и жесткие подстриженные усы, и пухлый расейский нос напряженно шевелились, когда Антон Петрович вдавливал стеклышко себе под бровь. «Напрасно ты пыжишься, – говорил Берг, – краше не станешь».
В стаканах легкий пар млел над поверхностью чая; жирный шоколадный эклер, раздавленный ложкой, выпускал свое кремовое нутро; Таня, положив голые локти на стол и упирая подбородок в скрещенные пальцы, смотрела вверх на то, как плывет дымок ее папиросы, и Берг ей доказывал, что надо остричь волосы, что все женщины спокон веков стригли волосы, что Венера Милосская стриженая, и Антон Петрович жарко и обстоятельно возражал, а Таня только пожимала плечом, ударом ногтя стряхивая пепел.
И все это прошло. В конце июля, в среду, Антон Петрович уехал по делу в Кассель и оттуда послал жене телеграмму, что возвращается в пятницу. В пятницу оказалось, что ему придется остаться по крайней мере еще неделю, и он послал новую телеграмму. Но на следующий день утром дело провалилось, и Антон Петрович, уже не предупреждая жены, покатил обратно в Берлин. Он приехал около десяти, усталый и раздраженный. С улицы он увидел, что окна спальни освещены. Приятно, что жена дома. Он поднялся на пятый этаж, привычным движением повернул ключ в трех замках и вошел. Проходя по передней, он услышал, как в ванной комнате ровно шумит вода. «Танька моется», – с любовью подумал Антон Петрович и прошел в спальню. В спальне, перед зеркалом, стоял Берг и завязывал галстук.
Антон Петрович машинально опустил на пол свой чемоданчик, не отводя глаз от Берга, который, чуть откинув свое бесстрастное лицо, перебросил пеструю лопасть галстука и пропустил ее сквозь узел.
– Главное, не волнуйся, – сказал Берг, осторожно затягивая узел, – пожалуйста, не волнуйся. Будь совершенно спокоен.
Как поступить? Скорей… По ногам проходит дрожь. Ног уже нет, есть только холодная, ноющая дрожь. Скорей… Он стал стаскивать с руки перчатку. Перчатки были новые и сидели плотно. Он дергал головой и сам не замечал, как бормочет:
– Уходите немедленно прочь. Какое безобразие. Уходите прочь…
– Ухожу, Антон, ухожу, – сказал Берг и, широко и покойно двигая плечами, надел пиджак.
«Если я его ударю, он меня ударит тоже», – быстро подумал Антон Петрович. Последним рывком он стянул перчатку и неловко бросил ее в Берга. Перчатка хлопнулась об стену и упала в кувшин с водой.
– Метко, – сказал Берг.
Он взял шляпу, трость и направился мимо Антона Петровича к двери.
– Однако тебе придется меня выпустить, – обернулся он на ходу, – дверь внизу заперта.
Антон Петрович, едва соображая, что делает, за ним последовал. Когда они начали спускаться по лестнице, Берг, шедший впереди, вдруг стал смеяться.
– Прости, – сказал он, не оглядываясь, – но это ужасно смешно: выгоняют со всеми удобствами.
Через несколько ступеней он засмеялся опять и пошел быстрее. Антон Петрович тоже ускорил шаг. Эта поспешность безобразна. Берг нарочно заставляет его сбегать вприпрыжку. Какая пытка… Третий этаж… второй… Когда эта лестница кончится? Берг взял махом последние ступени и, постукивая об пол тростью, ждал Антона Петровича. Антон Петрович тяжело дышал, не мог попасть в замок, руки тряслись. Наконец дверь открылась.
– Не поминай лихом, – сказал Берг, уже стоя на панели, – будь ты на моем месте…
Антон Петрович захлопнул дверь. У него с самого начала зрела потребность хлопнуть какой-нибудь дверью. От грохота зазвенело в ушах. Только теперь, поднимаясь по лестнице, он заметил, что лицо мокро от слез и что остановить слезы нет никакой возможности, но нужно было торопиться. Он бегом добрался до верху и, проходя через переднюю, опять услышал шум воды. Вместе с этим шумом доносился голос Тани. Она в ванной громко пела. Она еще ничего не знала. Антон Петрович выпустил дыхание и вернулся в спальню. Обе постели были открыты, и на жениной розовела ночная сорочка, а на диване были разложены вечернее платье и шелковые чулки, – она, очевидно, собралась идти танцевать с Бергом. Антон Петрович вынул из грудного карманчика великолепное самопишущее перо. «Я не могу тебя видеть. Если я тебя увижу, то не ручаюсь за себя». Он писал стоя, неловко согнувшись над туалетным столом. Монокль помутился от крупной слезы… буквы плясали… «Пожалуйста, уходи. Я тебе оставляю пока сто марок. Переговорю завтра с Наташей. Переночуй у нее сегодня или в гостинице, – только, пожалуйста, не оставайся больше здесь». Он кончил писать и приставил лист к зеркалу, на видном месте. Рядом положил стомарковый билет. И снова, проходя через переднюю, он услышал голос жены. Она в ванной пела, – голос у нее был цыганского пошиба, милый голос, счастье, летний вечер, гитара… она поет, щурясь, на подушке посреди комнаты… и Антон Петрович со вчерашнего дня жених, счастье, летний вечер, ночная бабочка на потолке, я тебя бесконечно люблю, для тебя я отдам свою душу… «Какое безобразие! Какое безобразие!» – все повторял он, идя по улице. Было очень тепло и звездисто. Все равно, куда идти. Теперь, вероятно, она уже вышла из ванной и все поняла. Антона Петровича передернуло: перчатка. В кувшине плавает коричневым комочком совсем новая перчатка. Он пошел быстрее и на ходу крикнул, так что вздрогнул прохожий. Увидев огромные смутные тополя и площадь, он подумал: где-то тут живет Митюшин. Антон Петрович позвонил ему по телефону из кабака, который обступил его, как сон, и снова отошел, удаляясь, как задний огонь поезда. Митюшин впустил его, но, так как был сильно навеселе, сначала не обратил внимания на его искаженное лицо. В туманной комнатке находился неизвестный Антону Петровичу господин, а на диване, спиной к столу, лежала черноволосая дама в красном платье и, по-видимому, спала. На столе блестели бутылки. Антон Петрович попал на именины, но он так и не понял, чьи это были именины – Митюшина ли, спящей дамы или неизвестного господина, оказавшегося русским немцем со странной фамилией Гнушке. Митюшин, сияя необыкновенно розовым лицом, познакомил его с Гнушке и, указав кивком на полную спину спящей дамы, сказал в воздух: «Позвольте, Анна Никаноровна, вам представить моего большого друга». Дама не шелохнулась, чему, впрочем, Митюшин ничуть не удивился, словно он и не ожидал, что она проснется. Вообще все это было слегка нелепо, как бывает во сне: пустая бутылка из-под водки с воткнутой в горлышко розой, доска с начатой шахматной партией, спящая дама, пьяный Митюшин, пьяный, но совершенно спокойный Гнушке…
– Пей, – сказал Митюшин и вдруг поднял брови. – Что с тобой, Антон Петрович? Морда у тебя как мел.
– Да, пейте, – с какой-то глупой серьезностью проговорил Гнушке, длиннолицый человек в высоком воротнике, похожий на черную таксу.
Антон Петрович залпом выпил полчашки водки и сел.
– Теперь рассказывай, что случилось, – сказал Митюшин. – Не стесняйся Генриха – он самый честный человек на свете. Мой ход, Генрих, и знай, что, если ты сейчас хлопнешь моего слона, я тебе дам мат в три хода. Ну, валяй, Антон Петрович.
– Это мы сейчас посмотрим, – сказал Гнушке, выправляя манжету. – Ты забыл пешку на аш-пять.
– Сам ты аш-пять, – сказал Митюшин. – Антон Петрович сейчас будет рассказывать.
От водки все вокруг заходило ходуном: шахматная доска тихо полезла на бутылки, бутылки поехали вместе со столом по направлению к дивану, диван со спящей дамой двинулся к окну, окно тоже куда-то поехало. И это проклятое движение было как-то связано с Бергом, и нужно было положить этому конец, покончить с этим безобразием, растоптать, разорвать, убить.
– Я пришел к тебе, чтобы ты был моим секундантом, – начал Антон Петрович и смутно почувствовал, что в его словах есть безграмотность, но не был в силах это поправить.
– Понимаю, – сказал Митюшин, косясь на шахматную доску, над которой нависла, шевеля пальцами, рука Гнушке.
– Нет, ты слушай меня, – с тоской воскликнул Антон Петрович, – нет, ты слушай! Не будем больше пить. Это серьезно, серьезно.
Митюшин уставился на него блестящими голубыми глазами.
– Брось шахматы, Генрих, – сказал он, не глядя на Гнушке, – тут идет серьезный разговор.
– Я собираюсь драться, – прошептал Антон Петрович, стараясь взглядом удержать стол, который все плыл, все плыл куда-то. – Я хочу убить одного человека. Его зовут Берг, ты, кажется, встречал его у меня. Не стану объяснять причину…
– Секунданту можно, – сказал Митюшин.
– Простите, что вмешиваюсь, – заговорил вдруг Гнушке и поднял указательный палец. – Вспомните, что сказано: не убий!
– Этого человека зовут Берг, – произнес Антон Петрович. – Ты, кажется, знаешь его. И вот, мне нужно двух секундантов.
– Дуэль, – сказал Гнушке.
Митюшин толкнул его локтем:
– Не перебивай, Генрих.
– Вот и все, – шепотом докончил Антон Петрович и, опустив глаза, слабо потеребил ленточку монокля.
Молчание. Ровно посапывала дама на диване. По улице пронесся гудок автомобиля.
– Я пьян, и Генрих пьян, – пробормотал Митюшин, – но, по-видимому, случилось что-то серьезное. – Он покусал костяшки руки и оглянулся на Гнушке: – Как ты считаешь, Генрих?
Гнушке вздохнул.
– Вот вы оба завтра пойдете к нему, – заговорил опять Антон Петрович. – Условьтесь о месте и так дальше. Он мне не дал своей карточки. По закону он должен был мне дать свою карточку. Я ему бросил перчатку.
– Вы поступаете как благородный и смелый человек, – вдруг оживился Гнушке. – По странному совпадению, я несколько знаком с этим делом. Один мой кузен был тоже убит на дуэли.
«Почему – тоже? – тоскливо подумал Антон Петрович. – Неужели это предзнаменование?»
Митюшин отпил из чашки и бодро сказал:
– Как другу – не могу отказать. Утром пойдем к господину Бергу.
– Насчет германских законов, – сказал Гнушке. – Если вы его убьете, то вас посадят на несколько лет в тюрьму; если же вы будете убиты, то вас не тронут.
– Я все это учел, – кивнул Антон Петрович.
И потом появилась опять прекрасная самопишущая ручка, черная блестящая ручка с золотым нежным пером, которое в обычное время как бархатное скользило по бумаге, но теперь рука у Антона Петровича дрожала, теперь, как палуба, ходил стол… На листе почтовой бумаги, данном ему Митюшиным, Антон Петрович написал Бергу письмо, трижды назвал Берга подлецом и кончил бессильной фразой: «Один из нас должен погибнуть».
И потом он зарыдал, и Гнушке, цокая языком, вытирал ему лицо большим платком в красных квадратах, и Митюшин показывал на шахматную доску, глубокомысленно повторяя: «Вот ты его как этого короля – мат в три хода, и никаких гвоздей». И Антон Петрович всхлипывал, слабо отклоняясь от дружеских Гнушкиных рук, и повторял с детскими интонациями: «Я ее так любил, так любил».
И рассветало.
– Значит, в девять часов вы будете у него, – сказал Антон Петрович и, пошатываясь, встал со стула.
– Через пять часов мы будем у него, – как эхо, отозвался Гнушке.
– Успеем выспаться, – сказал Митюшин.
Антон Петрович разгладил свою шляпу, на которой все время сидел, поймал руку Митюшина, подержал ее, поднял и почему-то прижал ее к своей щеке.
– Ну что ты, ну что ты, – забормотал Митюшин и, как давеча, обратился к спящей даме: – Наш друг уходит, Анна Никаноровна.
На этот раз она шелохнулась, вздрогнула спросонья, тяжеловато повернулась. У нее было полное мятое лицо с раскосыми, чересчур подведенными глазами.
– Вы бы, господа, больше не пили, – спокойно сказала она и опять повернулась к стене.
Антон Петрович нашел на углу сонный таксомотор, который, как дух, понес его через пустыни светающего города и уснул у его двери. В передней он встретил горничную Эльсбет: она, разинув рот, недобрыми глазами посмотрела на него, хотела что-то сказать, но раздумала и, шлепая ночными туфлями, пошла по коридору.
– Постойте, – сказал Антон Петрович. – Моя жена уехала?
– Это стыд, – внушительно проговорила горничная, – это сумасшедший дом. Тащить ночью сундуки, все перевернуть…
– Я вас спрашиваю, уехала ли моя жена? – тонким голосом закричал Антон Петрович.
– Уехала, – угрюмо ответила Эльсбет.
Антон Петрович прошел в гостиную. Он решил спать там. В спальне, конечно, нельзя. Он зажег свет, лег на кушетку и накрылся пальто. Почему-то было неуютно кисти левой руки. Ах, конечно, часы. Он снял их, завел да еще при этом подумал: «Удивительная вещь, этот человек сохраняет полное хладнокровие. Он даже не забывает завести часы. Это хорошо». И сразу, так как он был еще пьян, огромные ровные волны закачали его, ухнуло, поднялось, ухнуло, поднялось и стало сильно тошнить. Он привстал… большая медная пепельница… скорей… И так скинуло с души, что в паху закололо… и все мимо, мимо. Он заснул тотчас: одна нога в сером гетре свисала с кушетки, и свет (который он совсем забыл выключить) бледным лоском обливал его потный лоб.
2
Митюшин был скандалист и пьяница. Он чорт знает что мог натворить – этак с бухты-барахты. Бесстрашный человек. И, помнится, рассказывали о каком-то его приятеле, что он, в пику почтовому ведомству, бросал зажженные спички в почтовый ящик. И говорили, что у этого приятеля прегнусная фамилия. Так что вполне возможно, что это был Гнушке. А собственно говоря, Антон Петрович зашел к Митюшину просто так, чтобы спокойно посидеть, может быть, даже поспать у него, а то дома было слишком тошно. И ни с того ни с сего… Нет, конечно, Берга полагается убить, но сначала нужно было хорошенько все продумать, и если выбирать секундантов, то уж во всяком случае порядочных людей. В общем, вышло безобразие. Все вышло безобразно. Начиная с перчатки и кончая пепельницей. Но теперь, конечно, ничего не поделаешь, нужно эту чашу испить до дна…
Он пошарил под диваном, куда закатились часы. Одиннадцать. Митюшин и Гнушке уже побывали у Берга. Вдруг какая-то приятная мысль проскользнула среди других, растолкала их, пропала опять. Что это было? Ага, конечно! Ведь они были пьяны вчера, и он был пьян. Они, вероятно, проспали, а потом очухались, подумали: вздор, так, спьяну болтал. Но приятная мысль скользнула и исчезла. Все равно, дело начато, вчерашнее придется им повторить. Странно все же, что они до сих пор не показались. Дуэль. Здорово это звучит: дуэль. У меня дуэль. Я стреляюсь. Поединок. Дуэль. «Дуэль» – лучше. Он встал, заметил, что штаны страшно измяты. Пепельница была убрана. Очевидно, Эльсбет заходила, пока он спал. Как это неловко. Нужно пойти посмотреть, что делается в спальне. О жене он забыл, он должен забыть. Жены нет. Жены никогда не было. Все это прошло. Антон Петрович глубоко вздохнул и открыл дверь спальни. В углу стояла горничная и совала мятую газетную бумагу в мусорную корзину.
– Принесите мне, пожалуйста, кофе, – сказал он и подошел к туалетному столу. На нем лежал конверт: его имя, почерк Тани. Рядом валялись его щетка, гребенка, кисточка для бритья, безобразная жохлая перчатка. Антон Петрович вскрыл конверт. Сто марок, и больше ничего. Он повертел бумажку в руке, не зная, что с ней делать.
– Эльсбет…
Горничная подошла, подозрительно на него поглядывая.
– Вот возьмите. Вас так беспокоили ночью, и потом всякие другие неприятности… Возьмите же.
– Сто марок? – шепнула горничная и вдруг побагровела. Бог весть что пронеслось у нее в голове, но она грохнула корзиной об пол и крикнула: – Нет! Меня подкупить нельзя, я честная. Подождите, я еще всем скажу, что вы хотели меня подкупить. Нет! В этом сумасшедшем доме… – И она вышла, стукнув дверью.
– Что с ней? Господи, что с ней? – растерянно залепетал Антон Петрович и, быстро шагнув к двери, завопил горничной вслед: – Убирайтесь вон сию минуту, убирайтесь из дому!..
«Третьего человека выгоняю, – подумал он, дрожа всем телом. – И кофе теперь никто мне не даст».
Затем он долго мылся, переодевался, долго сидел в кафе напротив, посматривая в окно, не идут ли Митюшин и Гнушке. В городе у него была уйма дел, но делами он не мог заниматься. Дуэль. Красивое слово.
Около четырех к нему зашла Наташа, Танина сестра. Она едва могла говорить от волненья, и Антон Петрович похаживал туда-сюда и поглаживал мебель. Таня к ней ночью приехала в страшном состоянии. В невообразимом состоянии. Антону Петровичу вдруг показалось странным, что он с Наташей на «ты». Ведь он больше теперь не женат на ее сестре. «Я буду выдавать ей столько-то и столько-то», – говорил он, стараясь так, чтобы голос не срывался. «Дело не в деньгах, – отвечала Наташа, сидя в кресле и раскачивая ногою в блестящем чулке. – Дело в том, что это все сплошной ужас. Это ад какой-то». – «Спасибо, что зашла, как-нибудь еще поговорим, но сейчас я очень занят», – сказал Антон Петрович. Провожая ее до двери, он уронил (ему казалось, по крайней мере, что он «уронил»): «У меня с ним дуэль». Наташины губы задрожали, она быстро поцеловала его в щеку и вышла. Странно, что она не стала его умолять не драться. Собственно говоря, она должна была бы умолять его не драться. В наши дни никто не дерется. У нее те же духи, как… У кого? Нет, нет, он никогда не был женат.
А еще через некоторое время, так около семи, явились Митюшин и Гнушке. Они были мрачны. Гнушке сдержанно поклонился и протянул запечатанный конверт конторского вида. «Я получил твое глупейшее и грубейшее послание…» У Антона Петровича выпал монокль, он вдавил его снова. «Мне тебя очень жаль, но раз уже ты взял такой тон, то я не могу не принять вызова. Секунданты у тебя довольно дрянные. Берг».
У Антона Петровича появилась неприятная сухость во рту, – и опять эта дурацкая дрожь в ногах…
– Ах, садитесь же, – сказал он и сам сел первый.
Гнушке утонул в кресле, спохватился и сел на кончик.
– Он пренахальный господин, – с чувством проговорил Митюшин. – Представь себе, он все время смеялся, так что я ему чуть не заехал в зубы.
Гнушке кашлянул и сказал:
– Одно могу вам посоветовать: цельтесь хорошо, потому что он тоже будет хорошо целиться.
Перед глазами у Антона Петровича мелькнула страничка в записной книжке, исписанная крестиками, а еще кроме этого: картонная фигура, которая вырывает у другой картонной фигуры зуб.
– Он опасная личность, – сказал Гнушке и откинулся в кресле, и опять утонул, и опять сел на кончик.
– Кто будет докладывать, Генрих, ты или я? – спросил Митюшин, жуя папиросу и большим пальцем дергая колесико зажигалки.
– Лучше уж ты, – сказал Гнушке.
– У нас был очень оживленный день, – начал Митюшин, тараща голубые свои глаза на Антона Петровича. – Ровно в половину девятого мы с Генрихом, который был еще вдрызг пьян…
– Я протестую, – сказал Гнушке.
– …направились к господину Бергу. Он попивал кофе. Мы ему – раз! – всучили твое письмецо. Которое он прочел. И что он тут сделал, Генрих? Да, рассмеялся. Мы подождали, пока он кончит ржать, и Генрих спросил, какие у него планы.
– Нет, не планы, а как он намерен реагировать, – поправил Гнушке.
– …реагировать. На это господин Берг ответил, что он согласен драться и что выбирает пистолет. Дальнейшие условия такие: двадцать шагов, никакого барьера, и просто стреляют по команде: раз, два, три. Засим… Что еще, Генрих?
– Если нельзя достать дуэльные пистолеты, то стреляют из браунингов, – сказал Гнушке.
– Из браунингов. Выяснив это, мы спросили у господина Берга, как снестись с его секундантами. Он вышел телефонировать. Потом написал вот это письмо. Между прочим, он все время острил. Далее было вот что: мы пошли в кафе встретиться с его господами. Я купил Гнушке гвоздику в петлицу. По гвоздике они и узнали нас. Представились, ну, одним словом, все честь честью. Зовут их Малинин и Буренин.
– Не совсем точно, – вставил Гнушке. – Буренин и полковник Магеровский.
– Это неважно, – сказал Митюшин и продолжал: – Тут начинается эпопея. С этими господами мы поехали за город отыскивать место. Знаешь Вайсдорф – это за Ваннзе. Ну вот. Мы там погуляли по лесу и нашли прогалину, где, оказывается, эти господа со своими дамами устраивали на днях пикничок. Прогалина небольшая, кругом лес да лес. Словом, место идеальное. Видишь, какие у меня сапоги – совсем белые от пыли.
– У меня тоже, – сказал Гнушке. – Вообще прогулка была утомительная.
– Сегодня жарко, – сказал Митюшин. – Еще жарче, чем вчера.
– Значительно жарче, – сказал Гнушке.
Митюшин с чрезмерной тщательностью стал давить папиросу в пепельнице. Молчание. У Антона Петровича сердце билось в пищеводе. Он попробовал его проглотить, но оно застучало еще сильнее. Когда же дуэль? Завтра? Почему они не говорят? Может быть, послезавтра? Лучше было бы послезавтра…
Митюшин и Гнушке переглянулись и встали.
– Завтра в половину седьмого мы будем у тебя, – сказал Митюшин. – Раньше ехать незачем. Все равно там ни пса нет.
Антон Петрович тоже встал. Что сделать? Поблагодарить?
– Ну вот, спасибо, господа… Спасибо, господа… Значит, все устроено. Значит, так.
Те поклонились.
– Мы еще должны найти доктора и пистолеты, – сказал Гнушке.
В передней Антон Петрович взял Митюшина за локоть и пробормотал:
– Ужасно, знаешь, глупо, – но дело в том, что я, так сказать, не умею стрелять. То есть умею, но очень плохо…
Митюшин хмыкнул:
– Н-да. Не повезло. Сегодня воскресенье, а то можно было бы тебе взять урок. Не повезло.
– Полковник Магеровский дает частные уроки стрельбы, – вставил Гнушке.
– Да, – сказал Митюшин, – ты у меня умный. Но все-таки как же нам быть, Антон Петрович? Знаешь что – новичкам везет. Положись на Господа Бога и ахни.
Они ушли. Вечерело. Никто не спустил штор. В буфете есть, кажется, сыр и грахамский хлеб. Пусто в комнатах и неподвижно, как будто было время, что вся мебель дышала, двигалась, – а теперь замерла. Картонный зубной врач с хищным лицом склонялся над обезумевшим пациентом: это было так недавно, в синий, разноцветный фейерверочный вечер, в Луна-парке. Берг долго целился, хлопало духовое ружье, и пулька, попав в цель, освобождала пружину, и картонный дантист выдергивал огромный зуб о четырех корнях. Таня била в ладоши, Антон Петрович улыбался, и Берг стрелял снова, и с треском вращались картонные диски, разлетались на осколки трубки, исчезал шарик, плясавший на тонкой струе фонтана. Ужасно… И ужасней всего, что Таня тогда сказала так, в шутку: «А с вами неприятно было бы драться на дуэли». Эта дуэль будет без барьера. Антон Петрович твердо был убежден, что барьер – это ограда – из досок, что ли, – стоя за которой палит дуэлянт. А теперь барьера не будет, – никакой защиты. Двадцать шагов. Антон Петрович, считая шаги, прошел от двери до окна. Одиннадцать. Он вставил монокль, прикинул на глаз расстояние: две такие, совсем небольшие комнаты. Ах, если б удалось сразу пальнуть, сразу повалить Берга. Но он же не умеет целиться. Промах неизбежен. Вот, скажем, разрезательный нож. Или нет, возьмем лучше это пресс-папье. Нужно его держать так и целиться. А может быть, так, у самого лица, этак как будто лучше видно. И в это мгновенье, держа перед собой пресс-папье, изображавшее попугая, и поводя им туда-сюда, в это мгновенье Антон Петрович понял, что будет убит.
Около десяти он решил лечь. Но спальня была табу. С большим трудом он отыскал в комоде чистое постельное белье, переодел подушку, обтянул простыней кожаную кушетку в гостиной. Раздеваясь, он подумал: «Я в последний раз в жизни ложусь спать». «Пустяки!» – слабо пискнула какая-то маленькая часть души Антона Петровича, та часть его души, которая заставила его бросить перчатку, хлопнуть дверью, назвать Берга подлецом. «Пустяки!» – тонким голосом сказал Антон Петрович и спохватился: нехорошо так говорить. Если я буду думать, что со мной ничего не случится, то со мной случится самое худшее. Все в жизни всегда случается наоборот. Хорошо бы что-нибудь на ночь почитать, – в последний раз.
«Вот опять, – застонал он мысленно. – Почему последний раз? Я в ужасном состоянии. Нужно взять себя в руки. Ах, если б какие-нибудь были приметы. Карты».
На столике рядом с кушеткой лежала колода карт, Антон Петрович взял верхнюю: тройка бубен. Что значит тройка бубен? Неизвестно. Дальше он вытащил по порядку: даму бубен, восьмерку треф, туз пик. А! Вот это нехорошо. Туз пик – это, кажется, смерть. Но впрочем, глупости, суеверные глупости… Полночь. Пять минут первого. Завтра стало сегодня. У меня сегодня дуэль.
Он вновь и вновь пробовал успокоиться. Но происходили странные вещи: книга, которую он держал, называлась «Волшебная гора», а гора по-немецки – Берг; он решил, что, если досчитает до трех и на три пройдет трамвай, он будет убит, – и так оно и случилось: прошел трамвай. И тогда Антон Петрович сделал самое скверное, что мог сделать человек в его положении: он решил уяснить себе, что такое смерть. Спустя минуту такого раздумья все потеряло смысл. Ему стало трудно дышать. Он встал, прошелся по комнате, поглядел в окно на чистое, страшное ночное небо. «Надо завещанье написать», – подумал Антон Петрович. Но писать завещанье было, так сказать, играть с огнем; это значило мысленно похоронить себя. «Лучше всего выспаться», – сказал он вслух. Но как только он опускал веки, перед ним являлось злое, веселое лицо Берга и щурило один глаз. Тогда он опять зажигал свет, пытался читать, курил, хотя курильщиком не был. Мгновениями он вспоминал мелочь из прошлой жизни – детский пистолетик, тропинку в парке или что-нибудь такое – и сразу пресекал свои воспоминания, подумав: умирающие всегда вспоминают мелочи прошлой жизни. Этого не нужно делать. И тогда обратное пугало его: он замечал, что о Тане не думал, что он как бы охлажден наркотиком, нечувствителен к ее отсутствию. И сама собой являлась мысль: я бессознательно уже простился с жизнью, мне теперь все безразлично, раз я буду убит… И ночь уже шла на убыль.
Около четырех он прошаркал в столовую и выпил стакан сельтерской воды. Проходя мимо зеркала, он поглядел на свою полосатую пижаму, на жидкие, растрепанные волосы. «У меня будет безобразный вид, стыдно… – подумал он. – Но как выспаться, как выспаться?»
Он завернулся в плед, так как заметил, что у него говорят зубы, и сел в кресло посреди смутной, медленно бледневшей комнаты. Как это все будет? Нужно надеть что-нибудь строгое, но элегантное. Может быть, смокинг? Нет, это глупо. Тогда – черный костюм… и, пожалуй, черный галстук. Черный костюм совсем новый. Но если будет рана – скажем, рана в плечо. Костюм будет испорчен… Кровь, дырка, будут еще резать рукав. Пустяки, ничего не будет. Надо надеть новый черный костюм. И когда начнется дуэль, он поднимет воротник пиджака, так, кажется, полагается, – чтобы не белела рубашка, что ли, или просто потому, что по утрам сыро. Так было в одном фильме. Затем нужно будет сохранять полное хладнокровие, говорить со всеми вежливо и спокойно. Спасибо, я уже стрелял. Теперь ваша очередь. Если вы не вынете папиросу изо рта, то я стрелять не стану. Я готов продолжать. Спасибо, я уже стрелял. «Спасибо, я уже смеялся», – анекдот какой-то. Чепуха, не то… Значит, все-таки как же будет? Они приедут – он, Митюшин и Гнушке – на автомобиле, оставят автомобиль на шоссе, пройдут в лес. Там уже, вероятно, будет ждать Берг и его секунданты. Вот тут неизвестно – нужно ли поклониться, или нет. Может быть, хорошо выйдет, если так, издали, сдержанно, приподнять шляпу. Потом, вероятно, будут мерить шаги и заряжать пистолеты – как в «Евгении Онегине». Что он будет делать тем временем? Да, конечно, он где-нибудь в стороне поставит ногу на пень и будет так – непринужденно – ждать. Но что, если Берг станет тоже так – ногой на пень? Берг на это способен… Передразнить его. И выйдет опять безобразие. Еще можно прислониться к стволу или просто на траву сесть. Ну, там видно будет. Что-нибудь достойное и небрежное. Теперь дальше: они оба станут на отмеченные места. Тут-то он поднимет воротник. Пистолет возьмет так. Секунданты начнут считать. И тогда вдруг произойдет самое страшное, самое дикое, то, что представить себе нельзя, – хоть думай об этом ночи напролет, хоть живи до ста лет… Какое это чувство, когда пуля попадает в сердце или в лоб? Боль? Тошнота? Или просто – бац! – и полная тьма? А что, если какая-нибудь отвратительная рана – в глаз, в живот? Нет, Берг убьет его наповал. «Тут, конечно, сосчитаны только те, которых я бил наповал». Еще один крестик в записной книжке. Немыслимо…
В столовой часы прозвонили пять раз. Антон Петрович с огромным трудом, дрожа и кутаясь в клетчатый плед, поднялся – и опять задумался, и вдруг топнул ногой, как топнул Людовик, когда сказали ему, что пора ехать на эшафот. Ничего не поделаешь. Казнь неизбежна. Нужно пойти мыться, одеваться. Чистое белье и новый черный костюм. И, вставляя запонки в манжеты рубашки, Антон Петрович подумал, что вот, через два-три часа эта рубашка будет вся в крови и вот тут будет дырка. Он погладил себя по блестящим волоскам, которые спускались тропинкой по теплой груди, и стало так страшно, что он прикрыл ладонью глаза. С какой-то трогательной самостоятельностью все сейчас в нем движется, пульсирует сердце, надуваются легкие, бежит кровь, сокращаются кишки, – и это внутреннее, мягкое, беззащитное существо, живущее так слепо, так доверчиво, это нежное анатомическое существо он ведет на убой… На убой! Он крякнул, влезая в холодную, белую темноту рубашки, – и потом уже старался не думать ни о чем, выбирал носки, галстук, замшевым лоскутком неловко чистил башмаки. Ища чистый платок, он набрел на палочку румян. И, взглянув в зеркало на свое ужасное, бледное лицо, он осторожно повел липкой этой палочкой по щеке. Вышло сперва еще гаже. Он лизнул палец, потер щеку, пожалел, что никогда не посмотрел хорошенько, как мажутся дамы. На щеках появился легкий кирпичный налет, – ему показалось, что так хорошо… «Ну вот, я и готов», – сказал он, обращаясь к зеркалу, и мучительно зевнул: зеркало залилось слезами. Быстро двигая руками, он надушился, разложил по карманам бумаги, платок, ключи, самопишущее перо, нацепил монокль. Жалко, что нет хороших перчаток. Такая была новенькая пара, но левая овдовела. Он сел в гостиной, перед письменным столом, положил локти на стол и стал ждать, глядя то в окно, то на часы в складной кожаной раме.