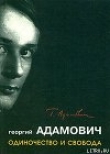Текст книги "Рассказы и эссе"
Автор книги: Владимир Набоков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
Рождественский рассказ
Наступило молчанье. Антон Голый, безжалостно освещенный лампой, молодой, толстолицый, в косоворотке под черным пиджаком, напряженно потупясь, стал собирать листы рукописи, которые он во время чтения откладывал, как попало. Его пестун, критик из «Красной Яви», смотрел в пол, хлопая себя по карманам в поисках спичек. Писатель Новодворцев молчал тоже, но его молчание было другое, – маститое. В крупном пенснэ, чрезвычайно лобастый, с двумя полосками редких темных волос, натянутых поперек лысины, и с сединой на подстриженных висках, он сидел прикрыв глаза, словно продолжал слушать, скрестив толстые ноги, защемив руку между коленом одной ноги и подколенной косточкой другой. Уже не в первый раз к нему приводили вот таких угрюмых истовых сочинителей из крестьян. И уже не в первый раз ему брезжил в их неопытных повестях отсвет – до сих пор критикой не отмеченный – его собственного двадцатипятилетнего творчества; ибо в рассказе Голого неловко повторялась его же тема, тема его повести «Грань», написанной с волнением и надеждой, напечатанной в прошлом году и ничего не прибавившей к его прочной, но тусклой славе.
Критик закурил. Голый, не поднимая глаз, совал рукопись в портфель, – но хозяин продолжал молчать, – не потому, что не знал, как оценить рассказ, а потому, что робко и тоскливо ждал, что критик, быть может, скажет те слова, которые ему, Новодворцеву, неудобно сказать: тема, мол, взята новодворцевская, Новодворцевым внушен этот образ молчаливого, бескорыстно преданного своему делу рабочего, который не образованьем, а какой-то нутряной, спокойной мощью одерживает психологическую победу над злобным интеллигентом. Но критик, сгорбившись на краю кожаного дивана, как большая печальная птица, – безнадежно молчал.
Тогда Новодворцев, поняв, что и нынче желанных слов не услышит, и стараясь сосредоточить мысль на том, что все-таки к нему, а не к Неверову привели начинающего писателя на суд, переменил положение ног, подсунул другую руку и, деловито сказав «так-с», глядя на жилу, вздувшуюся у Го-лого на лбу, стал тихо и гладко говорить. Он говорил, что рассказ крепко сделан, что чувствуется сила коллектива в том месте, где мужики на свои деньги начинают строить школу, что в описании любви Петра к Анюте есть какие-то промахи слога, но слышится зов весны, зов здоровой похоти – и все время, пока он говорил, ему почему-то вспоминалось, как недавно он послал тому же критику письмо, в котором напоминал, что в январе исполняется двадцать пять лет его писательской деятельности, но что он убедительно просит никаких чествований не устраивать, ввиду того, что еще продолжаются для Союза годы интенсивной работы… «А вот интеллигент у вас не удался, – говорил он. – Не чувствуется настоящей обреченности…» Но критик молчал. Это был костлявый, расхлябанный, рыжий человек, страдающий, по слухам, чахоткой, но на са-мом деле, вероятно, здоровый как бык. Он ответил, письмом же, что одобряет такое решение, и на этом дело и кончилось. Должно быть, в виде тайной компенсации привел Голого… И Новодворцеву стало вдруг так грустно, – не обидно, а просто грустно, – что он осекся и начал платком протирать стекла, и глаза у него оказались совсем добрыми. Критик встал. «Куда же вы, еще рано…» – сказал Новодворцев, но встал тоже. Антон Голый кашлянул и прижал портфель к боку.
«Писатель из него выйдет, это так», – равнодушно сказал критик, блуждая по комнате и тыкая в воздухе потухшей папиросой. Напевая вполголоса, сквозь зубы, с зыкающим звуком, он повис над письменным столом, затем постоял у этажерки, где добротный «Капитал» жил между потрепанным Леонидом Андреевым и безымянной книгой без корешка; наконец, все той же склоняющейся походкой подошел к окну, отодвинул синюю штору.
«Заходите, заходите, – говорил Новодворцев Антону Голому, который отрывисто кланялся и потом браво расправлял плечи. – Вот напишите еще что-нибудь – принесите». «Масса снегу навалило, – сказал критик, отпустив штору. – Сегодня, кстати, сочельник».
Он стал вяло искать пальто и шапку. «Во время оно, в сей день, ваша братия строчила рождественские фельетончики…»
«Со мной не случалось», – сказал Новодворцев. Критик усмехнулся. «Напрасно. Вот бы написал рождественский рассказ. По-новому».
Антон Голый кашлянул в кулак. «А у нас», – начал он хриплым басом и опять прочистил горло.
«Я серьезно говорю, – продолжал критик, влезая в пальто. – Можно очень ловко построить. Спасибо… Уже».
«А у нас, – сказал Антон Голый, – был такой случай. Учитель, Вздумал на праздниках ребятам елку. Устроить. Нацепил сверху. Красную звезду».
«Нет, это не совсем годится, – сказал критик. – В рассказике это выйдет грубовато. Можно острее поставить. Борьба двух миров. Все это на фоне снега».
«Вообще с символами нужно осторожнее обращаться, – хмуро сказал Новодворцев. – Вот у меня есть сосед – препорядочный человек. А все-таки так выражается: «Голгофа пролетариата»…»
Когда гости ушли, он сел к письменному столу, подпер ухо толстой белой рукой. Около чернильницы стояло нечто вроде квадратного стакана с тремя вставками, воткнутыми в синюю стеклянную икру. Этой вещи было лет десять, пятнадцать, – она прошла через все бури, миры вокруг нее растряхивались, – но ни одна стеклянная дробинка не потерялась. Он выбрал перо, придвинул лист бумаги, подложил еще несколько листов, чтобы было пухлее писать…
«Но о чем?» – громко сказал Новодворцев и ляжкой отодвинул стул, зашагал по комнате. В левом ухе нестерпимо звенело.
«А ведь этот скот нарочно сказал», – подумал он, и, словно проделывая в свой черед недавний путь критика по комнате, пошел к окну.
«Советует… Издевательский тон… Вероятно, думает, что оригинальности у меня больше нет… Вот закачу в самом деле рождественский рассказ… Потом будет сам вспоминать, печатно: захожу я к нему однажды и так, между прочим, говорю: «Изобразили бы вы, Дмитрий Дмитриевич, борьбу старого и нового на фоне рождественского, в кавычках, снега. Продолжали бы до конца ту линию, которую вы так замечательно провели в «Грани», – помните сон Туманова? Вот эту линию… Ив эту ночь родилось то произведение, которое…».
Окно выходило во двор. Луны не было видно… нет, впрочем, вон там сияние из-за темной трубы. Во дворе были сложены дрова, покрытые светящимся ковром снега. В одном окне горел зеленый колпак лампы, кто-то работал у стола; как бисер, блестели счеты. С краю крыши вдруг упали, совершенно беззвучно, несколько снежных комьев. И опять – оцепенение.
Он почувствовал ту щекочущую пустоту, которая всегда у него сопровождала желание писать. В этой пустоте что-то принимало образ, росло. Рождество, новое, особое. Этот старый снег и новый конфликт…
За стеной он услышал осторожный стук шагов. Это вернулся к себе сосед, скромный, вежливый, – коммунист до мозга костей. С чувством беспредельного упоения, сладкого ожидания, Новодворцев снова присел к столу. Настроение, краски зреющего произведения уже были. Оставалось только создать остов – тему. Елка – вот с чего следовало начать. Он подумал о том, что, вероятно, в некоторых домах бывшие люди, запуганные, злобные, обреченные (он их представил себе так ясно…) украшают бумажками тайно срубленную в лесу елку. Этой мишуры теперь негде купить, елок не сваливают больше под тенью Исакия…
Мягкий, словно в суконце обернутый стук. Дверь открылась на вершок. Деликатно, не просовывая головы, сосед сказал:
«Попрошу у вас перышко. Лучше тупое, если есть…» Новодворцев дал.
«Бладасте», – сказал соседи бесшумно затворил дверь. Этот незначительный перерыв как-то ослабил образ, который уже созревал. Он вспомнил, что в «Грани» Туманов жалеет о пышности прежних праздников. Плохо, если получится только повторение. Некстати пронеслось и другое воспоминание. Недавно, на одном вечере, какая-то дамочка сказала своему мужу: «Ты во многом очень похож на Туманова». Несколько дней он был очень счастлив. А потом с этой дамочкой познакомился, и оказалось, что Туманов – жених ее сестры. И это был не первый обман. Критик один сказал ему, что напишет статью о «тумановщине». Что-то было бесконечно лестное в этом слове, начинающемся с маленькой буквы. Но критик уехал на Кавказ изучать грузинских поэтов. А все же бывало и приятное. Такой перечень, например: Горький, Новодворцев, Чириков…
В автобиографии, приложенной к полному собранию сочинений (шесть томов, с портретом), он описал, с каким трудом он, сын простых родителей, пробился в люди. На самом деле юность у него была счастливая. Хорошая такая бодрость, вера, успехи. Двадцать пять лет тому назад в толстом журнале появилась его первая повесть. Его любил Короленко. Он бывал арестован. Из-за него закрыли одну газету. Теперь его гражданские надежды сбылись. Среди молодых, среди новых он чувствовал себя легко, вольно. Новая жизнь была душе его впрок и впору. Шесть томов. Его имя известно. Но тусклая слава, тусклая…
Он скользнул обратно к образу елки – и вдруг, ни с того ни с сего вспомнил гостиную в одном купеческом доме, большую книгу статей и стихов с золотым обрезом (в пользу голодающих), как-то связанную с этим домом, и елку в гостиной, и женщину, которую он тогда любил, и то, как все огни елки хрустальным дрожанием отражались в ее широко раскрытых глазах, когда она с высокой ветки срывала мандарин. Это было лет двадцать, а то и больше назад, – но как мелочи запоминаются.
С досадой отвернулся он от этого воспоминания, и опять, как всегда, вообразил убогие елки, которые, верно, сейчас украшают… Из этого не сделаешь рассказа, но, впрочем, можно обострить… Эмигранты плачут вокруг елки, напялили мундиры, пахнущие нафталином, смотрят на елку и плачут. Где-нибудь в Париже. Старый генерал вспоминает, как бил по зубам, и вырезает ангела из золотого картона… Он подумал о генерале, которого действительно знал, который действительно был теперь заграницей, – и никак не мог представить его себе плачущим, коленопреклоненным перед елкой…
«Но я на верном пути», – вслух произнес Новодворцев, нетерпеливо преследуя какую-то ускользающую мысль. И что-то новое, неожиданное стало грезиться ему. Европейский город, сытые люди в шубах. Озаренная витрина. За стеклом огромная елка, обложенная по низу окороками; и на ветках дорогие фрукты. Символ довольствия. А перед витриной, на ледяном тротуаре…
И, с торжественным волнением, чувствуя, что он нашел нужное, единственное, – что напишет нечто изумительное, изобразит, как никто, столкновение двух классов, двух миров, он принялся писать. Он писал о дородной елке в бесстыдно освещенной витрине и о голодном рабочем, жертве локаута, который на елку смотрел суровым и тяжелым взглядом.
«Наглая елка», писал Новодворцев, «переливалась всеми огнями радуги».
Впервые рассказ был опубликован в газете «Руль» (Берлин) 25 декабря 1928 г.
Весна в Фиальте
Весна в Фиальте облачна и скучна. Все мокро: пегие стволы платанов, можжевельник, ограды, гравий. Далеко, в бледном просвете, в неровной раме синеватых домов, с трудом поднявшихся с колен и ощупью ищущих опоры (кладбищенский кипарис тянется за ними), расплывчато очерченная гора св. Георгия менее чем когда-либо похожа на цветные снимки с нее, которые тут же туриста ожидают (с тысяча девятьсот десятого года, примерно, судя по шляпам дам и молодости извозчиков), теснясь в застывшей карусели своей стойки между оскалом камня в аметистовых кристаллах и морским рококо раковин. Ветра нет, воздух тепл, отдает гарью. Море, опоенное и опресненное дождем, тускло оливково; никак не могут вспениться неповоротливые волны.
Именно в один из таких дней раскрываюсь, как глаз, посреди города на крутой улице, сразу вбирая все: и прилавок с открытками, и витрину с распятиями, и объявление заезжего цирка, с углом, слизанным со стены, и совсем еще желтую апельсинную корку на старой, сизой панели, сохранившей там и сям, как сквозь сон, старинные следы мозаики. Я этот городок люблю; потому ли, что во впадине его названия мне слышится сахаристо-сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов, и не в тон, хотя внятное, звучание Ялты; потому ли, что его сонная весна особенно умащивает душу, не знаю; но как я был рад очнуться в нем, и вот шлепать вверх, навстречу ручьям, без шапки, с мокрой головой, в макинтоше, надетом прямо на рубашку!
Я приехал ночным экспрессом, в каком-то своем, паровозном, азарте норовившем набрать с грохотом как можно больше туннелей; приехал невзначай, на день, на два, воспользовавшись передышкой посреди делового путешествия. Дома я оставил жену, детей: всегда присутствующую на ясном севере моего естества, всегда плывущую рядом со мной, даже сквозь меня, а все-таки вне меня, систему счастья.
Со ступеньки встал и пошел, с выпученным серым, пупастым животом, мужского пола младенец, ковыляя на калачиках и стараясь нести зараз три апельсина, неизменно один роняя, пока сам не упал, и тогда мгновенно у него все отняла тремя руками девочка с тяжелым ожерельем вокруг смуглой шеи и в длинной, как у цыганки, юбке. Далее, на мокрой террасе кофейни официант вытирал столики; с ним беседовал, опершись с моей стороны на перила, безнадежно усатый продавец сложных, с лунным отливом, сластей в безнадежно полной корзине. Моросить не то перестало, не то Фиальта привыкла, и уже сама не знала, чем дышит, влажным ли воздухом или теплым дождем. На ходу набивая из резинового кисета трубку, прочного вывозного сорта англичанин в клетчатых шароварах появился из-под арки и вошел в аптеку, где за стеклом давно изнемогали от жажды большие бледные губки в синей вазе. Боже мой, какое я ощущал растекающееся по всем жилам наслаждение, как все во мне благодарно отзывалось на шорохи, запахи этого серого дня, насыщенного весной, но в себе еще ее не чующего! Голова у меня была прозрачна после бессонной ночи; я все понимал: свист дрозда в миндальном саду за часовней, и мирную тесноту этих жилых развалин вместо домов, и далекое за вуалью воздуха, дух переводящее море, и ревнивый блеск взъерошенных бутылочных осколков по верху стены (за ней штукатурная гордость местного богатея), и объявление цирка, на эту стену наклеенное; пернатый индеец, на всем скаку выбросив лассо, окрутил невозможную зебру, а на тумбах, испещренных звездами, сидят одураченные слоны.
Тот же англичанин теперь обогнал меня. Мельком, заодно со всем прочим, впитывая и его, я заметил, как, в сторону скользнув большим аквамариновым глазом. с воспаленным лузгом, он самым кончиком языка молниеносно облизнулся. Я машинально посмотрел туда же и увидел Нину.
Всякий раз, когда мы встречались с ней, за все время нашего пятнадцатилетнего… назвать в точности не берусь: приятельства? романа?.. она как бы не сразу узнавала меня; и ныне тоже она на мгновение осталась стоять, полуобернувшись, натянув тень на шее, обвязанной лимонно-желтым шарфом, в исполненной любопытства, приветливой неуверенности… и вот уже вскрикнула, подняв руки, играя всеми десятью пальцами в воздухе, и посреди улицы, с откровенной пылкостью давней дружбы (с той же лаской, с какой быстро меня крестила, когда мы расставались), всем ртом трижды поцеловала меня и зашагала рядом со мной, вися на мне, прилаживая путем прыжка и глиссады к моему шагу свой, в узкой рыжей юбке с разрезом вдоль голени.
– Фердинандушка здесь, как же, – ответила она и тотчас в свою очередь вежливенько и весело осведомилась о моей жене.
– Шатается где-то с Сегюром, – продолжала она о муже, – а мне нужно кое-что купить, мы сейчас уезжаем. Погоди, куда это ты меня ведешь, Васенька?
Собственно говоря, назад в прошлое, что я всякий раз делал при встрече с ней, будто повторяя все накопление действия с начала вплоть до последнего добавления, как в русской сказке подбирается уже сказанное при новом толчке вперед. Теперь мы свиделись в туманной и теплой Фиальте, и я не мог бы с большим изяществом праздновать это свидание (перечнем, с виньетками от руки крашенными, всех прежних заслуг судьбы), знай я даже, что оно последнее; последнее, говорю; ибо я не в состоянии представить себе никакую потустороннюю организацию, которая согласилась бы устроить мне новую встречу с нею за гробом.
Я познакомился с Ниной очень уже давно, в тысяча девятьсот семнадцатом, должно быть, судя по тем местам, где время износилось. Было это в какой-то именинный вечер в гостях у моей тетки, в ее Лужском имении, чистой деревенской зимой (как помню первый знак приближения к нему: красный амбар посреди белого поля), Я только что кончил лицей; Нина уже обручилась: ровесница века, она, несмотря на малый рост и худобу, а может быть благодаря им, была на вид значительно старше своих лет, точно так же, как в тридцать два казалась намного моложе. Ее тогдашний жених, боевой офицер из аккуратных, красавец собой, тяжеловатый и положительный, взвешивавший всякое слово на всегда вычищенных и выверенных весах, говоривший ровным ласковым баритоном, делавшимся еще более ровным и ласковым, когда он обращался к ней; словом, один из тех людей, все мнение о которых исчерпывается ссылкой на их совершенную порядочность (прекрасный товарищ, идеал секунданта), и которые, если уже влюбляются, то не просто любят, а боготворят, успешно теперь работает инженером в какой-то очень далекой тропической стране, куда за ним она не последовала.
Зажигаются окна и ложатся, с крестом на спине, ничком на темный, толстый снег: ложится меж них и веерный просвет над парадной дверью. Не помню, почему мы все повысыпали из звонкой с колоннами залы в эту неподвижную темноту, населенную лишь елками, распухшими вдвое от снежного дородства: сторожа ли позвали поглядеть на многообещающее зарево далекого пожара, любовались ли мы на ледяного коня, изваянного около пруда швейцарцем моих двоюродных братьев; но воспоминание только тогда приходит в действие, когда мы уже возвращаемся в освещенный дом, ступая гуськом по узкой тропе среди сумрачных сугробов с тем скрип-скрип-скрипом, который, бывало, служил единственной темой зимней неразговорчивой ночи. Я шел в хвосте; передо мной в трех скользких шагах шло маленькое склоненное очертание; елки молча торговали своими голубоватыми пирогами; оступившись, я уронил и не сразу мог нащупать фонарь с мертвой батареей, который мне кто-то всучил, и тотчас привлеченная моим чертыханием, с торопящимся, оживленно тихим, смешное предвкушающим смехом, Нина проворно повернулась ко мне. Я зову ее Нина, но тогда едва ли я знал ее имя, едва ли мы с нею успели что-либо, о чем-либо… «Кто это?» – спросила она любознательно, а я уже целовал ее в шею, гладкую и совсем огненную за шиворотом, накаленную лисьим мехом, навязчиво мне мешавшим, пока она не обратила ко мне и к моим губам не приладила, с честной простотой, ей одной присущей, своих отзывчивых, исполнительных губ.
Но взрывом веселья мгновенно разлучая нас, в сумраке началась снежная свалка, и кто-то, спасаясь, падая, хрустя, хохоча с запышкой, влез на сугроб, побежал, охнул сугроб, произвел ампутацию валенка, И потом до самого разъезда так мы друг с дружкой ни о чем и не потолковали, не сговаривались насчет тех будущих, вдаль уже тронувшихся, пятнадцати дорожных лет, нагруженных частями наших несобранных встреч, и следя за ней в лабиринте жестов и теней жестов, из которых состоял вечер (его общий узор могу ныне восстановить только по другим, подобным ему, вечерам, но без Нины), я был, помнится, поражен не столько ее невниманием ко мне, сколько чистосердечнейшей естественностью этого невнимания, ибо я еще тогда не знал, что, скажи я два слова, оно сменилось бы тотчас чудной окраской чувств, веселым, добрым, по возможности деятельным участием, точно женская любовь была родниковой водой, содержащей целебные соли, которой она из своего ковшика охотно поила всякого, только напомни.
– Последний раз мы виделись, кажется, в Париже, – заметил я, чтобы вызвать одно из знакомых мне выражений на ее маленьком скуластом лице с темно-малиновыми губами: и действительно: она так усмехнулась, что будто я плоско пошутил или, подробнее, как будто все эти города, где нам рок назначал свидания, на которые сам не являлся, все эти платформы, и лестницы, и чуть-чуть бутафорские переулки, были декорациями, оставшимися от каких-то других доигранных жизней и столь мало относившимися к игре нашей судьбы, что упоминать о них было почти безвкусно.
Я сопроводил ее в случайную лавку под аркадами; там, в бисерной полутьме, она долго возилась, перебирая какие-то красные кожаные кошельки, набитые нежной бумагой, смотря на подвески с ценой, словно желая узнать их возраст; затем потребовала непременно такого же, но коричневого, и когда, после десятиминутного шелеста, именно такой чудом отыскался, она было взяла из моих рук монеты, но вовремя опомнилась, и мы вышли, ничего не купив.
Улица была все такая же влажная, неоживленная; чадом, волнующим татарскую мою память, несло из голых окон бледных домов; небольшая компания комаров занималась штопанием воздуха над мимозой, которая цвела, спустя рукава до самой земли; двое рабочих в широких шляпах закусывали сыром с чесноком, прислонившись к афишной доске, на которую были наклеены гусар, укротитель в усах и оранжевый тигр на белой подкладке, причем в стремлении сделать его как можно свирепее художник зашел так далеко, что вернулся с другой стороны, придав его морде кое-что человеческое.
– Au fond (В сущности (франц.)), я хотела гребенку, – сказала Нина с поздним сожалением.
Как мне была знакома ее зыбкость, нерешительность, спохватки, легкая дорожная суета! Она всегда или только что приехала или сейчас уезжала. Если бы мне надо было предъявить на конкурс земного бытия образец ее позы, я бы, пожалуй, поставил ее у прилавка в путевой конторе, ноги свиты, одна бьет носком линолеум, локти и сумка на прилавке, за которым служащий, взяв из-за уха карандаш, paзду^лывaeт вместе с ней над планом спального вагона.
В первый раз за границей я встретил ее в Берлине, у знакомых. Я собирался жениться; она только что разошлась с женихом. Я вошел, увидел ее издали к машинально, но безошибочно, определил, оглянув других мужчин в комнате, кто из них больше знает о ней, чем знал я. Она сидела с ногами в углу дивана, сложив свое небольшое, удобное тело в виде зета; у каблучка стояла на диване пепельница; и всмотревшись в меня, и вслушавшись в мое имя, она отняла от губ длинный, как стебель, мундштук и протяжно, радостно воскликнула: «Нет!» (в значении «глазам не верю»), и сразу всем показалось, ей первой, что мы в давних приятельских отношениях: поцелуя она не помнила вовсе, но зато (через него все-таки) у нее осталось общее впечатление чего-то задушевного, воспоминание какой-то дружбы, в действительности никогда между нами не существовавшей. Таким образом весь склад наших отношений был первоначально основан на небывшем, на мнимом благе, если, однако, не считать за прямое добро ее беспечного, тороватого, дружеского любострастия. Встреча была совершенно ничтожна в смысле сказанных слов, но уже никакие преграды не разделяли нас, и, оказавшись с ней рядом за чайным столом, я бессовестно испытывал степень ее тайного терпения.
Потом она пропадает опять, а спустя год я с женой провожал брата в Вену, и когда поезд, поднимая рамы и отворачиваясь, ушел, и мы направились к выходу по другой стороне дебаркадера, неожиданно около вагона парижского экспресса я увидел Нину, окунувшую лицо в розы, посреди группы людей, мне раздражительно незнакомых, кольцом стоявших и смотревших на нес, как зеваки смотрят на уличное препирательство, найденыша или раненого, то есть явно провожавших ее. Она махнула мне цветами, я познакомил ее с Еленой Константиновной, и на этом ускорявшем жизнь вокзальном ветерке было достаточно обмена нескольких слов для того, чтобы две женщины, между собой во всем различные, уже со следующей встречи друг дружку называли по именам, так свободно уменьшая их, точно они у них порхали на устах с детства. Тогда-то, в синей тени вагона, был впервые упомянут Фердинанд: я узнал, что она выходит за него замуж. Пора было садиться, она быстро, но набожно всех перецеловала, влезла в тамбур, исчезла, а затем сквозь стекло я видел, как она располагалась в купе, вдруг забыв о нас, перейдя в другой мир, и было так, словно все мы, державшие руки в карманах, подглядывали ничего не подозревавшую жизнь за окном, покуда она не очнулась опять, по стеклу барабаня, затем вскидывая глаза, вешая картину, но ничего не получалось; кто-то помог ей, и она высунулась, страшно довольная; один из нас, уже вынужденный шагать, передал ей журнал и Таухниц (по-английски она читала только в поезде), все ускользало прочь с безупречной гладкостью, и я держал скомканный до неузнаваемости перронный билет, а в голове назойливо звенел, Бог весть почему выплывший из музыкального ящика памяти, другого века романс (связанный, говорили, с какой-то парижской драмой любви), который певала дальняя моя родственница, старая дева, безобразная, с желтым, как церковный воск, лицом, но одержимая таким могучим, упоительно-полным голосом, что он как огненное облако поглощал ее всю, как только она начинала:
On dit que tu te maries,
Tu sais que j'en vais mourir, —
(Говорят что ты женишься,
Ты знаешь, что это меня убьет (франц.))
и этот мотив, мучительная обида и музыкой вызванный союз между венцом и кончиной, н самый голос певицы, сопроводивший воспоминание, как собственник напева, несколько часов подряд не давали мне покоя, да и потом еще возникали с растущими перерывами, как последние, все реже и все рассеяннее приплескивающие, плоские, мелкие волны или как слепые содрогания слабеющего била, после того как звонарь уже сидит снова в кругу своей веселой семьи. А еще через год или два был я по делу в Париже, и у поворота лестницы в гостинице, где я ловил нужного мне актера, мы опять без сговору столкнулись с ней: собираясь вниз, держала ключ в руке, «Фердинанд фехтовать уехал», – сказала она непринужденно, и посмотрев на нижнюю часть моего лица, и про себя что-то быстро обдумав (любовная сообразительность была у нее бесподобна), повернулась и меня повела, виляя на тонких лодыжках, по голубому бобрику, и на стуле у двери ее номера стоял вынесенный поднос с остатками первого завтрака, следами меда на ноже и множеством крошек на сером фарфоре посуды, но комната была уже убрана, и от нашего сквозняка всосался и застрял волан белыми далиями вышитой кисеи промеж оживших половинок дверного окна, выходившего на узенький чугунный балкон, и лишь тогда, когда мы заперлись, они с блаженным выдохом отпустили складку занавески; а немного позже я шагнул на этот балкончик, и пахнуло с утренней пустой и пасмурной улицы сиреневатой сизостью, бензином, осенним кленовым листом: да, все случилось так просто, те несколько восклицаний и смешков, которые были нами произведены, так не соответствовали романтической терминологии, что уже негде было разложить парчовое слово: измена; и так как я еще не умел чувствовать ту болезненную жалость, которая отравляла мои встречи с Ниной, я был, вероятно, совершенно весел (уж она-то наверное была весела), когда мы оттуда поехали в какое-то бюро разыскивать какой-то ею утерянный чемодан, а потом отправились в кафе, где был со своей тогдашней свитой ее муж.
Не называю фамилии, а из приличия даже меняю имя этого венгерца, пишущего по-французски, этого известного еще писателя… мне не хотелось бы распространяться о нем, но он выпирает из-под моего пера. Теперь слава его потускнела, и это меня радует: значит, не я один противился его демонскому обаянию; не я один испытывал офиологический холодок, когда брал в руки очередную его книгу. Молва о таких, как он, носится резво, но вскоре тяжелеет, охлаждаясь до полузабвения, а уж история только и сохранит, что эпитафию да анекдот. Насмешливый, высокомерный, всегда с цианистым каламбуром наготове, со странным выжидательным выражением египетских глаз, этот мнимый весельчак действовал неотразимо на мелких млекопитающих. В совершенстве изучив природу вымысла, он особенно кичился званием сочинителя, которое ставил выше звания писателя: я же никогда не понимал, как это можно книги выдумывать, что проку в выдумке; и, не убоясь его издевательски любезного взгляда, я ему признался однажды, что будь я литератором, лишь сердцу своему позволял бы иметь воображение, да еще, пожалуй, допускал бы память, эту длинную вечернюю тень истины, но рассудка ни за что не возил бы по маскарадам.
О ту пору, когда я встретился с ним, его книги мне были известны; поверхностный восторг, который я себе сперва разрешал, читая его, уже сменялся легким отвращением, В начале его поприща еще можно было сквозь расписные окна его поразительной прозы различить какой-то сад, какое-то сонно-знакомое расположение деревьев… но с каждым годом роспись становилась все гуще, розовость и лиловизна все грознее; и теперь уже ничего не видно через это страшное драгоценное стекло, и кажется, что если разбить его, то одна лишь ударит в душу черная и совершенно пустая ночь. Но как он опасен был в своем расцвете, каким ядом прыскал, каким бичом хлестал, если его задевали! После вихря своего прохождения он вставлял за собой голую гладь, где ровнехонько лежал бурелом, да вился еще прах, да вчерашний рецензент, воя от боли, волчком вертелся во прахе. Гремел тогда по Парижу его «Passage а niveau», он был очень, как говорится, окружен, и Нина (у которой гибкость и хваткость восполняли недостаток образования) уже вошла в роль, я не скажу музы, но близкого товарища мужа-творца; даже более: тихой советницы, чутко скользящей по его сокровенным извилинам, хотя на самом деле вряд ли одолела хоть одну из его книг, изумительно зная их лучшие подробности из разговора избранных друзей. Когда мы вошли в кафе, там играл дамский оркестр; я мимоходом заметил, как в одной из граненых колонн, облицованных зеркалами, отражается страусовая ляжка арфы, а затем тотчас увидел составной стол, за которым, посреди долгой стороны и спиной к плюшу, председательствовал Фердинанд, и на мгновение эта поза его, положение расставленных рук и обращенные к нему лица сотрапезников напомнили мне с кошмарной карикатурностью… что именно напомнили, я сам тогда не понял, а потом, поняв, удивился кощунственности сопоставления, не более кощунственного, впрочем, чем самое искусство его. Он поглядывал на музыку; на нем был под каштановым пиджаком белый вязаный свитер с высоким сборчатым воротом; над зачесанными с висков волосами нимбом стоял папиросный дым, повторенный за ним в зеркале; костистое и, как это принято определять, породистое лицо было неподвижно, только глаза скользили туда и сюда, полные удовлетворения. Изменив заведениям очевидным, где профан склонен был бы искать как раз его, он облюбовал это приличное, скучноватое кафе и стал его завсегдатаем из особого ему крайне свойственного чувства смешного, находя восхитительно забавной именно жалкую приманку этого кафе: оркестр из полудюжины прядущих музыку дам, утомленный и стыдливый, не знающий, по его выражению, куда девать грудь, лишнюю в мире гармонии. После каждого номера на него находила эпилепсия рукоплесканий, уже возбуждавших (так мне казалось) первое сомнение в хозяине кафе и в его бесхитростных посетителях, но весьма веселивших приятелей Фердинанда. Тут были: живописец с идеально голой, но слегка обитой головой, которую он постоянно вписывал в свои картины (Саломея с кегельным шаром); и поэт, умевший посредством пяти спичек представить всю историю грехопадения, и благовоспитанный, с умоляющими глазами, педераст: и очень известный пианист, так с лица ничего, но с ужасным выражением пальцев; и молодцеватый советский писатель с ежом и трубочкой, свято не понимавший, в какое общество он попал; сидели тут и еще всякие господа, теперь спутавшиеся у меня в памяти, и из всех двое, трое, наверное, погуляли с Ниной, Она была единственной женщиной за столом, сутулилась, присосавшись к соломинке, и с какой-то детской быстротой понижался уровень жидкости в бокале, и только когда у нее на дне забулькало и запищало, и она языком отставила соломинку, только тогда я наконец поймал ее взгляд, который упорно ловил, все еще не постигая, что она успела совершенно забыть случившееся утром; настолько крепко забыть, что, встретившись со мной глазами, она ответила мне вопросительной улыбкой, и, только всмотревшись, спохватилась вдруг, что следует улыбнуться иначе. Между тем Фердинанд, благо дамы, отодвинув, как мебель, инструменты, временно ушли с эстрады, потешался над севшим неподалеку чужим стариком, с красной штучкой в петлице и седой бородой, в середке вместе с усами образующей уютное желтоватое гнездо для жадно жующего рта. Фердинанда всегда почему-то смешили регалии старости.