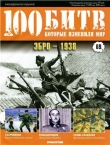Текст книги "Событие"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Владимир Набоков
Событие
Действие первое
Мастерская Трощейкина. Двери слева и справа. На низком мольберте, перед которым стоит кресло (Трощейкин всегда работает сидя), – почти доконченный мальчик в синем, с пятью круглыми пустотами (будущими мячами), расположенными полукольцом у его ног. К стене прислонена недоделанная старуха в кружевах, с белым веером. Окно, оттоманка, коврик, ширма, шкап, три стула, два стола. Навалены в беспорядке папки. Сцена сначала пуста. Затем через нее медленно катится, войдя справа, сине-красный детский мяч. Из той же двери появляется Трощейкин. Он вышаркивает другой, красно-желтый, из-под стола. Трощейкину лет под сорок, бритый, в потрепанной, но яркой фуфайке с рукавами, в которой остается в течение всех трех действий (являющихся, кстати, утром, днем и вечером одних и тех же суток). Ребячлив, нервен, переходчив.
ТРОЩЕЙКИН:
Люба! Люба!
Слева, не спеша, входит Любовь: молода, хороша, с ленцой и дымкой.
Что это за несчастье! Как это случаются такие вещи? Почему мои мячи разбрелись по всему дому? Безобразие. Отказываюсь все утро искать и нагибаться. Ребенок сегодня придет позировать, а тут всего два. Где остальные?
ЛЮБОВЬ:
Не знаю. Один был в коридоре.
ТРОЩЕЙКИН:
Вот, который был в коридоре. Недостает зеленого и двух пестрых. Исчезли.
ЛЮБОВЬ:
Отстань ты от меня, пожалуйста. Подумаешь – велика беда! Ну – будет картина "Мальчик с двумя мячами" вместо "Мальчик с пятью"…
ТРОЩЕЙКИН:
Умное замечание. Я хотел бы понять, кто это, собственно, занимается разгоном моих аксессуаров… Просто безобразие.
ЛЮБОВЬ:
Тебе так же хорошо известно, как мне, что он сам ими играл вчера после сеанса.
ТРОЩЕЙКИН:
Так нужно было их потом собрать и положить на место. (Садится перед мольбертом.)
ЛЮБОВЬ:
Да, но при чем тут я? Скажи это Марфе. Она убирает.
ТРОЩЕЙКИН:
Плохо убирает. Я сейчас ей сделаю некоторое внушение…
ЛЮБОВЬ:
Во-первых, она ушла на рынок; а во-вторых, ты ее боишься.
ТРОЩЕЙКИН:
Что ж, вполне возможно. Но только мне лично всегда казалось, что это с моей стороны просто известная форма деликатности… А мальчик мой недурен, правда? Ай да бархат! Я ему сделал такие сияющие глаза отчасти потому, что он сын ювелира.
ЛЮБОВЬ:
Не понимаю, почему ты не можешь сперва закрасить мячи, а потом кончить фигуру.
ТРОЩЕЙКИН:
Как тебе сказать…
ЛЮБОВЬ:
Можешь не говорить.
ТРОЩЕЙКИН:
Видишь ли, они должны гореть, бросать на него отблеск, но сперва я хочу закрепить отблеск, а потом приняться за его источники. Надо помнить, что искусство движется всегда против солнца. Ноги, видишь, уже совсем перламутровые. Нет, мальчик мне нравится! Волосы хороши: чуть-чуть с черной курчавинкой. Есть какая-то связь между драгоценными камнями и негритянской кровью. Шекспир это почувствовал в своем «Отелло». Ну, так. (Смотрит на другой портрет.) А мадам Вагабундова чрезвычайно довольна, что пишу ее в белом платье на испанском фоне, и не понимает, какой это страшный кружевной гротеск… Все-таки, знаешь, я тебя очень прошу, Люба, раздобыть мои мячи, я не хочу, чтобы они были в бегах.
ЛЮБОВЬ:
Это жестоко, это невыносимо, наконец. Запирай их в шкап, я тебя умоляю. Я тоже не могу, чтобы катилось по комнатам и лезло под мебель. Неужели, Алеша, ты не понимаешь, почему?
ТРОЩЕЙКИН:
Что с тобой? Что за тон… Что за истерика…
ЛЮБОВЬ:
Есть вещи, которые меня терзают.
ТРОЩЕЙКИН:
Какие вещи?
ЛЮБОВЬ:
Хотя бы эти детские мячи. Я не могу. Сегодня мамино рождение, значит, послезавтра ему было бы пять лет. Пять лет. Подумай.
ТРОЩЕЙКИН:
А… Ну, знаешь… Ах, Люба, Люба, я тебе тысячу раз говорил, что нельзя так жить, в сослагательном наклонении. Ну – пять, ну – еще пять, ну – еще… А потом было бы ему пятнадцать, он бы курил, хамил, прыщавел и заглядывал за дамские декольте.
ЛЮБОВЬ:
Хочешь, я тебе скажу, что мне приходит иногда в голову: а что если ты феноменальный пошляк?
ТРОЩЕЙКИН:
А ты груба, как торговка костьём.
Пауза.
(Подходя к ней.) Ну-ну, не обижайся… У меня тоже, может быть, разрывается сердце, но я умею себя сдерживать. Ты здраво посмотри: умер двух лет, то есть сложил крылышки и камнем вниз, в глубину наших душ, – а так бы рос, рос и вырос балбесом.
ЛЮБОВЬ:
Я тебя заклинаю, перестань! Ведь это вульгарно до жути. У меня зубы болят от твоих слов.
ТРОЩЕЙКИН:
Успокойся, матушка. Довольно! Если я что-нибудь не так говорю, прости и пожалей, а не кусайся. Между прочим, я почти не спал эту ночь.
ЛЮБОВЬ:
Ложь.
ТРОЩЕЙКИН:
Я знал, что ты это скажешь!
ЛЮБОВЬ:
Ложь. Не знал.
ТРОЩЕЙКИН:
А все-таки это так. Во-первых, у меня всегда сердцебиение, когда полнолуние. И вот тут опять покалывало, – я не понимаю, что это такое… И всякие мысли… глаза закрыты, а такая карусель красок, что с ума сойти. Люба, улыбнись, голуба.
ЛЮБОВЬ:
Оставь меня.
ТРОЩЕЙКИН: (на авансцене).
Слушай, малютка, я тебе расскажу, что я ночью задумал… По-моему, довольно гениально. Написать такую штуку, – вот представь себе… Этой стены как бы нет, а темный провал… и как бы, значит, публика в туманном театре, ряды, ряды… сидят и смотрят на меня. Причем все это лица людей, которых я знаю или прежде знал и которые теперь смотрят на мою жизнь. Кто с любопытством, кто с досадой, кто с удовольствием. А тот с завистью, а эта с сожалением. Вот так сидят передо мной – такие бледновато-чудные в полутьме. Тут и мои покойные родители, и старые враги, и твой этот тип с револьвером, и друзья детства, конечно, и женщины, женщины – все те, о которых я рассказывал тебе – Нина, Ада, Катюша, другая Нина, Маргарита Гофман, бедная Оленька, – все… Тебе нравится?
ЛЮБОВЬ:
Почем я знаю? Напиши, тогда я увижу.
ТРОЩЕЙКИН:
А может быть – вздор. Так, мелькнуло в полубреду – суррогат бессонницы, клиническая живопись… Пускай будет опять стена.
ЛЮБОВЬ:
Сегодня к чаю придет человек семь. Ты бы посоветовал, что купить.
ТРОЩЕЙКИН: (сел и держит перед собой, упирая его в колено, эскиз углем, который рассматривает, а потом подправляет). Скучная история. Кто да кто?
ЛЮБОВЬ:
Я сейчас тоже буду перечислять: во-первых, его писательское величество, – не знаю, почему мама непременно хотела, чтоб он ее удостоил приходом; никогда у нас не бывал, и говорят, неприятен, заносчив…
ТРОЩЕЙКИН:
Да… Ты знаешь, как я твою мать люблю и как я рад, что она живет у нас, а не в какой-нибудь уютной комнатке с тикающими часами и такой таксой, хотя бы за два квартала отсюда, – но извини меня, малютка, ее последнее произведение во вчерашней газете – катастрофа.
ЛЮБОВЬ:
Я тебя не это спрашиваю, а что купить к чаю?
ТРОЩЕЙКИН:
Мне все равно. Аб-со-лютно. Не хочу даже об этом думать. Купи что хочешь. Купи, скажем, земляничный торт… И побольше апельсинов, этих, знаешь, кислых, но красных: это сразу озаряет весь стол. Шампанское есть, а конфеты принесут гости.
ЛЮБОВЬ:
Интересно, где взять в августе апельсинов? Между прочим, вот все, что у нас есть в смысле денег. В мясной должны… Марфе должны… Не вижу, как дотянем до следующей получки.
ТРОЩЕЙКИН:
Повторяю, мне решительно все равно. Скучно, Люба, тоска! Мы с тобой шестой год киснем в этом сугубо провинциальном городке, где я, кажется, перемалевал всех отцов семейства, всех гулящих женок, всех дантистов, всех гинекологов. Положение становится парадоксальным, если не попросту сальным. Кстати, знаешь, я опять на днях применил мой метод двойного портрета. Чертовски забавно. Под шумок написал Баумгартена сразу в двух видах – почтенным старцем, как он того хотел, а на другом холсте, как хотел того я, – с лиловой мордой, с бронзовым брюхом, в грозовых облаках, но второго, конечно, я ему не показал, а подарил Куприкову. Когда у меня наберется с двадцать таких побочных продуктов, я их выставлю.
ЛЮБОВЬ:
У всех твоих планов есть одна замечательная особенность: они всегда как полуоткрытые двери, и захлопываются от первого ветра.
ТРОЩЕЙКИН:
Ах, скажите, пожалуйста! Ах, как мы все это умеем хорошо подметить да выразить!.. Ну, если бы это было так, то мы бы с тобой, матушка, давно подохли с голода.
ЛЮБОВЬ:
А этой "торговки" я тебе не прощу.
ТРОЩЕЙКИН:
Мы начинаем утро с брани, что невыразимо скучно. Сегодня я нарочно встал раньше, чтобы кое-что доделать, кое-что начать. Приятно… У меня от твоего настроения пропала всякая охота работать. Можешь радоваться.
ЛЮБОВЬ:
Ты лучше подумай, с чего сегодня началось. Нет, Алеша, так дольше невозможно… Тебе все кажется, что время, как говорится, врачует, а я знаю, что это только паллиатив, если не шарлатанство. Я ничего не могу забыть, а ты ничего не хочешь вспомнить. Если я вижу игрушку и при этом поминаю моего маленького, тебе делается скучно, досадно, потому что ты условился сам с собой, что прошло три года и пора забыть. А может быть… Бог тебя знает, может быть, тебе и нечего забывать.
ТРОЩЕЙКИН:
Глупости. Что ты, право… Главное, я ничего такого не сказал, а просто что нельзя жить долгами прошлого. Ничего в этом ни пошлого, ни обидного нет.
ЛЮБОВЬ:
Все равно. Не будем больше говорить.
ТРОЩЕЙКИН:
Пожалста…
Пауза.
(Он фиксирует эскиз из выдувного флакона, потом принимается за другое.) Нет, я тебя совершенно не понимаю. И ты себя не понимаешь. Дело не в этом, а в том, что мы разлагаемся в захолустной обстановке, как три сестры. Ничего, ничего… Все равно, через годик придется из города убираться, хочешь не хочешь. Не знаю, почему мой итальянец не отвечает…
Входит Антонина Павловна Опояшина, мать Любови, с пестрым мячом в руках. Это аккуратная, даже несколько чопорная женщина, с лорнетом, сладковато-рассеянная.
АНТОНИНА ПАВЛОВНА:
Здравствуйте, мои дорогие. Почему-то это попало ко мне. Спасибо, Алеша, за чудные цветочки.
ТРОЩЕЙКИН: (он не поднимает головы от работы во всю эту сцену).
Поздравляю, поздравляю. Сюда: в угол.
ЛЮБОВЬ:
Что-то ты рано встала. По-моему, еще нет девяти.
АНТОНИНА ПАВЛОВНА:
Что ж, рано родилась. Кофеек уже пили?
ЛЮБОВЬ:
Уже. Может быть, по случаю счастливого пятидесятилетия ты тоже выпьешь?
ТРОЩЕЙКИН:
Кстати, Антонина Павловна, вы знаете, кто еще, как вы, ест по утрам три пятых морковки?
АНТОНИНА ПАВЛОВНА:
Кто?
ТРОЩЕЙКИН:
Не знаю, – я вас спрашиваю.
ЛЮБОВЬ:
Алеша сегодня в милом, шутливом настроении. Что, мамочка, что ты хочешь до завтрака делать? Хочешь, пойдем погулять? К озеру? Или зверей посмотрим?
АНТОНИНА ПАВЛОВНА:
Каких зверей?
ЛЮБОВЬ:
На пустыре цирк остановился.
ТРОЩЕЙКИН:
И я бы пошел с вами. Люблю. Принесу домой какой-нибудь круп или старого клоуна в партикулярном платье.
АНТОНИНА ПАВЛОВНА:
Нет, я лучше утром поработаю. Верочка, должно быть, зайдет… Странно, что от Миши ничего не было… Слушайте, дети мои, я вчера вечером настрочила еще одну такую фантазию, – из цикла "Озаренные Озера".
ЛЮБОВЬ:
А, чудно. Смотри, погода какая сегодня жалкая. Не то дождь, не то… туман, что ли. Не верится, что еще лето. Между прочим, ты заметила, что Марфа преспокойно забирает по утрам твой зонтик?
АНТОНИНА ПАВЛОВНА:
Она только что вернулась и очень не в духах. Неприятно с ней разговаривать. Хотите мою сказочку прослушать? Или я тебе мешаю работать, Алеша?
ТРОЩЕЙКИН:
Ну, знаете, меня и землетрясение не отвлечет, если засяду. Но сейчас я просто так. Валяйте.
АНТОНИНА ПАВЛОВНА:
А может, вам, господа, не интересно?
ЛЮБОВЬ:
Да нет, мамочка. Конечно, прочти.
ТРОЩЕЙКИН:
А вот почему вы, Антонина Павловна, пригласили нашего маститого? Все ломаю себе голову над этим вопросом. На что он вам? И потом, нельзя так: один ферзь, а все остальные – пешки.
АНТОНИНА ПАВЛОВНА:
Вовсе не пешки. Мешаев, например.
ТРОЩЕЙКИН:
Мешаев? Ну, знаете…
ЛЮБОВЬ:
Мамочка, не отвечай ему, – зачем?
АНТОНИНА ПАВЛОВНА:
Я только хотела сказать, что Мешаев, например, обещал привести своего брата, оккультиста.
ТРОЩЕЙКИН:
У него брата нет. Это мистификация.
АНТОНИНА ПАВЛОВНА:
Нет, есть. Но только он живет всегда в деревне. Они даже близнецы.
ТРОЩЕЙКИН:
Вот разве что близнецы…
ЛЮБОВЬ:
Ну, где же твоя сказка?
АНТОНИНА ПАВЛОВНА:
Нет, не стоит. Потом как-нибудь.
ЛЮБОВЬ:
Ах, не обижайся, мамочка. Алеша!
ТРОЩЕЙКИН:
Я за него.
Звонок.
АНТОНИНА ПАВЛОВНА:
Да нет… Все равно… Я сперва перестукаю, а то очень неразборчиво.
ЛЮБОВЬ:
Перестукай и приди почитать. Пожалуйста!
ТРОЩЕЙКИН:
Присоединяюсь.
АНТОНИНА ПАВЛОВНА:
Правда? Ну ладно. Тогда я сейчас.
Уходя, сразу за дверью, она сталкивается с Ревшиным. который сперва слышен, потом виден: извилист, черная бородка, усатые брови, щеголь. Сослуживцы его прозвали: волосатый глист.
РЕВШИН: (за дверью).
Что, Алексей Максимович вставши? Жив, здоров? Все хорошо? Я, собственно, к нему на минуточку. (Трощейкину.) Можно?
ТРОЩЕЙКИН:
Входите, сэр, входите.
РЕВШИН:
Здравствуйте, голубушка. Здравствуйте, Алексей Максимович. Все у вас в порядке?
ТРОЩЕЙКИН:
Как он заботлив, а? Да, кроме финансов, все превосходно.
РЕВШИН:
Извините, что внедряюсь к вам в такую рань. Проходил мимо, решил заглянуть.
ЛЮБОВЬ:
Хотите кофе?
РЕВШИН:
Нет, благодарствуйте. Я только на минуточку. Эх, кажется, я вашу матушку забыл поздравить. Неловко как…
ТРОЩЕЙКИН:
Что это вы нынче такой – развязно-нервный?
РЕВШИН:
Да нет, что вы. Вот, значит, как. Вы вчера вечером сидели дома?
ЛЮБОВЬ:
Дома. А что?
РЕВШИН:
Просто так. Вот, значит, какие дела-делишки… Рисуете?
ТРОЩЕЙКИН:
Нет. На арфе играю. Да садитесь куда-нибудь.
Пауза.
РЕВШИН:
Дождик накрапывает.
ТРОЩЕЙКИН:
А, интересно. Еще какие новости?
РЕВШИН:
Никаких, никаких. Так просто. Сегодня я шел, знаете, и думал: сколько лет мы с вами знакомы, Алексей Максимович? Семь, что ли?
ЛЮБОВЬ:
Я очень хотела бы понять, что случилось.
РЕВШИН:
Ах, пустяки. Так, деловые неприятности.
ТРОЩЕЙКИН:
Ты права, малютка. Он как-то сегодня подергивается. Может быть, у вас блохи? Выкупаться нужно?
РЕВШИН:
Все изволите шутить, Алексей Максимович. Нет. Просто вспомнил, как был у вас шафером и все такое. Бывают такие дни, когда вспоминаешь.
ЛЮБОВЬ:
Что это: угрызения совести?
РЕВШИН:
Бывают такие дни… Время летит… Оглянешься…
ТРОЩЕЙКИН:
О, как становится скучно… Вы бы, сэр, лучше зашли в библиотеку и кое-что подчитали: сегодня днем будет наш маститый. Пари держу, что он явится в смокинге, как было у Вишневских.
РЕВШИН:
У Вишневских? Да, конечно… А знаете, Любовь Ивановна, чашечку кофе я, пожалуй, все-таки выпью.
ЛЮБОВЬ:
Слава тебе боже! Решили наконец. (Уходит.)
РЕВШИН:
Слушайте, Алексей Максимович, – потрясающее событие! Потрясающе-неприятное событие!
ТРОЩЕЙКИН:
Серьезно?
РЕВШИН:
Не знаю, как вам даже сказать. Вы только не волнуйтесь, – и, главное, нужно от Любови Ивановны до поры до времени скрыть.
ТРОЩЕЙКИН:
Какая-нибудь… сплетня, мерзость?
РЕВШИН:
Хуже.
ТРОЩЕЙКИН:
А именно?
РЕВШИН:
Неожиданная и ужасная вещь, Алексей Максимович!
ТРОЩЕЙКИН:
Ну так скажите, черт вас дери!
РЕВШИН:
Барбашин вернулся.
ТРОЩЕЙКИН:
Что?
РЕВШИН:
Вчера вечером. Ему скостили полтора года.
ТРОЩЕЙКИН:
Не может быть!
РЕВШИН:
Вы не волнуйтесь. Нужно об этом потолковать, выработать какой-нибудь модус вивенди[1]1
Модус вивеиди.(латин.): образ жизни, способ существования.
[Закрыть].
ТРОЩЕЙКИН:
Какое там вивенди… хорошо вивенди. Ведь… Что же теперь будет? Боже мой… Да вы вообще шутите?
РЕВШИН:
Возьмите себя в руки. Лучше бы нам с вами куда-нибудь… (Ибо возвращается Любовь.)
ЛЮБОВЬ:
Сейчас вам принесут. Между прочим, Алеша, она говорит, что фрукты… Алеша, что случилось?
ТРОЩЕЙКИН:
Неизбежное.
РЕВШИН:
Алексей Максимович, Алеша, друг мой, мы сейчас с вами выйдем. Приятная утренняя свежесть, голова пройдет, вы меня проводите…
ЛЮБОВЬ:
Я немедленно хочу знать. Кто-нибудь умер?
ТРОЩЕЙКИН:
Ведь это же, господа, чудовищно смешно. У меня, идиота, только что было еще полтора года в запасе. Мы бы к тому времени давно были бы в другом городе, в другой стране, на другой планете. Я не понимаю: что это – западня? Почему никто нас загодя не предупредил? Что за гадостные порядки? Что это за ласковые судьи? Ах, сволочи! Нет, вы подумайте! Освободили досрочно… Нет, это… это… Я буду жаловаться! Я…
РЕВШИН:
Успокойтесь, голубчик.
ЛЮБОВЬ: (Ревшину).
Это правда?
РЕВШИН:
Что – правда?
ЛЮБОВЬ:
Нет – только не поднимайте бровей. Вы отлично понимаете, о чем я спрашиваю.
ТРОЩЕЙКИН:
Интересно знать, кому выгодно это попустительство. (Ревшину.) Что вы молчите? Вы с ним о чем-нибудь?..
РЕВШИН:
Да.
ЛЮБОВЬ:
А он как – очень изменился?
ТРОЩЕЙКИН:
Люба, оставь свои идиотские вопросы. Неужели ты не соображаешь, что теперь будет? Нужно бежать, а бежать не на что и некуда. Какая неожиданность!
ЛЮБОВЬ:
Расскажите же.
ТРОЩЕЙКИН:
Действительно, что это вы как истукан… Жилы тянете… Ну!
РЕВШИН:
Одним словом… Вчера около полуночи, так, вероятно, в три четверти одиннадцатого… фу, вру… двенадцатого, я шел к себе из кинематографа на вашей площади и, значит, вот тут, в нескольких шагах от вашего дома, по той стороне, – знаете, где киоск, – при свете фонаря, вижу – и не верю глазам – стоит с папироской Барбашин.
ТРОЩЕЙКИН:
У нас на углу! Очаровательно. Ведь мы, Люба, вчера чуть-чуть не пошли тоже: ах, чудная фильма, ах, "Камера обскура" – лучшая фильма сезона!.. Вот бы и ахнуло нас по случаю сезона. Дальше!
РЕВШИН:
Значит, так. Мы в свое время мало встречались, он мог забыть меня… но нет: пронзил взглядом, – знаете, как он умеет, свысока, насмешливо… и я невольно остановился. Поздоровались. Мне было, конечно, любопытно. Что это, говорю, вы так преждевременно вернулись в наши края?
ЛЮБОВЬ:
Неужели вы прямо так его и спросили?
РЕВШИН:
Смысл, смысл был таков. Я намямлил, сбил несколько приветственных фраз, а сделать вытяжку из них предоставил ему, конечно. Ничего, произвел. Да, говорит, за отличное поведение и по случаю официальных торжеств меня просили очистить казенную квартиру на полтора года раньше. И смотрит на меня: нагло.
ТРОЩЕЙКИН:
Хорош гусь! А? Что такое, господа? Где мы? На Корсике? Поощрение вендетты?
ЛЮБОВЬ: (Ревшину).
И тут, по-видимому, вы несколько струсили?
РЕВШИН:
Ничуть. Что ж, говорю, собираетесь теперь делать? "Жить, говорит, жить в свое удовольствие", – и со смехом на меня смотрит. А почему, спрашиваю, ты, сударь, шатаешься тут в потемках?.. То есть я это не вслух, но очень выразительно подумал – он, надеюсь, понял. Ну и – расстались на этом.
ТРОЩЕЙКИН:
Вы тоже хороши. Почему не зашли сразу? Я же мог – мало ли что – выйти письмо опустить, что тогда было бы? Потрудились бы позвонить, по крайней мере.
РЕВШИН:
Да, знаете, как-то поздно было… Пускай, думаю, выспятся.
ТРОЩЕЙКИН:
Мне-то не особенно спалось. И теперь я понимаю, почему!
РЕВШИН:
Я еще обратил внимание на то, что от него здорово пахнет духами. В сочетании с его саркастической мрачностью это меня поразило, как нечто едва ли не сатанинское.
ТРОЩЕЙКИН:
Дело ясно. О чем тут разговаривать… Дело совершенно ясно. Я всю полицию на ноги поставлю! Я этого благодушия не допущу! Отказываюсь понимать, как после его угрозы, о которой знали и знают все, как после этого ему могли позволить вернуться в наш город!
ЛЮБОВЬ:
Он крикнул так в минуту возбуждения.
ТРОЩЕЙКИН:
А, вызбюздение… вызбюздение… это мне нравится. Ну, матушка, извини: когда человек стреляет, а потом видит, что ему убить наповал не удалось, и кричит, что добьет после отбытия наказания, – это… это не возбуждение, факт, кровавый, мясистый факт… вот что это такое! Нет, какой же я был осел. Сказано было – семь лет, я и положился на это. Спокойно думал: вот еще четыре года, вот еще три, вот еще полтора, а когда останется полгода – лопнем, но уедем… С приятелем на Капри начал уже списываться… Боже мой! Бить меня надо.
РЕВШИН:
Будем хладнокровны, Алексей Максимович. Нужно сохранить ясность мысли и не бояться… хотя, конечно, осторожность – и вящая осторожность – необходима. Скажу откровенно: по моим наблюдениям, он находится в состоянии величайшей озлобленности и напряжения, а вовсе не укрощен каторгой. Повторяю: я, может быть, ошибаюсь.
ЛЮБОВЬ:
Только каторга ни при чем. Человек просто сидел в тюрьме.
ТРОЩЕЙКИН:
Все это ужасно!
РЕВШИН:
И вот мой план: к десяти отправиться с вами, Алексей Максимович, в контору к Вишневскому: раз он тогда вел ваше дело, то и следует к нему прежде всего обратиться. Всякому понятно, что вам нельзя так жить – под угрозой… Простите, что тревожу тяжелые воспоминания, но ведь это произошло в этой именно комнате?
ТРОЩЕЙКИН:
Именно, именно. Конечно, это совершенно забылось, и вот мадам обижалась, когда я иногда в шутку вспоминал… казалось каким-то театром, какой-то где-то виденной мелодрамой… Я даже иногда… да, это вам я показывал пятно кармина на полу и острил, что вот остался до сих пор след крови… Умная шутка.
РЕВШИН:
В этой, значит, комнате… Тцы-тцы-тцы.
ЛЮБОВЬ:
В этой комнате, да.
ТРОЩЕЙКИН:
Да, в этой комнате. Мы тогда только что въехали: молодожены, у меня усы, у нее цветы – все честь честью: трогательное зрелище. Вот того шкала не было, а вот этот стоял у той стены, а так все, как сейчас, даже этот коврик…
РЕВШИН:
Поразительно!
ТРОЩЕЙКИН:
Не поразительно, а преступно. Вчера, сегодня все было так спокойно… А теперь – нате вам! Что я могу? У меня нет денег ни на самооборону, ни на бегство. Как можно было его освобождать после всего… Вот смотрите, как это было. Я… здесь сидел. Впрочем, нет, стол тоже стоял иначе. Так, что ли. Видите, воспоминание не сразу приспособляется ко второму представлению. Вчера казалось, что это было так давно…
ЛЮБОВЬ:
Это было восьмого октября, и шел дождь, – потому что, я помню, санитары были в мокрых плащах, и лицо у меня было мокрое, пока несли. Эта подробность может тебе пригодиться при репродукции.
РЕВШИН:
Поразительная вещь – память.
ТРОЩЕЙКИН:
Вот теперь мебель стоит правильно. Да, восьмого октября. Приехал ее брат, Михаил Иванович, и остался у нас ночевать. Ну вот. Был вечер. На улице уже тьма. Я сидел тут, у столика, и чистил яблоко. Вот так. Она сидела вон там, где сейчас стоит. Вдруг звонок. У нас была новая горничная, дубина, еще хуже Марфы. Поднимаю голову и вижу: в дверях стоит Барбашин. Вот станьте у двери. Совсем назад. Так. Мы с Любой машинально встали, и он немедленно открыл огонь.
РЕВШИН:
Ишь… Отсюда до вас и десяти шагов не будет.
ТРОЩЕЙКИН:
И десяти шагов не будет. Первым же выстрелом он попал ей в бедро, она села на пол, а вторым – жик – мне в левую руку, сюда, еще сантиметр – и была бы раздроблена кость. Продолжает стрелять, а я с яблоком, как молодой Телль. В это время… В это время входит и сзади наваливается на него шурин: вы его помните – здоровенный, настоящий медведь. Загреб, скрутил ему за спину руки и держит. А я, несмотря на ранение, несмотря на страшную боль, я спокойно подошел к господину Барбашину и как трахну его по физиономии… Вот тогда-то он и крикнул – дословно помню: погодите, вернусь и добью вас обоих!
РЕВШИН:
А я помню, как покойная Маргарита Семеновна Гофман мне тогда сообщила. Ошарашила! Главное, каким-то образом пошел слух, что Любовь Ивановна при смерти.
ЛЮБОВЬ:
На самом деле, конечно, это был сущий пустяк. Я пролежала недели две, не больше. Теперь даже шрам не заметен.
ТРОЩЕЙКИН:
Ну, положим. И заметен. И не две недели, а больше месяца. Но-но-но! Я прекрасно помню. А я с рукой тоже немало провозился. Как все это… Как все это… Вот тоже – часы вчера разбил, черт! Что, не пора ли?
РЕВШИН:
Раньше десяти нет смысла: он приходит в контору около четверти одиннадцатого. Или можно прямо к нему на дом – это два шага. Как вы предпочитаете?
ТРОЩЕЙКИН:
А я сейчас к нему на дом позвоню, вот что.
Уходит.
ЛЮБОВЬ:
Скажи, Барбашин очень изменился?
РЕВШИН:
Брось, Любка. Морда как морда.
Небольшая пауза.
История! Знаешь, на душе у меня очень, очень тревожно. Свербит как-то.
ЛЮБОВЬ:
Ничего – пускай посвербит, прекрасный массаж для души. Ты только не слишком вмешивайся.
РЕВШИН:
Если я вмешиваюсь, то исключительно из-за тебя. Меня удивляет твое спокойствие! А я-то хотел подготовить тебя, боялся, что ты истерику закатишь.
ЛЮБОВЬ:
Виновата. Другой раз специально для вас закачу.
РЕВШИН:
А как ты считаешь… Может быть, мне с ним поговорить по душам?
ЛЮБОВЬ:
С кем это ты хочешь по душам?
РЕВШИН:
Да с Барбашиным. Может быть, если ему рассказать, что твое супружеское счастье не ахти какое…
ЛЮБОВЬ:
Ты попробуй только – по душам! Он тебе по ушам за это "по душам".
РЕВШИН:
Не сердись. Понимаешь, голая логика. Если он тогда покушался на вас из-за твоего счастья с мужем, то теперь у него пропала бы охота.
ЛЮБОВЬ:
Особенно ввиду того, что у меня романчик, – так, что ли? Скажи, скажи ему это, попробуй.
РЕВШИН:
Ну знаешь, я все-таки джентльмен… Но если бы он и узнал, ему было бы, поверь, наплевать. Это вообще в другом плане.
ЛЮБОВЬ:
Попробуй, попробуй.
РЕВШИН:
Не сердись. Я только хотел лучше сделать. Ах, я расстроен!
ЛЮБОВЬ:
Мне все совершенно, совершенно безразлично. Если бы вы все знали, до чего мне безразлично… А живет он где, все там же?
РЕВШИН:
Да, по-видимому. Ты меня сегодня не любишь.
ЛЮБОВЬ:
Милый мой, я тебя никогда не любила. Никогда. Понял?
РЕВШИН:
Любзик, не говори так. Грех!
ЛЮБОВЬ:
А ты вообще поговори погромче. Тогда будет совсем весело.
РЕВШИН:
Как будто дорогой Алеша не знает! Давно знает. И наплевать ему.
ЛЮБОВЬ:
Что-то у тебя все много плюются. Нет, я сегодня решительно не способна на такие разговоры. Очень благодарю тебя, что ты так мило прибежал, с высунутым языком, рассказать, поделиться и все такое – но, пожалуйста, теперь уходи.
РЕВШИН:
Да, я сейчас с ним уйду. Хочешь, я подожду его в столовой? Вероятно, он по телефону всю историю рассказывает сызнова.
Пауза.
Любзик, слезно прошу тебя, сиди дома сегодня. Если нужно что-нибудь, поручи мне. И Марфу надо предупредить, а то еще впустит.
ЛЮБОВЬ:
А что ты полагаешь: он в гости придет? Мамочку мою поздравлять? Или что?
РЕВШИН:
Да нет, так, на всякий пожарный случай. Пока не выяснится.
ЛЮБОВЬ:
Ты только ничего не выясняй.
РЕВШИН:
Вот тебе раз. Ты меня ставишь в невозможное положение.
ЛЮБОВЬ:
Ничего, удовлетворись невозможным. Оно еще недолго продлится.
РЕВШИН:
Я бедный, я волосатый, я скучный. Скажи прямо, что я тебе приелся.
ЛЮБОВЬ:
И скажу.
РЕВШИН:
А ты самое прелестное, странное, изящное существо на свете. Тебя задумал Чехов, выполнил Ростан и сыграла Дузе. Нет-нет-нет, дарованного счастья не берут назад. Слушай, хочешь, я Барбашина вызову на дуэль?
ЛЮБОВЬ:
Перестань паясничать. Как это противно. Лучше поставь этот стол на место, – все время натыкаюсь. Прибежал, запыхтел, взволновал несчастного Алешу… Зачем это нужно было? Добьет, убьет, перебьет… Что за чушь, в самом деле!
РЕВШИН:
Будем надеяться, что чушь.
ЛЮБОВЬ:
А может быть, убьет, – бог его знает…
РЕВШИН:
Видишь: ты сама допускаешь.
ЛЮБОВЬ:
Ну, милый мой, мало ли что я допускаю. Я допускаю вещи, которые вам не снятся.
Трощейкин возвращается.
ТРОЩЕЙКИН:
Все хорошо. Сговорился. Поехали: он нас ждет у себя дома.
РЕВШИН:
А вы долгонько беседовали.
ТРОЩЕЙКИН:
О, я звонил еще в одно место. Кажется, удастся добыть немного денег. Люба, твоя сестра пришла: нужно ее и Антонину Павловну предупредить. Если достану, завтра же тронемся.
РЕВШИН:
Ну, я вижу, вы развили энергию… Может быть, зря, и Барбашин не так уж страшен; видите, даже в рифму.
ТРОЩЕЙКИН:
Нет-нет, махнем куда-нибудь, а там будем соображать. Словом, все налаживается. Слушайте, я вызвал такси, пешком что-то не хочется. Поехали, поехали.
РЕВШИН:
Только я платить не буду.
ТРОЩЕЙКИН:
Очень даже будете. Что вы ищете? Да вот она. Поехали. Ты, Люба, не волнуйся, я через десять минут буду дома.
ЛЮБОВЬ:
Я спокойна. Вернешься жив.
РЕВШИН:
А вы сидите в светлице и будьте паинькой. Я еще днем забегу. Дайте лапочку.
Оба уходят направо, а слева неторопливо появляется Вера. Она тоже молода и миловидна, но мягче и ручнее сестры.
ВЕРА:
Здравствуй. Что это происходит в доме?
ЛЮБОВЬ:
А что?
ВЕРА:
Не знаю. У Алеши какой-то бешеный вид. Они ушли?
ЛЮБОВЬ:
Ушли.
ВЕРА:
Мама на машинке стучит, как зайчик на барабане.
Пауза.
Опять дождь, гадость. Смотри, новые перчатки. Дешевенькие-дешевенькие.
ЛЮБОВЬ:
У меня есть тоже обновка.
ВЕРА:
А, это интересно.
ЛЮБОВЬ:
Леонид вернулся.
ВЕРА:
Здорово!
ЛЮБОВЬ:
Его видели на нашем углу.
ВЕРА:
Недаром мне вчера снился.
ЛЮБОВЬ:
Оказывается, его из тюрьмы выпустили раньше срока.
ВЕРА:
Странно все-таки: мне снилось, что кто-то его запер в платяной шкап, а когда стали отпирать и трясти, то он же прибежал с отмычкой, страшно озабоченный, и помогал, а когда наконец отперли, там просто висел фрак. Странно, правда?
ЛЮБОВЬ:
Да. Алеша в панике.
ВЕРА:
Ах, Любушка, вот так новость! А занятно было бы на него посмотреть. Помнишь, как он меня всегда дразнил, как я бесилась. А в общем, дико завидовала тебе. Любушка, не надо плакать! Все это обойдется. Я уверена, что он вас не убьет. Тюрьма не термос, в котором можно держать одну и ту же мысль без конца в горячем виде. Не плачь, моя миленькая.
ЛЮБОВЬ:
Есть граница, до которой. Мои нервы выдерживают. Но она. Позади.
ВЕРА:
Перестань, перестань. Ведь есть закон, есть полиция, есть, наконец, здравый смысл. Увидишь: побродит немножко, вздохнет и исчезнет.
ЛЮБОВЬ:
Ах, да не в этом дело. Пускай он меня убьет, я была бы только рада. Дай мне какой-нибудь платочек. Ах, господи… Знаешь, я сегодня вспомнила моего маленького, – как бы он играл этими мячами, – а Алеша был так отвратителен, так страшен!
ВЕРА:
Да, я знаю. Я бы на твоем месте давно развелась.
ЛЮБОВЬ:
Пудра у тебя есть? Спасибо.
ВЕРА:
Развелась бы, вышла за Ревшина и, вероятно, моментально развелась бы снова.
ЛЮБОВЬ:
Когда он прибежал сегодня с фальшивым видом преданной собаки и рассказал, у меня перед глазами прямо вспыхнуло все, вся моя жизнь, и, как бумажка, сгорело. Шесть никому не нужных лет. Единственное счастье – был ребенок, да и тот помер.
ВЕРА:
Положим, ты здорово была влюблена в Алешу первое время.
ЛЮБОВЬ:
Какое! Сама для себя разыграла. Вот и все. Был только один человек, которого я любила.
ВЕРА:
А мне любопытно: он объявится или нет. Ведь на улице ты его, наверное, как-нибудь встретишь.
ЛЮБОВЬ:
Есть одна вещь… Вот, как его Алеша ударил по щеке, когда Миша его держал. Воспользовался. Это меня всегда преследовало, всегда жгло, а теперь жжет особенно. Может быть, потому, что я чувствую, что Леня никогда мне не простит, что я это видела.
ВЕРА:
Какое это было вообще дикое время… Господи! Что с тобой делалось, когда ты решила порвать, помнишь? Нет, ты помнишь?
ЛЮБОВЬ:
Глупо я поступила, а? Такая идиотка.
ВЕРА:
Мы сидели с тобой в темном саду, и падали звезды, и мы обе были в белых платьях, как привидения, и табак на клумбе был, как привидение, и ты говорила, что не можешь больше, что Леня тебя выжимает: вот так.
ЛЮБОВЬ:
Еще бы. У него был ужасающий характер. Сам признавался, что не характер, а харакири. Бесконечно, бессмысленно донимал ревностью, настроениями, всякими своими заскоками. А все-таки это было самое-самое лучшее мое время.