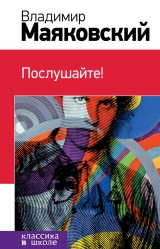
Текст книги "Послушайте! (сборник)"
Автор книги: Владимир Маяковский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чаи́ гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Черт дернул дерзости мои
орать ему, —
сконфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь – не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась, —
и степенность
забыв,
сижу, разговорясь
с светилом постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
– Поди, попробуй! —
А вот идешь —
взялось идти,
идешь – и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоясь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты – свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг – я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!
1920
Люблю
Обыкновенно так
Любовь любому рожденному дадена, —
но между служб,
доходов
и прочего
со дня на день
очерствевает сердечная почва.
На сердце тело надето,
на тело – рубаха.
Но и этого мало!
Один —
идиот! —
манжеты наделал
и груди стал заливать крахмалом.
Под старость спохватятся.
Женщина мажется.
Мужчина по Мюллеру мельницей машется.
Но поздно.
Морщинами множится кожица.
Любовь поцветет,
поцветет —
и скукожится.
Мальчишкой
Я в меру любовью был одаренный.
Но с детства
людьё
трудами муштровано.
А я —
убег на берег Риона
и шлялся,
ни чёрта не делая ровно.
Сердилась мама:
«Мальчишка паршивый!»
Грозился папаша поясом выстегать.
А я,
разживясь трехрублевкой фальшивой,
играл с солдатьём под забором в «три листика».
Без груза рубах,
без башмачного груза
жарился в кутаисском зное.
Вворачивал солнцу то спину,
то пузо —
пока под ложечкой не заноет.
Дивилось солнце:
«Чуть виден весь-то!
А тоже —
с сердечком.
Старается малым!
Откуда
в этом
в аршине
место —
и мне,
и реке,
и стовёрстым скалам?!»
Юношей
Юношеству занятий масса.
Грамматикам учим дурней и дур мы.
Меня ж
из 5-го вышибли класса.
Пошли швырять в московские тюрьмы.
В вашем
квартирном
маленьком мирике
для спален растут кучерявые лирики.
Что выищешь в этих болоночьих лириках?!
Меня вот
любить
учили
в Бутырках.
Что мне тоска о Булонском лесе?!
Что мне вздох от видов на море?!
Я вот
в «Бюро похоронных процессий»
влюбился
в глазок 103 камеры.
Глядят ежедневное солнце,
зазна́ются.
«Чего – мол – стоют лучёнышки эти?»
Ая
за стенного
за желтого зайца
отдал тогда бы – все на свете.
Мой университет
Французский знаете.
Делите.
Множите.
Склоняете чудно.
Ну и склоняйте!
Скажите —
а с домом спеться
можете?
Язык трамвайский вы понимаете?
Птенец человечий,
чуть только вывелся —
за книжки рукой,
за тетрадные дести.
А я обучался азбуке с вывесок,
листая страницы железа и жести.
Землю возьмут,
обкорнав,
ободрав ее —
учат.
И вся она – с крохотный глобус.
Ая
боками учил географию —
недаром же
наземь
ночёвкой хлопаюсь!
Мутят Иловайских больные вопросы:
– Была ль рыжа борода Барбароссы? —
Пускай!
Не копаюсь в пропыленном вздоре я —
любая в Москве мне известна история!
Берут Добролюбова (чтоб зло ненавидеть), —
фамилья ж против,
скулит родовая.
Я
жирных
с детства привык ненавидеть,
всегда себя
за обед продавая.
Научатся,
сядут —
чтоб нравиться даме,
мыслишки звякают лбёнками медненькими.
А я
говорил
с одними домами.
Одни водокачки мне собеседниками.
Окном слуховым внимательно слушая,
ловили крыши – что брошу в уши я.
А после
о ночи
и друг о друге
трещали,
язык ворочая – флюгер.
Взрослое
У взрослых дела.
В рублях карманы.
Любить?
Пожалуйста!
Рубликов за́ сто.
А я,
бездомный,
ручища
в рваный
в карман засунул
и шлялся, глазастый.
Ночь.
Надеваете лучшее платье.
Душой отдыхаете на женах, на вдовах.
Меня
Москва душила в объятьях
кольцом своих бесконечных Садовых.
В сердца,
в часишки
любовницы тикают.
В восторге партнеры любовного ложа.
Столиц сердцебиение дикое
ловил я,
Страстно́ю площадью лёжа.
Враспашку —
сердце почти что снаружи —
себя открываю и солнцу и луже.
Входите страстями!
Любовями влазьте!
Отныне я сердцем править не властен.
У прочих знаю сердца дом я.
Оно в груди – любому известно!
На мне ж
с ума сошла анатомия.
Сплошное сердце —
гудит повсеместно.
О, сколько их,
одних только вёсен,
за 20 лет в распалённого ввалено!
Их груз нерастраченный – просто несносен.
Несносен не так,
для стиха,
а буквально.
Что вышло
Больше чем можно,
больше чем надо —
будто
поэтовым бредом во сне навис —
комок сердечный разросся громадой:
громада любовь,
громада ненависть.
Под ношей
ноги
шагали шатко —
ты знаешь,
я же
ладно слажен —
и всё же
тащусь сердечным придатком,
плеч подгибая косую сажень.
Взбухаю стихов молоком
– и не вылиться —
некуда, кажется – полнится заново.
Я вытомлен лирикой —
мира кормилица,
гипербола
праобраза Мопассанова.
Зову
Поднял силачом,
понес акробатом.
Как избирателей сзывают на митинг,
как сёла
в пожар
созывают набатом —
я звал:
«А вот оно!
Вот!
Возьмите!»
Когда
такая махина ахала —
не глядя,
пылью,
грязью,
сугробом
дамьё
от меня
ракетой шарахалось:
«Нам чтобы поменьше,
нам вроде танго́ бы…»
Нести не могу —
и несу мою ношу.
Хочу ее бросить —
и знаю,
не брошу!
Распора не сдержат рёбровы дуги.
Грудная клетка трещала с натуги.
Ты
Пришла —
деловито,
за рыком,
за ростом,
взглянув,
разглядела просто мальчика.
Взяла,
отобрала сердце
и просто
пошла играть —
как девочка мячиком.
И каждая —
чудо будто видится —
где дама вкопалась,
а где девица.
«Такого любить?
Да этакий ринется!
Должно, укротительница.
Должно, из зверинца!»
А я ликую.
Нет его —
ига!
От радости себя не помня,
скакал,
индейцем свадебным прыгал,
так было весело,
было легко мне.
Невозможно
Один не смогу —
не снесу рояля
(тем более —
несгораемый шкаф).
А если не шкаф,
не рояль,
то я ли
сердце снес бы, обратно взяв.
Банкиры знают:
«Богаты без края мы.
Карманов не хватит —
кладем в несгораемый».
Любовь
в тебя —
богатством в железо —
запрятал,
хожу
и радуюсь Крезом.
И разве,
если захочется очень,
улыбку возьму,
пол-улыбки
и мельче,
с другими кутя,
протрачу в полночи
рублей пятнадцать лирической мелочи.
Так и со мной
Флоты – и то стекаются в гавани.
Поезд – и то к вокзалу гонит.
Ну, а меня к тебе и подавней
– я же люблю! —
тянет и клонит.
Скупой спускается пушкинский рыцарь
подвалом своим любоваться и рыться.
Так я
к тебе возвращаюсь, любимая.
Мое это сердце,
любуюсь моим я.
Домой возвращаетесь радостно.
Грязь вы
с себя соскребаете, бреясь и моясь.
Так я
к тебе возвращаюсь, —
разве,
к тебе идя,
не иду домой я?!
Земных принимает земное лоно.
К конечной мы возвращаемся цели.
Так я
к тебе
тянусь неуклонно,
еле расстались,
развиделись еле.
Вывод
Не смоют любовь
ни ссоры,
ни вёрсты.
Продумана,
выверена,
проверена.
Подъемля торжественно стих строкопёрстый,
клянусь —
люблю
неизменно и верно!
1922
Прозаседавшиеся
Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.
Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени она». —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать
объединение Тео и Гукона».
Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели придти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».
Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
го́ло!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.
Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».
Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорогой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря́.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».
С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»
1922
Юбилейное
Александр Сергеевич,
разрешите представиться.
Маяковский.
Дайте руку!
Вот грудная клетка.
Слушайте,
уже не стук, а стон;
тревожусь я о нем,
в щенка смирённом львенке.
Я никогда не знал,
что столько
тысяч тонн
в моей
позорно легкомыслой головенке.
Я тащу вас.
Удивляетесь, конечно?
Стиснул?
Больно?
Извините, дорогой.
У меня,
да и у вас,
в запасе вечность.
Что нам
потерять
часок-другой?!
Будто бы вода —
давайте
мчать болтая,
будто бы весна —
свободно
и раскованно!
В небе вон
луна
такая молодая,
что ее
без спутников
и выпускать рискованно.
Я
теперь
свободен
от любви
и от плакатов.
Шкурой
ревности медведь
лежит когтист.
Можно
убедиться,
что земля поката, —
сядь
на собственные ягодицы
и катись!
Нет,
не навяжусь в меланхолишке черной,
да и разговаривать не хочется
ни с кем.
Только
жабры рифм
топырит учащённо
у таких, как мы,
на поэтическом песке.
Вред – мечта,
и бесполезно грезить,
надо
весть
служебную нуду.
Но бывает —
жизнь
встает в другом разрезе,
и большое
понимаешь
через ерунду.
Нами
лирика
в штыки
неоднократно атакована,
ищем речи
точной
и нагой.
Но поэзия —
пресволочнейшая штуковина:
существует —
и ни в зуб ногой.
Например,
вот это —
говорится или блеется?
Синемордое,
в оранжевых усах,
Навуходоносором
библейцем —
«Коопсах».
Дайте нам стаканы!
знаю
способ старый
в горе
дуть винище,
но смотрите —
из
выплывают
Red и White Star’ы [5]
с ворохом
разнообразных виз.
Мне приятно с вами, —
рад,
что вы у столика.
Муза это
ловко
за язык вас тянет.
Как это
у вас
говаривала Ольга?..
Да не Ольга!
из письма
Онегина к Татьяне.
– Дескать,
муж у вас
дурак
и старый мерин,
я люблю вас,
будьте обязательно моя,
я сейчас же
утром должен быть уверен,
что с вами днем увижусь я. —
Было всякое:
и под окном стояние,
пи́сьма,
тряски нервное желе.
Вот
когда
и горевать не в состоянии —
это,
Александр Сергеич,
много тяжелей.
Айда, Маяковский!
Маячь на юг!
Сердце
рифмами вымучь —
вот
и любви пришел каюк,
дорогой Владим Владимыч.
Нет,
не старость этому имя!
Ту́шу
вперед стремя́,
я
с удовольствием
справлюсь с двоими,
а разозлить —
и с тремя.
Говорят —
я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!
Entre nous [6] …
чтоб цензор не нацыкал.
Передам вам —
говорят —
видали
даже двух
влюбленных членов ВЦИКа.
Вот —
пустили сплетню,
тешат душу ею.
Александр Сергеич,
да не слушайте ж вы их!
Может,
я
один
действительно жалею,
что сегодня
нету вас в живых.
Мне
при жизни
с вами
сговориться б надо.
Скоро вот
и я
умру
и буду нем.
После смерти
нам
стоять почти что рядом:
вы на Пе,
а я
на эМ.
Кто меж нами?
с кем велите знаться?!
Чересчур
страна моя
поэтами нища́.
Между нами
– вот беда —
позатесался На́дсон.
Мы попросим,
чтоб его
куда-нибудь
на Ща!
А Некрасов
Коля,
сын покойного Алеши, —
он и в карты,
он и в стих,
и так
неплох на вид.
Знаете его?
вот он
мужик хороший.
Этот
нам компания —
пускай стоит.
Что ж о современниках?!
Не просчитались бы,
за вас
полсотни о́тдав.
От зевоты
скулы
разворачивает аж!
Дорогойченко,
Герасимов,
Кириллов,
Родов —
какой
однообразный пейзаж!
Ну Есенин,
мужиковствующих свора,
Смех!
Коровою
в перчатках лаечных.
Раз послушаешь…
но это ведь из хора!
Балалаечник!
Надо,
чтоб поэт
и в жизни был мастак.
Мы крепки,
как спирт в полтавском штофе.
Ну, а что вот Безыменский?!
Так…
ничего…
морковный кофе.
Правда,
есть
у нас
Асеев
Колька.
Этот может.
Хватка у него
моя.
Но ведь надо
заработать сколько!
Маленькая,
но семья.
Были б живы —
стали бы
по Лефу соредактор.
Я бы
и агитки
вам доверить мог.
Раз бы показал:
– вот так-то, мол,
и так-то…
Вы б смогли —
у вас
хороший слог.
Я дал бы вам
жиркость
и су́кна,
в рекламу б
выдал
гумских дам.
(Я даже
ямбом подсюсюкнул,
чтоб только
быть
приятней вам.)
Вам теперь
пришлось бы
бросить ямб картавый.
Нынче
наши перья —
штык
да зубья вил, —
битвы революций
посерьезнее «Полтавы»,
и любовь
пограндиознее
онегинской любви.
Бойтесь пушкинистов.
Старомозгий Плюшкин,
перышко держа,
полезет
с перержавленным.
– Тоже, мол,
у лефов
появился
Пушкин.
Вот арап!
а состязается —
с Державиным…
Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.
Навели
хрестоматийный глянец.
Вы
по-моему́
при жизни
– думаю —
тоже бушевали.
Африканец!
Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.
Мы б его спросили:
– А ваши кто родители?
Чем вы занимались
до 17-го года? —
Только этого Дантеса бы и видели.
Впрочем,
что ж болтанье!
Спиритизма вроде.
Так сказать,
невольник чести…
пулею сражен…
Их
и по сегодня
много ходит —
всяческих
охотников
до наших жен.
Хорошо у нас
в Стране Советов.
Можно жить,
работать можно дружно.
Только вот
поэтов,
к сожаленью, нету —
впрочем, может,
это и не нужно.
Ну, пора:
рассвет
лучища выкалил.
Как бы
милиционер
разыскивать не стал.
На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.
Ну, давайте,
подсажу
на пьедестал.
Мне бы
памятник при жизни
полагается по чину.
Заложил бы
динамиту
– ну-ка,
дрызнь!
Ненавижу
всяческую мертвечину!
Обожаю
всяческую жизнь!
Сергею Есенину
Вы ушли,
как говорится,
в мир иной.
Пустота…
Летите,
в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость.
Нет, Есенин,
это
не насмешка.
В горле
горе комом —
не смешок.
Вижу —
взрезанной рукой помешкав,
собственных
костей
качаете мешок.
– Прекратите!
Бросьте!
Вы в своем уме ли?
Дать,
чтоб щеки
заливал
смертельный мел?!
Вы ж
такое
загибать умели,
что другой
на свете
не умел.
Почему?
Зачем?
Недоуменье смяло.
Критики бормочут:
– Этому вина
то…
да сё…
а главное,
что смычки мало,
в результате
много пива и вина. —
Дескать,
заменить бы вам
богему
классом,
класс влиял на вас,
и было б не до драк.
Ну, а класс-то жажду
заливает квасом?
Класс – он тоже
выпить не дурак.
Дескать,
к вам приставить бы
кого из напосто́в —
стали б
содержанием
премного одарённей.
Вы бы
в день
писали
строк по сто́,
утомительно
и длинно,
как Доронин.
А по-моему,
осуществись
такая бредь,
на себя бы
раньше наложили руки.
Лучше уж
от водки умереть,
чем от скуки!
Не откроют
нам
причин потери
ни петля,
ни ножик перочинный.
Может,
окажись
чернила в «Англетере»,
вены
резать
не было б причины.
Подражатели обрадовались:
бис!
Над собою
чуть не взвод
расправу учинил.
Почему же
увеличивать
число самоубийств?
Лучше
увеличь
изготовление чернил!
Навсегда
теперь
язык
в зубах затворится.
Тяжело
и неуместно
разводить мистерии.
У народа,
у языкотворца,
умер
звонкий
забулдыга подмастерье.
И несут
стихов заупокойный лом,
с прошлых
с похорон
не переделавши почти.
В холм
тупые рифмы
загонять колом —
разве так
поэта
надо бы почтить?
Вам
и памятник еще не слит, —
где он,
бронзы звон
или гранита грань? —
а к решеткам памяти
уже
понанесли
посвящений
и воспоминаний дрянь.
Ваше имя
в платочки рассоплено,
ваше слово
слюнявит Собинов
и выводит
под березкой дохлой —
«Ни слова,
о дру-уг мой,
ни вздо-о-о-о-ха».
Эх,
поговорить бы и́наче
с этим самым
с Леонидом Лоэнгринычем!
Встать бы здесь
гремящим скандалистом:
– Не позволю
мямлить стих
и мять! —
Оглушить бы
их
трехпалым свистом
в бабушку
и в бога душу мать!
Чтобы разнеслась
бездарнейшая по́гань,
раздувая
темь
пиджачных парусов,
чтобы
врассыпную
разбежался Коган,
встреченных
увеча
пиками усов.
Дрянь
пока что
мало поредела.
Дела много —
только поспевать.
Надо
жизнь
сначала переделать,
переделав —
можно воспевать.
Это время —
трудновато для пера,
но скажите
вы,
калеки и калекши,
где,
когда,
какой великий выбирал
путь,
чтобы протоптанней
и легше?
Слово —
полководец
человечьей силы.
Марш!
Чтоб время
сзади
ядрами рвалось.
К старым дням
чтоб ветром
относило
только
путаницу волос.
Для веселия
планета наша
мало оборудована.
Надо
вырвать
радость
у грядущих дней.
В этой жизни
помереть
не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.
1926
Разговор с фининспектором о поэзии
Гражданин фининспектор!
Простите за беспокойство!
Спасибо…
не тревожьтесь…
я постою…
У меня к вам
дело
деликатного свойства:
о месте
поэта
в рабочем строю.
В ряду
имеющих
лабазы и угодья
и я обложен
и должен караться.
Вы требуете
с меня
пятьсот в полугодие
и двадцать пять
за неподачу деклараций.
Труд мой
любому
труду
родствен.
Взгляните —
сколько я потерял,
какие
издержки
в моем производстве
и сколько тратится
на материал.
Вам,
конечно, известно явление «рифмы».
Скажем,
строчка
окончилась словом
«отца»,
и тогда
через строчку,
слога повторив, мы
ставим
какое-нибудь:
ламцадрица-ца́.
Говоря по-вашему,
рифма —
вексель.
Учесть через строчку! —
вот распоряжение.
И ищешь
мелочишку суффиксов и флексий
в пустующей кассе
склонений
и спряжений,
Начнешь это
слово
в строчку всовывать,
а оно не лезет —
нажал и сломал.
Гражданин фининспектор,
честное слово,
поэту
в копеечку влетают слова.
Говоря по-нашему,
рифма —
бочка.
Бочка с динамитом.
Строчка —
фитиль.
Строка додымит,
взрывается строчка, —
и город
на воздух
строфой летит.
Где найдешь,
на какой тариф,
рифмы,
чтоб враз убивали, нацелясь?
Может,
пяток
небывалых рифм
только и остался
что в Венецуэле.
И тянет
меня
в холода и в зной,
Бросаюсь,
опутан в авансы и в займы я.
Гражданин,
учтите билет проездной!
– Поэзия
– вся! —
езда в незнаемое.
Поэзия —
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
единого слова ради
тысячи тонн
словесной руды.
Но как
испепеляюще
слов этих жжение
рядом
с тлением
слова-сырца.
Эти слова
приводят в движение
тысячи лет
миллионов сердца.
Конечно,
различны поэтов сорта.
У скольких поэтов
легкость руки!
Тянет,
как фокусник,
строчку изо рта
и у себя
и у других.
Что говорить
о лирических кастратах?!
Строчку
чужую
вставит – и рад.
Это
обычное
воровство и растрата
среди охвативших страну растрат.
Эти
сегодня
стихи и оды,
в аплодисментах
ревомые ревмя,
войдут
в историю
как накладные расходы
на сделанное
нами —
двумя или тремя.
Пуд,
как говорится,
соли столовой
съешь
и сотней папирос клуби,
чтобы
добыть
драгоценное слово
из артезианских
людских глубин,
И сразу
ниже
налога рост.
Скиньте
с обложенья
нуля колесо!
Рубль девяносто
сотня папирос,
рубль шестьдесят
столовая соль.
В вашей анкете
вопросов масса:
– Были выезды?
Или выездов нет? —
А что,
если я
десяток пегасов
загнал
за последние
15 лет?!
У вас —
в мое положение войдите —
про слуг
и имущество
с этого угла.
А что,
если я
народа водитель
и одновременно —
народный слуга?
Класс
гласит
из слова из нашего,
а мы,
пролетарии,
двигатели пера.
Машину
души
с годами изнашиваешь.
Говорят:
– в архив,
исписался,
пора! —
Все меньше любится,
все меньше дерзается,
и лоб мой
время
с разбега круши́т.
Приходит
страшнейшая из амортизаций —
амортизация
сердца и души.
И когда
это солнце
разжиревшим боровом
взойдет
над грядущим
без нищих и калек, —
я
уже
сгнию,
умерший под забором,
рядом
с десятком
моих коллег.
Подведите
мой
посмертный баланс!
Я утверждаю
и – знаю – не налгу:
на фоне
сегодняшних
дельцов и пролаз
я буду
– один! —
в непролазном долгу.
Долг наш —
реветь
медногорлой сиреной
в тумане мещанья,
у бурь в кипеньи.
Поэт
всегда
должник вселенной,
платящий
на го́ре
проценты
и пени.
Я
в долгу
перед Бродвейской лампионией,
перед вами,
багдадские небеса,
перед Красной Армией,
перед вишнями Японии —
перед всем,
про что
не успел написать.
А зачем
вообще
эта шапка Сене?
Чтобы – целься рифмой
и ритмом ярись?
Слово поэта —
ваше воскресение,
ваше бессмертие,
гражданин канцелярист.
Через столетья
в бумажной раме
возьми строку
и время верни!
И встанет
день этот
с фининспекторами,
с блеском чудес
и с вонью чернил.
Сегодняшних дней убежденный житель,
выправьте
в энкапеэс
на бессмертье билет
и, высчитав
действие стихов,
разложите
заработок мой
на триста лет!
Но сила поэта
не только в этом,
что, вас
вспоминая,
в грядущем икнут.
Нет!
И сегодня
рифма поэта —
ласка
и лозунг,
и штык,
и кнут.
Гражданин фининспектор,
я выплачу пять,
все
нули
у цифры скрестя!
Я
по праву
требую пядь
в ряду
беднейших
рабочих и крестьян.
А если
вам кажется,
что всего дело́в —
это пользоваться
чужими словесами,
то вот вам,
товарищи,
мое стило́,
и можете
писать
сами!
1926
Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви
Простите
меня,
товарищ Костров,
с присущей
душевной ширью,
что часть
на Париж отпущенных строф
на лирику
я
растранжирю.
Представьте:
входит
красавица в зал,
в меха
и бусы оправленная.
Я
эту красавицу взял
и сказал:
– правильно сказал
или неправильно? —
Я, товарищ, —
из России,
знаменит в своей стране я,
я видал
девиц красивей,
я видал
девиц стройнее.
Девушкам
поэты любы.
Я ж умен
и голосист,
заговариваю зубы —
только
слушать согласись.
Не поймать
меня
на дряни,
на прохожей
паре чувств.
Я ж
навек
любовью ранен —
еле-еле волочусь.
Мне
любовь
не свадьбой мерить:
разлюбила —
уплыла.
Мне, товарищ,
в высшей мере
наплевать
на купола.
Что ж в подробности вдаваться,
шутки бросьте-ка,
мне ж, красавица,
не двадцать, —
тридцать…
с хвостиком.
Любовь
не в том,
чтоб кипеть крутей,
не в том,
что жгут у́гольями,
а в том,
что встает за горами грудей
над
волосами-джунглями.
Любить —
это значит:
в глубь двора
вбежать
и до ночи грачьей,
блестя топором,
рубить дрова,
силой
своей
играючи.
Любить —
это с простынь,
бессонницей
рваных,
срываться,
ревнуя к Копернику,
его,
а не мужа Марьи Иванны,
считая
своим
соперником.
Нам
любовь
не рай да кущи,
нам
любовь
гудит про то,
что опять
в работу пущен
сердца
выстывший мотор.
Вы
к Москве
порвали нить.
Годы —
расстояние.
Как бы
вам бы
объяснить
это состояние?
На земле
огней – до неба…
В синем небе
звезд —
до черта.
Если б я
поэтом не́ был,
я бы
стал бы
звездочетом.
Подымает площадь шум,
экипажи движутся,
я хожу,
стишки пишу
в записную книжицу.
Мчат
авто
по улице,
а не свалят на́земь.
Понимают
умницы:
человек —
в экстазе.
Сонм видений
и идей
полон
до крышки.
Тут бы
и у медведей
выросли бы крылышки.
И вот
с какой-то
грошовой столовой,
когда
докипело это,
из зева
до звезд
взвивается слово
золоторожденной кометой.
Распластан
хвост
небесам на треть,
блестит
и горит оперенье его,
чтоб двум влюбленным
на звезды смотреть
из ихней
беседки сиреневой.
Чтоб подымать,
и вести,
и влечь,
которые глазом ослабли.
Чтоб вражьи
головы
спиливать с плеч
хвостатой
сияющей саблей.
Себя
до последнего стука в груди,
как на свиданье,
простаивая,
прислушиваюсь:
любовь загудит —
человеческая,
простая.
Ураган,
огонь,
вода
подступают в ропоте.
Кто
сумеет
совладать?
Можете?
Попробуйте…
1928
Письмо Татьяне Яковлевой
В поцелуе рук ли,
губ ли,
в дрожи тела
близких мне
красный
цвет
моих республик
тоже
должен
пламенеть.
Я не люблю
парижскую любовь:
любую самочку
шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю,
сказав —
тубо —
собакам
озверевшей страсти.
Ты одна мне
ростом вровень,
стань же рядом
с бровью брови,
дай
про этот
важный вечер
рассказать
по-человечьи.
Пять часов,
и с этих пор
стих
людей
дремучий бор,
вымер
город заселенный,
слышу лишь
свисточный спор
поездов до Барселоны.
В черном небе
молний поступь,
гром
ругней
в небесной драме, —
не гроза,
а это
просто
ревность двигает горами.
Глупых слов
не верь сырью,
не пугайся
этой тряски, —
я взнуздаю,
я смирю
чувства
отпрысков дворянских.
Страсти корь
сойдет коростой,
но радость
неиссыхаемая,
буду долго,
буду просто
разговаривать стихами я.
Ревность,
жены,
слезы…
ну их! —
вспухнут веки,
впору Вию.
Я не сам,
а я
ревную
за Советскую Россию.
Видел
на плечах заплаты,
их
чахотка
лижет вздохом.
Что же,
мы не виноваты —
ста мильонам
было плохо.
Мы
теперь
к таким нежны —
спортом
выпрямишь не многих, —
вы и нам
в Москве нужны,
не хватает
длинноногих.
Не тебе,
в снега
и в тиф
шедшей
этими ногами,
здесь
на ласки
выдать их
в ужины
с нефтяниками.
Ты не думай,
щурясь просто
из-под выпрямленных дуг.
Иди сюда,
иди на перекресток
моих больших
и неуклюжих рук.
Не хочешь?
Оставайся и зимуй,
и это
оскорбление
на общий счет нанижем.
Я все равно
тебя
когда-нибудь возьму —
одну
или вдвоем с Парижем.
1928
Пьесы
Владимир Маяковский Трагедия
Пролог
Два действия
Эпилог
ДЕЙСТВУЮТ:
Владимир Маяковский(поэт 20–25 лет).
Его знакомая(сажени 2–3. Не разговаривает).
Старик с черными сухими кошками(несколько тысяч лет).
Человек без глаза и ноги.
Человек без уха.
Человек без головы.
Человек с растянутым лицом.
Человек с двумя поцелуями.
Обыкновенный молодой человек.
Женщина со слезинкой.
Женщина со слезой.
Женщина со слезищей.
Газетчики, мальчики, девочкии др.
Пролог В. Маяковский
Вам ли понять,
почему я,
спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несу
к обеду идущих лет.
С небритой щеки площадей
стекая ненужной слезою,
я,
быть может,
последний поэт.
Замечали вы —
качается
в каменных аллеях
полосатое лицо повешенной скуки,
а у мчащихся рек
на взмыленных шеях
мосты заломили железные руки.
Небо плачет
безудержно,
звонко;
а у облачка
гримаска на морщинке ротика,
как будто женщина ждала ребенка,
а бог ей кинул кривого идиотика.
Пухлыми пальцами в рыжих волосиках
солнце изласкало вас назойливостью овода —
в ваших душах выцелован раб.
Я, бесстрашный,
ненависть к дневным лучам понёс в веках;
с душой натянутой, как нервы про́вода,
я —
царь ламп!
Придите все ко мне,
кто рвал молчание,
кто выл
оттого, что петли полдней туги, —
я вам открою
словами
простыми, как мычанье,
наши новые души,
гудящие,
как фонарные дуги.
Я вам только головы пальцами трону,
и у вас
вырастут губы
для огромных поцелуев
и язык,
родной всем народам.
А я, прихрамывая душонкой,
уйду к моему трону
с дырами звезд по истертым сводам.
Лягу,
светлый,
в одеждах из лени
на мягкое ложе из настоящего навоза,
и тихим,
целующим шпал колени,
обнимет мне шею колесо паровоза.
Первое действие Весело. Сцена – город в паутине улиц. Праздник нищих. Один В. Маяковский. Проходящие приносят еду – железного сельдя с вывески, золотой огромный калач, складки желтого бархата.
В. Маяковский
Милостивые государи!
Заштопайте мне душу,
пустота сочиться не могла бы.
Я не знаю, плевок – обида или нет.
Я сухой, как каменная баба.
Меня выдоили.
Милостивые государи,
хотите —
сейчас перед вами будет танцевать
замечательный поэт?
Входит Старик с черными сухими кошками. Гладит. Весь – борода.
В. Маяковский
Ищите жирных в домах-скорлупах
и в бубен брюха веселье бейте!
Схватите за ноги глухих и глупых
и дуйте в уши им, как в ноздри флейте.
Разбейте днища у бочек злости,
ведь я горящий булыжник дум ем.
Сегодня в вашем кричащем тосте
я овенчаюсь моим безумием.
Сцена постепенно наполняется. Человек без уха, Человек без головыи др. Тупые. Стали беспорядком, едят дальше.
В. Маяковский
Граненых строчек босой алмазник,
взметя перины в чужих жилищах,
зажгу сегодня всемирный праздник
таких богатых и пестрых нищих.
Старик с кошками
Оставь.
Зачем мудрецам погремушек потеха?
Я – тысячелетний старик.
И вижу – в тебе на кресте из смеха
распят замученный крик.
Легло на город громадное горе
и сотни махоньких горь.
А свечи и лампы в галдящем споре
покрыли шопоты зорь.
Ведь мягкие луны не властны над нами, —
огни фонарей и нарядней и хлеще.
В земле городов нареклись господами
и лезут стереть нас бездушные вещи.
А с неба на вой человечьей орды
глядит обезумевший бог.
И руки в отрепьях его бороды,
изъеденных пылью дорог.
Он – бог,
а кричит о жестокой расплате,
а в ваших душонках поношенный вздошек.
Бросьте его!
Идите и гладьте —
гладьте сухих и черных кошек!
Громадные брюха возьмете хвастливо,
лоснящихся щек надуете пышки.
Лишь в кошках,
где шерсти вороньей отливы,
наловите глаз электрических вспышки.
Весь лов этих вспышек
(он будет обилен!)
вольем в провода,
в эти мускулы тяги, —
заскачут трамваи,
пламя светилен
зареет в ночах, как победные стяги,
Мир зашеве́лится в радостном гриме,
цветы испавлинятся в каждом окошке,
по рельсам потащат людей,
а за ними
все кошки, кошки, черные кошки!
Мы солнца приколем любимым на платье,
из звезд накуем серебрящихся брошек.
Бросьте квартиры!
Идите и гладьте —
гладьте сухих и черных кошек!
Человек без уха
Это – правда!
Над городом
– где флюгеров древки —
женщина
– черные пещеры век —
мечется,
кидает на тротуары плевки, —
а плевки вырастают в огромных калек.
Отмщалась над городом чья-то вина, —
люди столпились,
табуном бежали.
А там,
в обоях,
меж тенями вина,
сморщенный старикашка плачет на рояле.
Окружают.
Над городом ширится легенда мук.
Схватишься за ноту —
пальцы окровавишь!
А музыкант не может вытащить рук
из белых зубов разъяренных клавиш.
Все в волнении.
И вот
сегодня
с утра
в душу
врезал матчиш гу́бы.
Я ходил, подергиваясь,
руки растопыря,
а везде по крышам танцевали трубы,
и каждая коленями выкидывала 44!
Господа!
Остановитесь!
Разве это можно?!
Даже переулки засучили рукава для драки.
А тоска моя растет,
непонятна и тревожна,
как слеза на морде у плачущей собаки.
Еще тревожнее.
Старик с кошками
Вот видите!
Вещи надо рубить!
Недаром в их ласках провидел врага я!
Человек с растянутым лицом
А может быть, вещи надо любить?
Может быть, у вещей душа другая?
Человек без уха
Многие вещи сшиты наоборот.
Сердце не сердится,
к злобе глухо.
Человек с растянутым лицом (радостно поддакивает)
И там, где у человека вырезан рот,
многим вещам пришито ухо!
В. Маяковский (поднял руку, вышел в середину)
Злобой не мажьте сердец концы!
Вас,
детей моих,
буду учить непреклонно и строго.
Все вы, люди,
лишь бубенцы
на колпаке у бога.
Я
ногой, распухшей от исканий,
обошел
и вашу сушу
и еще какие-то другие страны
в домино и в маске темноты.
Я искал
ее,
невиданную душу,
чтобы в губы-раны
положить ее целящие цветы.
(Остановился.)
И опять,
как раб
в кровавом поте,
тело безумием качаю.
Впрочем,
раз нашел ее —
душу.
Вышла
в голубом капоте,
говорит:
«Садитесь!
Я давно вас ждала.
Не хотите ли стаканчик чаю?»
(Остановился.)
Я – поэт,
я разницу стер
между лицами своих и чужих.
В гное моргов искал сестер.
Целовал узорно больных.
А сегодня
на желтый костер,
спрятав глубже слёзы морей,
я взведу и стыд сестер
и морщины седых матерей!
На тарелках зализанных зал
будем жрать тебя, мясо, век!
Срывает покрывало. Громадная женщина. Боязливо. Вбегает Обыкновенный молодой человек. Суетится.
В. Маяковский (в стороне – тихо)
Милостивые государи!
Говорят,
где-то
– кажется, в Бразилии —
есть один счастливый человек!
Обыкновенный молодой человек (подбегает к каждому, цепляется)
Милостивые государи!
Стойте!
Милостивые государи!
Господин,
господин,
скажите скорей:
это здесь хотят сжечь
матерей?
Господа!
Мозг людей остер,
но перед тайнами мира ник;
а ведь вы зажигаете костер








