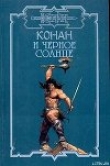Текст книги "Последний колдун"
Автор книги: Владимир Личутин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
9
Двенадцатый день сиротел Геласий Нечаев.
Справив поминки, дочь Ксюха отлетела в Каменку к своим чадам, на прощанье сурово обматерив отца и грозно посулив, что ноги ее здесь больше не будет, раз старик дурачится сколькой год и не переезжает к ней. А Матрена опять где-то в гостях, льет колокола, сияя железным набором зубов, и хорошо, если вспомнит об отце и явится накормить обедом.
Уж года три не бывал на погосте, а как все переменилось там. Сосновый борок вымахнул ввысь (все тощой был, хиловатый, а тут как подогнало), и стволы зароговились, темно зачешуились, потеряв прежний румянец. Изгородь в две дольных доски почернела, закособочилась, местами упала, и кладбище вовсе срослось с лесом, потерялось в нем. Народ умирал нынче редко, не торопился в землю, многие ложились на чужой стороне, и здесь, посреди заматеревшего бора, свежая могила скоро тускнела, тонула под опавшей иглой.
Палагу оставили под курчавым беломошником. Холмик получился невзрачный, серопесчаный, с клочьями дернины и обрывками бурых кореньев. «Зажился я, Полюшка, – жаловался Геласий, сутулясь возле родного жальника. – И жду лишь того счастья, когда душа выйдет из тела. Первое счастье теперь – вот как смерть представляется мне...»
Двенадцатый день сиротел старый Геласий и уж начал свыкаться с одиночеством и порой мгновенно радоваться обретенной свободе. Странно подумать, но теперь он все уверенней слышал в себе желанное облегчение от долгой душевной тяжести, ибо постоянное чувство вины перед Полей с некоторых пор давило его. Бывало, упорно казнился мыслью, что ему бы надо умереть по его-то возрасту; ан нет – прибрал верховный Полюшку, иначе рассудил.
Кровать разобрали и вынесли на поветь, матрацы раскинули на вешалах для просушки, душниной било от них, а в тот угол, где доживала Пелагея последний год, затолкали полированный шифоньер, и теперь ничто более не напоминало о временном человеке. Разве вот фотка в иконостасе: сидит старуха старухой, лицо испитое (полгода назад снимал внучек), батожок меж колен, а в глазах предчувствие кончины.
Часами ныне торчал Геласий у окна, цедил струистую бороду, невольно отмечая всех, кто по мосткам пробегал, но сам жил вроде бы в себе, ровно перебирал ветхую память, и тут Пелагею вдруг вспоминал иную, дальнюю, словно бы за щемящей полосой света, застенчиво-пугливую, в постоянном робком полупоклоне и глубоко затаенной печалью в медовых глазах.
...А ведь больная была на работу, зараженная. До ряби в глазах наломается, до черных мушек, потную рубаху сменит и снова за сена. Кой год то было? Дай бог памяти. День косили да ночь косили, а после поехали на новую лахту – и еще ночь робили. После, как прилегли в тенечке вздремнуть, дак дни потеряли. За рекой тоже сена метали, кричим им: «Какой седня день?» – «Середа-а...» Оказывается, двое суток отоспали – так упетались. Кой год то было? До колхозов, кажись. Все спуталось, любить твою бабу. Память дырявая ныне, вот и вытекло знанье.
Чей-то немощный голос проник сквозь путаницу мыслей, будто бы сами собой рождались посторонние слова, глухие, с сипотцой и, не беспокоя Геласия, ровно проникали в его задумчивое сознанье. Но вдруг, испуганно взволновавшись, очнулся старик, почуял, как щеки полыхнули жарко, обвел взглядом избу, отыскивая собеседника, и только тут сообразил, что сам с собою беседует. Сумеречно было, угрюмо осел потолок, и в темени дальних углов, за дощатой заборкой чудились незваные пришлые люди: кто-то жалостно играл там на дудке и бесшумно плясал. Вдруг и свечечка тонкая, копеечный огарок, затеплилась в боковом окне. Пламя колебалось, готовое оборваться и отлететь, – казалось, по улице идет печальный путник, освещая дорогу, но тут как бы слепящим сполохом высветлило, располовинило кухню, и стекла знобко всхлипнули. Мимо дома с надрывом прошла машина, буксуя на обмыленной дороге, высокий голос ее просквозил избу до самых тайных схоронов и на щемящем излете неожиданно оборвался где-то невдали. Тут забубнили на улице, в разные стороны подались торопливые шаги, и Геласий невольно подосадовал, что поспешил лампочку ввернуть: за окнами сразу приблизилась смоляная темь, и все живое отлетело куда-то прочь и вроде бы навечно. Но интерес свербил одинокого старика, и он прилип к стеклу, напрасно любопытствуя слабыми глазами. Дочь Матрена, распроязви ее в печенку, где-то хаханьки строит, вовсе забыла отца родного, а ему порою так затоскуется, так захочется видеть свежего человека, что в пору и с самим собой безумно потолковать. И тут кованое кольцо на двери сбрякало, в сенях завозились (знать, кто-то чужой), простудно закашлялись...
Любого бы сейчас радешенек видеть Геласий, даже самую распьянцовскую душу приветил бы, нашел стопочку и доброе слово, только подолее задержать бы возле, но вот Радюшина Николая Степановича знать не желал. А его и угораздила принести нелегкая, словно бы звал кто. И сразу напрягся старик, задеревенело вытянулся подле окна, точно кол проглотил, – и ни слова приветного. На улице, видно, опять раздождилось, черный клеенчатый плащ на Радюшине зеркально отблескивал, и обветренное лицо глянцево завлажнело.
– Что, старик, сумерничаешь? Дочь-то где?
– Чего пришел? – словно бы не расслышав, спросил старик, склонил набок голову, подставляя широкое бледное ухо, поросшее столь же бледным бессильным волосом, и чудилось, что струистая борода берет начало из этой глуби и, может, смыкается где-то посреди головы. – Если уговаривать пришел, то поди, мил человек. – И еще ближе поднес уродливо разросшееся ухо, уже смеясь над Радюшиным. Геласий не хотел волноваться и потому устало оперся о железную спинку кровати, не в силах сдержать дрожь. Под восемьдесят человеку, казалось бы, душа-то давно устала и опустела за долгую жизнь, а она вот страдает по-прежнему, и чувства вроде бы не оскудевают.
– Ты, значит, так, Геласий Созонтович... Перепираться мы не будем, как две бабы у колодца. Турусы разводить тоже не время. Дебаты на собраньях надоели, во где торчат. – Чикнул себя по шее. Старался Радюшин говорить миролюбиво, но разве можно смягчить железную окалину в голосе, если она незнаемо когда нагорела; разве возможно снять хриплую ржавчинку, если ее не слышит душа. – Давай миром, а? Одной ногой в могилевской, а все в пузырь лезешь... Я бы с тобой мог по-другому. Раз – и дело с концом. Ты слышишь, старик? – Радюшин вгляделся в широко распахнутые простиранные глаза старика и был больно уязвлен их равнодушием и немотою. Творожно белели глаза, и ничего в них не читалось, кроме далеко спрятанной дьявольской насмешки. И в душе чертыхнулся председатель, понял, что зря слова тратит. – Ты что, глухой? – И, не совладав с раздражением, невольно прихватил Геласия за костлявое плечо. – Дом, говорю, срубили... печь русская. Ты войди в положение, мил человек. Школа по плану на этом месте. Чего ты выворотнем, а? Не на улицу ведь гоним.
Но старик беззвучно шевелил губами и глядел сквозь Радюшина. Его сознанье опять куда-то откатилось, и чудились ему за спиной гостя веселые дудки и пляс нездешних людей. Подумалось: сам-то пришел незваный да и чертову силу приволок. Пляшут, а без топоту, вроде бы воздух толкут. Председателев голос отвлекал, мешал слушать, и старик сурово оборвал:
– Да погоди, не мельтешись. – Плечу было больно (как клещ, впился Радюшин), и Геласий резко стряхнул чужую ладонь. Снова поглядел в дальний угол, но там уже никого не было. «Знать, поблазнило», – успокоил себя. – Никуда не поеду, любить твою бабу. Мне вашего дома не надо. У меня своя изба. Здесь родился, тут и успокоюсь.
– Мы тебя силком. На кровати стащим.
– Ваша власть, – сказал равнодушно. – А только мне вашего добра не надо. Я добра просил от вас? Не-ет. Так чего вы допираете до меня? Ты мне спокой дай в остатние дни, спокой. Скоро я вольный буду... Мне-то уж все, какой-то годик пожить. Нашелся добренький. Мне на твою-то доброту... – Геласий кричал уже, его била крупная дрожь, и председатель, распаленный разговором, нудной бестолковщиной, тоже закусил удила, и понесло его, слепого от гнева:
– Ты не ори на меня, кулацкий потрох. Я тебе кто, а? Ты мое доброе имя не топчи. Всю жизнь для себя прожил и до меня не касайся... Я теперь все с тобой могу! Я еще добрый. Привыкли ездить, да чтоб ножки свесить. Я кузькину мать покажу!
– На князек залез? – неожиданно стих Геласий, а может, устыдился крика или устал от него. Но странное дело: черные мушки уже не толклись в глазах, и дышалось сейчас куда ровнее. – Не ты, Радюшин, первый, не ты и последний. Пусть я кулацкий потрох и убивец, все для себя тяну. А ты, значить, ангельского подобья, ни кушать не хочешь, ни справлять нужду. Тогда слезай с князька, ну! А-а... духу не хватает, духу. Кто ты будешь? Да никто, Колька Азия, разве назем сгодишься возить – и все. Нашелся благодетель, отец наш. Он, значить, любить твою бабу, все делает, а мы с его руки готовенькое кушаем. Хых-хых...
Сел на лавку, довольно охлопал усохшие ляжки и жиденько засмеялся. Потом не глядя снял с божницы толстые очки в самодельной проволочной оправе и ловко оседлал переносье:
– Ну-ко, дай полюбопытствовать... какой ты хороший да баской.
– Гляди пуще напоследок, гнус лесной. Завтра же отдам команду, чтоб трактором спихнули эту заваль.
– Смелей, ты смелей, дитятко. И неуж не боисся? – В распахнутых навыкате глазах старика появилось откровенное удивление. – Воистину, как в сказке о рыбаке и рыбке: чем дальше, тем больше надо. Откуда зло в тебе? Добра, говоришь, людям хочешь, а в тебе зло одно.
Рот, запеленутый бородой, едва колыхался, и казалось, звук исторгался из самой глуби тщедушного тела. Радюшин еще с ненавистью всмотрелся в горбоносое, с проваленными щеками лицо, в покатый, далеко открытый лоб, как-то странно выпяченный верхним тусклым светом, и неожиданно смутился. «Колдун, говорят, а может, и есть колдун? – подумал с далеким беспокойством в душе, пристально проникая за очки, в совиные глаза Геласия, но тут же отмахнулся от призрачно вспыхнувшей мысли. – Бред собачий. Людям бы плести чего».
– Завтра же трактор пришлю, слышь! И к чертовой матери...
... – Ну и командер, ну и мушиный царь. Это я, значит, кулацкий потрох, – бормотал обиженный старик, прислушиваясь к затихающим шагам и невольно улавливая настороженным ухом каждый шорох и вздох огромной избы. – Ой те-те, сынок. Я до двенадцати лет штанов на жопы не нашивал, это как воспринять? Во-о. Рубаха долга, своеткана, да опояска, еще опорки кожаны, в том и ходил до возрасту. Шестеро было у отца, да все махоньки. А когда наживать замог, ну и камаши заимел. Еще калошей-то не знал, не-е... Это кто побогаче – кальсоны белы, рубаха с поясом и ключ на шнурке, калоши кожаны и носки по колена. Так все и вспомянешь, любить твою бабу. По тем-то меркам, дак нынь каждый кулак... Ой, Азия, как старого дедку обкастил, какое слово вывернул. За отца своего утыкивает, за Разруху, сколь злопамятный. А чего утыкивать, спрашивается? Жизнью замолил. И вины там моей с ноготь – не боле. Ну дал по башке бутылкой, дак разве знамо было, что его и кончат же вскорости...
Ах ты, боже, куда-то дочь запропастилась? Убредет, как худа коза, и времени для нее людского нет.
Давно ли будто хотел есть Геласий Созонтович, в животе нестерпимо сосало, и вдруг от неожиданной перебранки все подсохло внутри, спеклось, и в горле загорчило. Совсем забыл про еду, но зато выговорился, выплеснул, что толклось на сердце долгие годы, а сейчас вроде бы и дышится легче, и кровь в висках не так больно токает. Слыхал Геласий от других не раз и не два, что плетет Радюшин на него околесицу, с грязью топчет, а вот не зайдет, упырь, к старику, чтобы глаза в глаза схлестнуться, а там – как бог постановит. За версту минует избу, но если возле окон судьба несет, то шляпу набочок сдвинет, словно бы невзначай.
И вот явился впервые, как с неба свалился, и сейчас обида на Радюшина не то чтобы угасла сразу, но вроде бы покрылась пеплом, и сразу все окончательно решилось в душе Геласия. Раньше при дочерях лишь артачился, дескать, никуда из родовой избы не поеду, только на погост, но душа колебалась. А раз нынче все утвердилось, то не о чем и тревожиться, нервы тянуть. Как знать, как знать... И себе не признавался старик, но, может, хотелось ему негласного прощенья (в чем?), иль доброго слова и совместного решенья, иль поясного поклона, а тогда бы и обошлось миром: а тут на те – прискочил, как с цепи сорвался, наорал, мушиный царь, раскомандовался. Палец длинный, дак чего не командовать. Он, ишь ли, добра хочет, жалельщик. А я просил?
Потянуло на кровать вдруг – такая усталость опутала. Решил на минутку прилечь, дать отдых телу, деревянно вытянулся на тощем матраце, подсунул ладонь под сухую щеку, прикрыл глаза, и сразу где-то возле заиграли жалейки...
Еще что-то думалось легко и необидно, то ли в яви, то ли во сне, так незаметно забылся Геласий. И скоро жуткое видение посетило. Будто бы на берегу лодку смолит, над рекой маревит – распогодилось. На минутку выпрямился, глядь – кого-то близ воды по урезу несет: темный человек, вроде бы одна тень, камня-арешника не коснется ступней, плывет навстречу. Смутно стало на душе, ой смутно, а черный человек и шепчет вдруг: «Доноситель... Фармазону продался». – «Нет, нет...» А тут и новый голос родился: «Правду скажи... прав-ду ска-жи». Потерянно оглянулся Геласий, а перед ним невысоконький, рыжеватенький, чистенький с обличья человек в синем твердом макинтоше, под мышкой брезентовый портфель. Смотрит пронзительно из-под сивых бровок, и холодом из той глуби тянет. «Я следователь... я следователь», – улыбаясь, наговаривает, а у Геласия язык во рту комом, и не знает мужик, на кого поначалу смотреть, с кем объясниться, чтобы по-людски вышло, не обидно. Но и не понять ему, не взять в разум, кто на кого донес, кто кого предал?! И будто бы наперед известно ему, как опутают смутными словами, а после поведут по этапу и далее, на работы, рыть канал, и Полюшка на коленях за ним поползет, цепляясь за брючину. Где грех его и велик ли? Поведайте, люди добрые, и сымите тягость. Не до-но-ситель я, не предавался Фармазону. Гляньте в лицо мое и душу мою, есть ли там царапыши от когтей диавола. Дайте спокою, спокою дайте... И внезапно в самую поясницу тот, темный и неузнанный, ударил сзади ножом, и кровь на волю кнутом хлестнула. Упал Геласий на карачки, мычит, силится встать – и не может. Розовый от солнца угор плывет навстречу, слепит глаза и ускользает из рук. И откуда-то Полюшка явилась, шепчет со слезой: «Ты подымись, любимый, волю настрополи. Все обойдется, все обойдется». И будто бы поставила на ноги и ведет в избу, а кровь все хлещет и хлещет, и рудяный ручей уж мчит с угора в тревожно розовеющую реку. Подумалось еще: велик ли человек, а сколь крови в нем. И длинно с надрывом вскричал, переполненный болью и смертной тоской.
Может, от вопля своего и проснулся Геласий, и почудилось ему, что этот больной безумный крик еще живет внутри его и вовне. Приподнялся на локте, тупо уставился в сумрак, жидко разбавленный крохотной лампешкой, сердце шально толклось под рубахой, готовое выломиться наружу. Обшарил недоверчивым взглядом избу, привыкая к ней и будто заново узнавая, а страшный сон – вот он, весь в глазах и потрясенной памяти.
И дочь Матрена словно потерялась: ушла – и нет ее. И, убегая от недавнего виденья, Геласий лихорадочно и путано заспешил вдруг, засобирался, страшась одиночества. Бушлат напахнул поверх бумазейной рубахи, но с пуговицами не совладал и потому одежду по-бабьи притиснул к груди. Хотел метелку сунуть в дверное кольцо вместо пристава, но в такой спешке и в промозглой осенней темени промахнулся и выронил к ногам. (Будь она неладная.) Пошарил на крыльце, да и обнесло Геласия, кинуло головою в чертополох и всякую дурнину, что жестяно наросла возле дома. А много ли старому человеку надо: ныне каждая кочка для него – гора, крохотная овражина – смертное ущелье; на ровном месте споткнется иной вроде бы невзначай, легко припадет к дороге, словно бы силы набраться, и так лежит минуту – пять, пока-то иной сердобольный прохожий не спохватится вдруг и не окрикнет шутейно, еще не думая на плохое: «Эй, мил друг, подвинься, рядом лягу». Глянь, а он уж мертв, сердешный, отстрадал.
Вот и с Геласием беда: в молодых бы годах случилось – подорожника бы притер к ранке, послюнявил, да через матерное бы слово и перемог внезапную немочь. А стариковое время – закатное. Сорвал о лохматую деревину над правой бровью кожи лафтачок, вот и хлынула кровища, как из худого барана. Долго ли, коротко лежал пластом – не ведал; обложник моросил неустанно, пронзило мокретью и стылостью каждую жилку безмясого тела, и, может, холод этот привел в чувство Геласия, и как во сне недавнем случилось – пополз на зыбких коленях, а на бок так и кренит, с каждой ступеньки опрокидывает. Все пережить надо, все перемочь. Господа бы позвал, да умишко ватный, туманом повитый; доброго бы путника окрикнул – да слепа и безмолвна вечереющая деревня. Сон в руку, недолго и ждать пришлось, и лишь Полюшка, жена богоданная, отчего-то не явилась на подмогу. А может, и поспешила тайно, укрепила дух Геласия и его гаснущую волю. Иначе, как знать, не истек ли бы он тут рудою, и не отлетела ли бы жизнь его под крыльцом в травяной ветоши, как у последнего пропащего забулдыги. Видно, в то же время вскричала душа у дочери Матрены, застрявшей в гостях. «Ой ты, боже, – призналась хозяйке, – как тоскнет сердце, не случилось ли, однако, чего с дедкой». Прибежала домой, а старик посреди кухни пластом лежит, кровью изошел, рубаха насквозь и штаны ватные пропитались, и лица не видать, и на полу кровища запеклась печенками. Хорошо, фельдшерица Настюха живет возле, безотказная девка, мигом примчалась и давай хозяина отхаживать да обмывать. Литра два из деда вышло, сказала, виноватясь, и навряд ли выживет он, надо родным телеграммки отбить, чтобы спешили, дескать, пока живой. Посидели сколько-то возле кровати, может, с час, а Геласий вдруг заворочался, застонал, Матрена нагнулась к отцовым губам, с трудом разбирая хрипы. Вот и помер татушка, вот и отжил: хотела завыть, давно уж готовая душой проститься с отцом. «На двор хочу», – едва ворочал старик языком, словно бы смеялся над дочерью. Вот тебе и благословенье, ну и прощальное слово. Тазик притащила, пробовали с Настюхой подсунуть, приподнять старика, а в Геласии вдруг сила откуда-то явилась, наставил локоть – и не подобраться к изнемогшей худобе. «Дедко, в тебе одних мослов, считай, пудов шесть. Откуль в тебе костей-то эстолько», – бормотала Матрена. «На двор хочу, на двор», – упирался старик, и слова с каждой минутой текли яснее, возвращалась грудная сила. Пришлось ведь тащить его на поветь, за дощатую загородку и караулить там, придерживая, как малое дитя.
10
...В чужих руках ломоть всегда толще. Думают, все так приходит, само собой, без труда прожить можно. Ан выкуси... Сам собой и ребенок не вывалится, поднатужиться надо. Десять лет упирался, для дикой Кучемы горбатился, сердце износил, скоро от давленья лопну, а где благодарное слово? Ручки в брючки, да бильярдные шары гоняют: тут они мастера. «На князек залез, дак хорошо с вышины рукой указывать», – передразнил Геласия. Попробовали бы сами на князьке пожить: и трет, и кусает, и со всех сторон подпирает, и сладко не поспи, и нявгают на тебя кому не лень, а соскочи попробуй самовольно. Шиш! Что они без меня? Вовсе бы замшились. Вагой бы надо сковырнуть, под самый корень вывернуть. Стоит такой старпень на большаке, труха сыплется из него, а он все напротив, только бы досадить. Уваженья он ждет, к нему с ласковым словом надо, а сам-то он уваженье дает? Как клещ всосался, паразит. Он колхозу палец о палец не стегонул...
Казнил Радюшин Геласия, а до смертной тоски жалел себя. С недавнего времени все чаще подкатывало это чувство отчаянного одиночества, когда жизнь так зачужела, что кажется – подтолкни кто под локоть, шепни прощальное ободрительное слово, дескать, не робей, дружище, развяжись со всем, и легко тебе станет – вот и шагнешь тогда к самому краю с душевным облегчением. Жутко, ой жутко и горестно человеку, когда ему деться некуда: знать, до того крайнего предела устал и терпенье до той последней капли истекло, когда и родное-то житье, обогретое и обихоженное своей рукой, уже не мило, и лишь через силу, через окаянную принудиловку тащишься в дом под самую ночь, и какие только мысли не посещают тогда.
А жилось-то всегда хоть и трудно, но ровно: до того израбатывался, что едва ноги доволакивал до кровати, и тут же в сон опрокидывало. И вот в нынешний год всплыла однажды в памяти военная нелепица. Николай Степанович рассказал ее гостям как радостное приключенье и даже заключил словами, дескать, большего счастья не испытывал с той поры. А ночью и приснилось то состоянье, и оказалось оно столь жутким, таким неприкаянным, что Радюшин едва из сна вырвался и долго в себя прийти не мог. Такой страх пронзил все существо, таким морозом окатило спину, что не дай бог высмотреть подобное сызнова...
А пустяк же случился, ей-ей мелочовка, крохотный эпизодик из солдатской жизни, коими полна была война. Много суток тогда не спали они, пятились к Сталинграду степями, а нет большей муки, как без сна жить. День человека не корми, два не корми, но выспаться дай. Прижми зайца, так он по проволоке на ушах ходить будет. Так и с нашим братом: постепенно приобыкли спать на ходу с открытыми глазами. Зрячий солдатик, и упряжь на нем казенная чин чинарем, и шагает вроде бы справно, не отставая и не портя колонны, но глух он и нем, и душа его сонная аж к самой селезенке поникла, и нет у человека в те мгновенья ни снов благостных, ни видений жалостных, а лишь одна одуряющая темь. Тяжелый сон, муторный, сплошь на нервах, когда вроде бы кожей тела и лица руководишь, – но и то хлеб, и то спасенье военному человеку. Помнится, однажды споткнулся Радюшин вроде бы на мгновенье (на ходу кемарил), растянулся плашмя на дороге, а пока вставал да очухивался – рота уж где у черта, бегом догонять пришлось. Привалы разрешали на час: только распластался, где команда застала, и набухшие веки сомкнул, и сладко потянулся с одной блаженной мыслью, дескать, вот сосну, а уж подъем кричат. Вот так же скричали подъем, встал Радюшин и пошел с закрытыми глазами. Вдруг голос тайный шепнул вроде бы: «Эй, очнись, друже». Хвать-хвать за грудь – автомата нет. Шлеп-шлеп с невольным ужасом в груди, а лишь шинелки истертый хомутина да лямка противогаза. Сердчишко-то заекало: батюшки-светы, оружье-то посеял. Ах ты, ох ты, рубаха на спине взмокла, и сон как рукой сняло. А ночь – непроглядь, скажи вот – протянутой руки не видать. Доложил старшине, побежал обратно. Все лежбище, где отдыхали, на коленях облазил, каждую кочку ладонью продоил. Жуть, темь – ни души людской, ни заступы; а по тем временам за посеянный автомат и живота лишиться можно. Вот где страх-то полонил, мать родную поминал Радюшин через каждое слово, пока на рассвете не нашарил оружье. Лежит, голубанюшка, запотело, едва глядится: его ковылем-то приобтянуло, травяной мылью приобвеяло – днем диво найти, а не то ночью. Знать, судьба милостива к солдатику. Спешил Радюшин вдогон за ротой, задыхался, а душа пела и полнилась великой радостью...
И вот этот случай вдруг привиделся во сне в таком страшном обличье, что хоть тут же отходную затягивай. Будто ночь непроглядная, та самая военная ночь, на небе ни залысинки светлой, ни пера лебяжьего, ни просяной звездочки, и он, Радюшин, посреди немоты этой, как во чреве свежей могилы, по-свинячьи скоркается на коленках, тычется в углы, нашаривает чего-то, пугаясь неживой земной стылости, а отыскать не может, и туг как завоет, взмолится: «Лю-ди, э-эй!» Прислушается, по-собачьи навострившись, ни звука в ответ, ни шороха, хотя бы звериного иль лешачьего. И вновь: «Лю-ди, ей-ей!» Закричал уж в крайней тоске и враскорячку, непотребно так, полетел в бездну...
Насильно, через каменную тягость переборол тогда сон, а забыть так и не смог.
Под берегом река едва намечалась, светилась окалиной, ворочалась на ближнем перекате лениво, вода уже загустела и тяжело скатывалась к морю. Кислой мокретью, ржавым запахом огрубелой травы наносило с луговины, волна чавкала, с разгона хлопалась о бортовины лодок, порой звонко сбрякивала цепь, и казалось, что там, по урезу реки, кто-то шляется с недобрым умыслом. «Может, собаку леший носит?» – подумал Радюшин и, не сдержавшись, строго окликнул: «Эй, кто там?»
Ранняя осенняя ночь круто заваривалась в смолевом котле, клубилась, ворочалась, проливалась на осиротевшие вымокшие бережины, кутала ближнее поредевшее чернолесье, отряхая последний заскучавший лист, утопила лесные сузёмы по самую маковку, и только там, за дальним таежным росчерком, в самом поднебесье, чуть сквозило луковым настоем. Темь, чугунная непроглядь без конца и краю, и если вдруг усильем воли проткнешься сквозь, взлетишь и приглядишься к земной околице нашей, то с трудом кое-где нашаришь теплые человечьи огоньки и изумишься с ознобом в груди, как сиротливы они ныне и редки. Там очаг погас, там крыльцо проросло крапивой, а те двери и вовсе нараспашку – заходи любой, выдирай плахи, коли на растопку: хозяева на забытом погосте, а потомки их в дальних городах, в сытых квартирах и разве в пьяном застолье вспомнят порой заброшенное пепелище. Печальны избы, заколоченные крест-накрест, но еще более невыносимы душе – забытые, когда оконца вроде бы глядят и двери зазывно распахнуты, а ступишь за порог, и вроде бы в могилу глянешь... И только по речному угору порой пронизает смолевой навар – заманный живой уголек, да еще вон там, к устью, скатится корневая деревня, да у моря кое-где ровным светом овеет пески крохотное селенье.
Какое-то полночное царство, вроде бы уснувшее навечно. Даже мысленно представишь его пределы, погрузишься взглядом в его светлые боры и комариные моховины – и оторопь хватит, ей-богу. Куда же занесла нелегкая нашего вольного русобородого Ивана, как же он выжил, выстоял тут, настроил посадов и церквей, лес согнал палом, хлебов насеял и наковал детей, крепких толстокоренышей, родову свою укрепил и жил близ моря горделиво и сыто, и земля эта, вроде бы угрюмо-настороженная, оттеплила тут, поддалась ласке и заботе – и уже милой единой родиной в кровь влилась. Так можно ли мир этот, великим человечьим потом и слезой вспоенный, внезапно осиротить?
Представилась Радюшину вся предночная окраина, и вроде бы задохнулся он, утонул в омуте с гнетом на шее. И вдруг забылось, что позади по долгому угору рассыпалась живая деревня, и так нестерпимо захотелось бежать прочь отсюда, а судьба помыслилась стать унылой и беспросветной, хоть в голос реви: упрятали человека – и забыли. За какие такие грехи? Что он – лошадь? Другие вон отработали год-другой, лямку оттянули, их на повышенье, в города, квартирки теплые, босиком в уборную можно. А тут жилы на кулак мотай от работы, пуп срони от тягостей, сердце сорви от забот – и все ты плох, все нехорош, и чуть ослабни, качнись, оступись легонько в сторону – тут и съедят поедом. И каждый кому не лень пальцем ткнет: то не так, да то не эдак...
Кинулся Радюшин прочь от реки, от темени промозглой, словно боялся оставаться долее там, обогнул клуб и затаился обочь высокого крыльца, жадно вглядываясь в распахнутую дверь. Так к людям захотелось, ровно бы кто ранее за плечо удерживал: даже пустого мельтешенья меж них хватило бы и говорильни хмельной. Но пошарил глазами и ровни своей не отыскал в зале: несерьезный народ толокся, все больше недоростки в платьях-поддергушках винтили пол каблуками. «Мокрохвостки еще, а совсем заголились, – отметил невольно и отвел взгляд, когда штрипочку голубую ухватил и литой поясок бедра. – Матерые, куда там, как бабы замужние. Опару на хорошем харче гонит».
Парни отирали плечами косяки; пьяно дымили, кто-то тянул сквозь зубы одну и ту же коротушку, еще из материного сундучка выхватил: «Девки подол выжали, парни воду выпили. Думали, свята вода, то из-под меленки беда...» Давно пели, еще до войны. И неуж при моей жизни? Тогда частушка в моде была: попади на язык – отбреют и ярлычок навесят. Это же про Ваську Сопочкина, первого тракториста, Фенька Полькина спела: «У моего у милого голова из трех частей: карбюратор, вентилятор и коробка скоростей». Вон на крыльце пролетарии тоже толкутся. «У моего у милого голова из трех частей...» И час трутся, и два, как стоялые кони. Нет бы книжку в руки, забыли уж, когда читали. Иль по дому чего помочь – на худой случай. Я-то, бывало, в молодых летах горел. Я-то горел. Баржа, случилось, под берегом притонула с досками. Лошади не дают, как хошь, говорят, добывай. И не лень мне было калевку за два километра на себе волочить. Обшил клуб, обустроил, любо глянуть. Уж сколько лет с послевойны прошло, а он все как милушка. Приедешь в Погорелец, глянешь – и как память ведь. К должности-то клубной приступил, так первым делом сажу надо было выпахать. Трубы сетной рванью охаживаю, а двоюродница идет, кричит с заулка: «Колька, это ты? Образованья-то наполучал, дак и сгодилось!» Смеется, значит, охальница... Мы к работе с малых лет приставали, нам без работы тоска была. Ну как без дела жить?..
Мысли Радюшина, наверное, куда бы как далеко отшатнулись, домой бы вернулся он просветленный и виноватый перед женой, тихо бы отужинал и так же ровно и покойно завалился спать, но тут из темени вывернулся Тимоха Гранатометчик, как тать лесная вытаился из мрака. Радюшин неожиданно наткнулся посторонним взглядом на одичалое щетинистое лицо, вывернутый, налитый кровью глаз – и отшатнулся.
– Тьфу ты... Напугал. Черт бы тебя забрал, шляесся тоже, – тихо, чтобы не привлечь чужого вниманья, ругнулся председатель.
– Миколай Степанович, друг ситный, – завопил Тимоха и полез сразу целоваться. – Люблю тебя, гада... Ты не знаешь, а я знаю.
Сивухой ударило, как из пивной бочки, перегаром...
– Ну ладно, ты поди давай. – И чтобы отвязаться от докуки, Радюшин стремительно отшагнул в темь, поспешил к дому, но душа его, будто утихшая, уже неслышно полнилась раздражением. «Пьяница чертов, – уже калил себя, – болтается по деревне, людей пугает. Гнать бы таких, в шею гнать». И тут сзади послышались путаные бухающие шаги, тяжелое сорванное дыханье. Эк, привязалась привязка, теперь не отстанет. Что глухому, что пьяному говорить впустую. Но все-таки остановился Радюшин: не убегать же. Да и кто он, вор, что ли, чтобы по своей-то улице бегать.