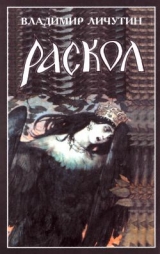
Текст книги "Раскол. Книга I. Венчание на царство"
Автор книги: Владимир Личутин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Глава десятая
Бедная, она всю дорогу выплакала, и на густо набеленных щеках остались от румян и сурьмы цветные ручьи. У ворот царского двора Федосья долго не вылезала из колымаги, утишивая внезапные рыданья. Ей так нестерпимо зажалелось себя, такой немилою показалась судьба, что и помереть впору... Боже, как чадо-то ждала, вымолила долгими ночами брюхо себе у святого Сергия, и вдруг нерожденное дитя ее обозвал змеенышем... Шестьдесят человек дворни, окружившей колымагу, ждали, когда проплачется боярыня, не смели тревожить госпожу. Горяча Морозова, своенравна, может миловать, но может и в Зюзино в имение на землю сослать. Две комнатные девки хлопотали вокруг Федосьи, приводя в чувство, убирали ее лицо, густо набеливали и украшивали.
...Государыня уже ждала родницу, выглядела с нетерпением в окно, как та, переваливаясь утушкой, подымалась на царицыно крыльцо, поддерживаемая под локти дворнею. «Тяжела наша Федосья, радостью затяжелела», – подумала царица и тут сама почуяла переспевшую свою утробу, и наводяневшие от тягости ноги, и набухшую грудь, туго обжатую парчовым лифом. Хоть бы ладно опростаться, хоть бы все слава Богу, вот и государь-то наш миленькой весь извелся, не хватало ему с нами забот. Царица прислушалась к чреву: ндравное дитя затеялось, всю мамку истолкло да издергало: вишь ли, того не хочу да того не нать; так-то бесноватых, сказывают, икотики мучают...
Тут стольники-отроки отпахнули двери, вошла Морозова, опустила у высокого порога коробейку; земно поклонилась; две женщины сошлись, как тяжело груженные лодьи, и по-сестрински ласково обнялись, расцеловались, словно век не видались.
– Что ли, худо чего приключилося? На тебе лица нет, – с материнской тревогою спросила у гостьи Марья Ильинишна, пытливо отстранив лицо, а сама меж тем все еще касалась спелым животом Федосьиного тела: подвески на висках из гурмыжского розового земчюга качнулись, открывая крутые смуглые скулы: было что-то в царице от персидских кровей.
– Марья Ильинишна, государыня, лихие люди собрались мое дитя известь, – неожиданно для себя открыто поделилась своим горем Федосья: она собралась было вновь заплакать, но укрепилась, не уступила слезам.
Царица в Гостиной палате была не одна: с рукодельем сидели по лавкам, устланным кизылбашскими цветными кошмами, казначея, да крайчая, да постельница, были тут и мастерицы, что шьют золотом и серебром, и шелками с каменьем и жемчугом. И каждая навострила уши, вроде бы не показывая интереса к вести. Царица, не мешкая, повелела удалиться всем: добрая-то весть на раке едет, а дурная вороном черным летит.
– Ну будет убиваться. Эко сдурела, – одернула царица, дождавшись, когда убудут дворцовые чины. Расправив подол тяжелого пурпурного сарафана, со вздохом опустилась в креслице. Они были поровенки, дружились, но Марья Ильинишна вела себа за мать, любила наставлять Федосью и оберегать. – Я тоже, как старуха, расселась. Каждую косточку гнетет да пригнетает. Ну что стряслось-то, бедная моя, скажи толком? Помстилось, поди? Я впервой-то была на сносях, дак чего только в ум не войдет...
Федосья, не ответив, взяла от порога коробейку из луба, давний подарок отца Прокопия Соковнина: привез отроковице из Мезени, когда был в тамошних местах воеводою. Лубянка писана травами и зверями диковинными, а на крышке птица-сирин с женским лицом и с короною; ежели всмотреться, то найдешь много сходства с Федосьей: мягкий овал щек, припухлые губы, но тот же жестко напряженный взгляд карих с искрою неуступчивых глаз. Отец пошутил, когда дарил Лубянку: «Вот, доча, сия птица-сирин с твоего обличья писана, с моих слов да по моему указу». Шутейно молвил, да верно выглядел.
Федосья достала из Лубянки рукоделье – убрус с ликом Божьей Матери, замшевый кошуль, подарок самоядей, с поморским мелким жемчугом да клубок тонких золотых ниток, коробейку же отложила в ноги. Взгляд царицы пал на писаную священную птицу с девичьим лицом, и вдруг молвила Марья Ильинишна: – Гли-ко, Федосьюшка, не чудо ли? Лик-от ровно бы с меня писан. Воно и корона-то моя.
– Тятин подарок мне. Это я, я! – неуступчиво, забываясь, воскликнула Федосья, решительно смахнула убрус с колен на коробейку, закрыв священную птицу, и вдруг пролилась слезами, торопливо откинула на лицо завеску из окатного жемчуга.
Лишь на мгновение слегка примглилось лицо Марьи Ильинишны, но теплый взор не притух, остался дружелюбен, горели в глубине глаз изумруды.
– Ну, Федосья, ну, подружил! Всегда воск, всегда лисою обовьешься, а тут – злонравна...
– Лисою век не бывала, – обидчиво вскинулась боярыня. – Думаешь каково... Аниська у храма Казанского намедни кричала: де, я от Змея Горыныча змееныша в брюхе ношу. Каково слышать, а? – сквозь слезы выкрикивала Федосья, отчаянно вытирала ладонью глаза, размазывая по щекам белила. – Тебе ли, государыня, не знать, что Морозовы от веку заклянуты. Не было у них в роду детей, не было! Это я вымолила, с колен не вставала. Это я Морозовых обнадежила, забрюхатела. А мне говорят, я змееныша рощу.
– Мало ли кто набает... А ты, однако, дурку прости. Чрез нее Господь наш на тебя дозор кладет, де, каково блюдешь заповеди его. Тоже нашла на кого пыщиться. Забыла? За сиротою Бог с калигою. Убогий – человек Божий.
– Это не убогая, это злыдня, – возразила Федосья. – Это обавница. Много развелось клосных да юродов, шагу не ступи. Уже и Господа заместили собою. – Но отчего-то смолчала о Кирюше, хотя от его злопамятных слов непроходящая тоска на сердце словно бы от одной беды избавилась, а уже другая скрадывает. – Я знаю, от лутеров они, оттуда все прелести. Намедни читала «Куранты». У немцев целые грады бывают полны чаровников и чаровниц, и первые градские правители обретаются в том числу. В недавние годы все без мала лавочники града Хамбурга и с женами были ради волховства сожжены. Так пишут «Куранты»... Когда судии захотели, чтобы кат испытал муками трех чаровниц, то палач же и отсоветовал, говоря: де, вы того, господари, не искорените. Де, если бы был на площади великий пивоваренный чан, воды полн, а всякий чаровник и чаровница сего града Хамбурга только перст омочили, то до вечера не осталось бы воды в чану... Туго им досталось, обавникам, они к нам и переметнулись на Кукуй, а отсюда и православных портят, несут смуту.
– Ну полно, Федосьюшка, – царица мягко усмехнулась – Не нами заповедано, блаженные – уста Господа. Блаженными Христосик наши души метит и лечит. Вот как на суд-то попадешь горний, Господь наш все-е высмотрит. Ты, подружия, водись с има, ты не перечь...
– Не верю им, не верю: они Бога двоят, на себя его достоинства перенимают да тем и кичатся. – Федосья с разговорами забылась, да и в ее ли летах долго предаваться горю? – Они не только Бога сугубят, но и душу нашу тратят, в скверну попускают и блазнь. А коли в Боге усомнился, то вдолге ли все поперек раскроить? Мне тут один даве сказывал: я, говорит, Бог на земле, каково? – И опять Федосья не открыла Кирюшу. – Он вроде-ка и образам молится, а себя лишь видит. Убогонького приветь, кто с Христом в сердце: он бесприютен, и ты его оприють. Но тут, матушка моя, совсем другое: сердце наше пытаются собою заселить, Христа выместить. Были и прежде блаженные, взять того же Василия, что Ивану-царю грозился, так те судили нас, грешников, именем Господним крепили нас в страхе, но прежде всего себя судили до исступления. А нынешние все на нас попускаются!..
Тут государыня, не сдержавшись, прервала Федосью.
– А по мне, так я их боюся. – Она мягко, как бы винясь пред боярыней, улыбнулась, невольно прислушиваясь к внутренней жизни; в утробе ее дитя ширилось, просилось на волю, и царица пугалась всякой нервной лихорадки. Да и то сказать: не холопа в себе носила, но будущего государя. Если задумаешься невольно о чем скверном, тут же и на чаде отмстится. – Я тебя зазвала, Федосья, не ради логофетства, хоть и знаю, что ты вельми учена. Борис Иваныч не раз хвалился: де, побудешь с тобою, так и насладишься паче меда и сота словес твоих душеполезных... Я вытребовала тебя по делу. Будем милостыню завертывать.
Через отрока-стольника государыня призвала дурку Орьку. Та уже знала о деле и явилась без промедления, видно за дверью ждала вести. Притащила Орька кожаный мешок с деньгами, царевой печатью оклейменный, была тут же на шнуре дьяка царской казны роспись, сколько и каких денег накладено в мошне; а всего на раздачу была положена тыща рублей, что государь завтра, в Светлое Воскресение, и отдарит нищим Христа ради.
– Ну чего разблажились? – крикливо заворчала дурка, бухнулась на лавку. Это была краснощекая тугая девка с невинно-голубыми, блаженными глазками, льняные куцые бровки были едва заметны, и оттого глаза казались обнаженными, какими-то звероватыми На плечах ее, поверх сарафана из желтых гилянских дорог с бархательными вошвами, была накинута шубейка из покроми, обрезков сукна, с беличьим воротником, на шее кованое кружево, на голове колпак суконный зеленый с собольей опушкой – Сидят, расщеперились, как мокрые курицы. Господь разнес, так спейте, ягодки. На спелую малину сатана с ружьем.
– Ну не ворчи, не ворчи, раскудахталась, – с улыбкою одернула государыня дурку: она любила Орьку, как дорогого безобидного зверя, что скалит на хозяина зубы, но не прикусит. Орька могла бы и помалкивать; лишь задорного белозубого вида ее хватало, чтобы вызвать ответную улыбку. – Будешь ворчать, замуж выдам.
– Нету того воеводы, чтоб мою крепость одолеть.
– Вот поворчи еще, отдам за Богдана Хитрова карлу.
– Каков Богдашка, таков и карла. Его бы в зыбку запеленать заместо дите да на седмицу и позабыть, эково кавалера.
Федосья заугрюмела, отвернула голову. Дурку она терпеть не могла; по ее бы нраву, так Орьку полагалось хорошо высечь и отправить на пашню. Здоровая девка тешит из себя блажную, а государыня-царица поваживает ее. Слишком широкое сердце у матушки. Федосья с осуждением поглядела на Марью Ильинишну и вздохнула.
– Не вздыхай, сестрица, а то распояску уронишь до времени, да и рассыплешься. Как рассыплешься, да и раскатишься, – оскалилась Орька на боярыню.
Федосья натужно улыбнулась, погрозила пальцем, но вновь смолчала.
– Ну, хватит колоколить. Скоро на всенощную, а мы за дело не примались. Затеялись не ко времени. Федосьюшка, пред благим делом скажи слово...
Федосья задумчиво оглядела Терем, расписанный травами, на потолке летали ангелы, и Грозное Око взирало с написанного художною рукою занебесья. Грозное Око было карим, с напряженной пронизывающей зеницей, из нее исходила угроза. Походило Око на глаз Орьки. Отчего такая блажь вдруг посунулась в голову? Федосья перекрестилась, перевела взгляд на веницейское окно: в середнее стеколко виделся потешный садик. Отрешенно заговорила: «Церковников и нищих, и маломожных, и бедных, и скорбных, и странных пришлецов призывай в дом свой и по силе накорми, и напой, и согрей, и милостыню давай и в дому, и в торгу, и на пути: тою очищаются греха, те бо ходатаи к Богу о грехах наших. – Тут и государыня поддержала Федосью, и стали они честь из Домостроя по памяти. – Чадо! Люби монашеской чин, и странные пришлецы всегда в твоем дому бы питалися, и в монастыри с милостынею и кормлею приходи, и в темницах, и убогих, и больных посещай и милостыню по силе давай...» С этими словами Орька погрузила руку в мошну, достала серебряную копейку с вычеканенным царем на коне, образ тот поцеловала.
– Баженый ты мой, миленькой государь, красно солнышко... Бери-ка, Федосья Прокопьевна, корабельник золотой на милостыньку...
Пото она и дурка, чтобы все иначить, и эту игру надобно принимать с понятливым сердцем. Обозвала копейку червонцем – а ты и верь. У Орьки были горячие сухие пальцы, и когда Федосья принимала от нее копейку с титлою, то словно бы обожглась. Она невольно взглянула на дурку, и та подмигнула голубым нагим глазом. Федосья завернула копейку в толстую ворсистую бумагу, не надписав ничего: и по весу понятно, что запеленут не пятиалтынный, не гривна, и не ефимок, не талер, не десятирублевик угорский золотой, но что-то из мелочи: иль копейка, иль деньга, иль полушка, та самая чеканка, что худо держится в зепи, норовит выпасть в любую прорешку...
– Ты пошто, Орька, копейку корабельником назвала? – по чину заведенной игры спросила государыня.
– От копейки не помрешь и не встанешь, матушка. Копейка всему голова, без копейки и червонец как мужик безносый. Кругло, мало, да всякому мило...
Так часа два под Орькины пересмешки закручивали они милостыньки. Тут у государыни поясница заныла, да и пришла пора на пасхальную службу сбираться. Погнала царица дурку вместе с мошною прочь. Федосья задумчиво проводила дурку взглядом, и когда желтый сарафан из гилянских дорог пропал за дверью, призналась вдруг царице, словно бы кто за язык дернул:
– Мне Кирюша, лежунец, сказал... Живет у меня. У меня сын будет. Он блаженный, высмотрел. Про себя обзывается: я-де Христос. Я нынче, как к тебе отправиться, испроказила, искостила его, и вот душа мается. Так тоскнет Не к беде ли какой?
Царица каждое слово впитывала, но отчего же так строго, отчужденно взглядывала на боярыню, вроде бы внове узнавала. Не обиделась ли? иль ревностию обожжено сердце Федосьиной скрытностью? затупила лежунца, да и смолчала, от самой государыни утаила. И приказала ледяным тоном Марья Ильинишна:
– Доставь его ко мне во Дворец... Государь наследника хочет.
И вдруг щеки ее стали пунцовее червчатого бархатного сборника, венчающего чело.
Глава одиннадцатая
...Воском капнуло на руку, обожгло; Федосья не успела остеречься, как порывом ветра потушило свечу; боярыня очнулась: крестный ход поворачивал к западным вратам. Боярыня ненароком уронила свечной огарыш и испуганно спрятала руки под соболий охабень, сложила их на тугом животе. В ночь неожиданно подморозило, снег сварился катышами, неловко лез под башмаки. Святое настроение невольно пропадало, толклось в голове житейское, всякая шелуха.
Впереди шла царица в горностаевом зипуне, покрытом золотым аксамитом; ей было тяжело нести достойно свое переполненное чрево, и Марья Ильинишна слегка горбилась, неожиданно утратив былую стать. Пригнело Марьюшку – с каким-то тайным злорадством подумала Федосья и тут же устыдилась черных мыслей, будто их могла подслушать царица. Алексей Михайлович поддерживал государыню под локоть, в живом свете толстой, в руку, свечи, которую нес он, как полковой стяг; вспыхивали круглый черный спокойный глаз царя и вся в шатких бликах, свитая как бы из проволоки, курчавая борода. На головах царской семьи были собольи шапки с золотыми крестами в обвершии: кресты качались в лад смиренному шагу. Кто-то в крестном ходу неожиданно окатывался на ледяном крошеве и невольно охал. Били колокола, Москва гудела от края и до края, и если бы встать особь на шеломе Ивана Великого, то можно бы разом выглядеть всю таинственно правившую неведомо куда поход престольную, ее слитное дыхание и согласное пение о Христе, воскресшем ныне ради спасения их, недостойных, и принесшем на Русскую землю благодать. Именно эти редкие минуты ладили потускневшие покрова всеобщего лада, зашивали прорехи уныния и разброда, смыкали всех православных золотою цепью любви.
В чреве Федосьюшки толкнулось, и она с испугом подумала: хоть бы не разродиться. И вдруг пронзило боярыню: «Прости, Кирюша, прости». Она вспомнила блаженного как самого кровного человека и, устрашившись, скосила взгляд, всмотрелась в лицо мужа с заостренной бородою, морщиноватое и усталое в бледно-желтом свете; глаза остоялись глубоко, тоскливо в темных обочьях, как мута в болоте, и казались слепыми. Федосья пуще пригляделась, пересиливая страх, ей почудилось, что она видит изъеденный, траченный землею череп. Глеб Морозов уловил присмотр супруги, улыбнулся, протянул свою свечу. Федосья отказалась, показала взглядом на руки, сложенные под охабнем на животе. Морозов уловил тоску жены и с любовью прислонился к ней плечом.
Позади государя шла мамка с годовалою царевной Евдокией. Ближние стольники по два в ряд несли суконные полы, заслоняя девочку от прикосливых посторонних глаз. Девочка не спала, наверное, тревожно жалась к мамке, к ее горячей здоровой груди, от которой нынче ее отлучали, а Евдокия капризила, желала родного молока. Вот и сейчас царевна выпростала ручонку из тесных меховых окуток, залезла мамке под кафтан, требовательно сгорстала набрякшую грудь, из соска готовно пробрызнуло, омочило тело кормилицы терпким, горячим, и царевна торопливо потянула полную молока горстку в капризный рот, попутно проливая его в одеждах. Ничего не досталось царевне, и она, облизав ладошку, скривилась и от неожиданной обиды горько расплакалась. Христос, воскресши для всех, не напаивал младенца и не утешивал. «Мама, дай-дай», – повторяла Дуся, теребя кормилицу. Мамка сунула младенцу сладкую жамку, заткнула рот. Царица, услышав, что дитя замолчало, выпрямилась успокоенно, пересилив утробу, сверкнул в обвершии куколя золотой крест, как смиренное подобие главы Ивана Великого. Качались две дружины монахов под факелами, раскачивали Реут; царь-колокол вспарывал звездную темь, и пружинистый властный зов его, подхваченный тысячами звонов подданных, нескончаемо тек по Руси. Русь славила Христа, и сама, будто бы расчувствовав голодный плач царевны, просветленно заплакала, призывая Христа войти в их домы.
«Господи, сына хочу», – вдруг воскликнула государыня. Царь вздрогнул и споткнулся. Иль, может, показалось Федосье? Крестный ход постепенно сжимался, втягивался на паперть, а оттуда в сияющее золотом, жарко натопленное нутро Успенского собора; спелые вешние небесные звезды вплелись в голубые, храмовые, пестро рассыпанные по своду купола. Мир небесный согласно влился в мир земной и вновь ненадолго утишил его сердце.
Федосья проводила государыню в Терем. Похристосовались. От бессонной ночи у Марьи Ильинишны коричневые круги под глазами. Царица благословила пасхальным розовым яичком. И вдруг, зардевшись, приклонилась к боярыне, сунула в руку еще одно, голубое. Шепнула: «Это твоему Кирюше, – и добавила: – Юроду...
И вот на шести темно-красных аргамаках, впряженных гуськом, весело звенящих серебряными поводьями, украшенных павлиньими перьями и собольими хвостами, в окружении полусотни слуг вернулась Федосья Прокопьевна в свои палаты. В усадьбе народ кучился, поджидал молодую боярыню. Пахло печеным, жареным, сытным, мясной воздух блуждал меж челядинных изб. Печи уже вытопились, проветрились клети, браными скатертями покрыли столы; девки повиты лентами, бабы в новых сарафанах, мужики в кумачных рубашках, волосье ухожено лампадным маслом. Кто хвалился новыми чеботами, кто шерстяною опояской с медным набором, а кто и своей девичьей красою. После долгого поста народ приуготовлялся ублажить тоскующую от поста утробушку; девкам-хваленкам не терпелось заплести хоровод. В каждой челядинной избе растворены иконостасы, возжжены лампады, на столе ржаные ковриги, одна на другой, сверху соль в солонице, на лавке корзина с овсом, под столом натрушено сено. Вносят образа, домовый священник Никифор служит над дарами природы молебен. Затем причет берет нижний каравай, полкорзины овса, отсыпает половину соли, складывает в мешки, чтоб набранный хлеб после отвезти бедным взаймы, с условием отдачи; так и кормится попова семья печеным.
Морозов, прискакавший ранее из Дворца, уже приказал выкатить на двор бочку меду, дворецкий разливал слугам, не скупясь, по двойной чаре. Завидев супругу, Глеб Иванович молодецки сбежал с гостевого крыльца; из-под алой бархатной ферязи, унизанной золотыми путвицами и петлями, виделся полураспах шелковой голубой котыги. Они расцеловались, от мужа пахло долгим постом и причастием: от бессонной ночи кожа пожелтела, увяла, еще более ссохлась на скульях, как старый пергамент. Федосья подняла глаза, с жалостию и любовию оглядывая родное лицо мужа, невольно отметила кадыковатую шею, побитую морщинами, и первую седину на сросшихся широких бровях. И во взгляде супруга, каком-то линялом, тускло-сером, была печаль, изжитость, так что сердце Федосьи зашлось от предчувствия: «Господи, дай нам укрепы, разнеси нас ребеночком!» – мысленно воскликнула боярыня и потерлась щекою о бархат ферязи, слегка оцарапала щеку золотой путвицей.
Морозов сразу расцвел и стал красивым. Он обернулся к дворецкому и потребовал праздничные кубки. Дворецкий принес золотые стопы и наполнил стоялым красным медом. «Христос воскресе!» – зычно провозгласил Морозов, и боярский двор сотнями хмельных голосов отозвался возбужденно и радостно на всю Тверскую: «Воистину воскресе, батюшко родимый наш!» Федосья лишь пригубила меду, слизнула с края кубка взошедшую терпкую пену; питье хорошо обнесло грудь, растеплило, и вся земля сразу раздалась взгляду, похорошела, стала желто-голубой. Христос любовно озирал Русь, радуясь воскрешению. Но отчего же стоскнулось так, загорчело в горле и стало обсекать дыхание? Боярыня обвела недоуменным взглядом подворье, каменные резные палаты с горящими от солнца стеклами, золотой куполок домашней церкви, распряженных темно-красных лошадей, равнодушно жующих овес из колоды. Она так прощально приняла все в душу, будто собралась умирать.
Федосья позабыла о муже и с кубком в руке пошла к Кирюше в землянку. По ступенькам она спустилась в полумрак; дюжина свечей зыбко светила, волоча за собою тени; свечи стояли и на крышке домовины, как невидимый в ночи крестный ход крохотных скрытных богомольцев, мерцали в изголовье блаженного лежунца, высвечивая его счастливое лицо. Возле юрода сутулилась на коленях монашена и кормила с ложки Кирюшу. Монашена обернулась всполошенно, у нее было бледное шадроватое лицо. Она торопливо поднялась с колен, земно поклонилась хозяйке и отступила в дальний угол, к запечью, куда не достигал свет, но ее жгучий, чего-то требующий взгляд беспокоил боярыню и из сумерек.
«Божия и моя сестрица Мелания, – пропел Кирюша, наверное, забывши о недавней ссоре. – Вот, пришла навестить несчастного Христа!»
Федосья поставила кубок с медом на печном засторонке, наклонилась и поцеловала Кирюшу в блестящий лоб, прося прощения. Потом достала царицын подарок, затейливую писанку дворцовых иконников. Кирюша поцеловал пасхальный гостинец, обкатал в ладонях яйцо, согревая его и не сводя взора с низкого подопрелого потолка. Сказал серьезно: «Яйцо применно ко всей твари. Скорлупа – аки небо, плева – аки облацы, белок – аки вода, желток – аки земля, а сырость посреди яйца – аки в мире грех. Господь наш Исус Христос воскресе от мертвых, всю тварь обнови своею кровию, якож яйце украси; а сырость греховную из суши, якож яйце изгусти. – И добавил, построжев голосом, переведя блестящий взгляд на боярыню: – Вот и государыня зовет меня... Приидет времечко, и всяк православный заславит меня... Ну-ка, Федосьюшка, добудь-ка свое яичко, да и похристосоваемся, возлюбив, поцелуемся жопками, кто кого оборет».
«Будет тебе, братец, богохульничать», – осекла от печи монашена.
«Ну-ну, – подзадорил блаженный, – колонемся да и стакнемся. Не трусь, баба!»
Федосья, как во сне, достала из зепи свое пасхальное дареное, писанное травами яйцо, обжала нежной ладонью. Она вдруг невольно включилась в игру, подпала под волю Кирюши, чуя в себе смирение и восторг. Такое чувство навещало лишь в детстве. Боярыне хотелось заплакать.
«Прости меня, Кирюша», – снова жалобно попросила Федосья. Но лежунец вроде бы не расслышал боярыню, неволил ее:
«А ну, баба, колонемся да и стакнемся».
Он неожиданно колонул писанкой по Федосьиному яйцу. Липовое яйцо змеисто лопнуло, из разверстой древесной тверди вдруг брызнуло на блаженного сукровицей. Кирюша восторженно засмеялся, заплескал ладонями, порывисто дуя на них и причитая: «Разруби дерево, и там Бог! Душа вылупилась! Слава мне! Гли-ко, баба, живая душа вылупилась».
Тут Федосью кто-то приобнял сзади дерзко, сломал надвое, неслышно подкравшись, разъял и выпустил дух. Она неуклюже, цепляясь за печной приступок, повалилась на земляной пол, опрокинув кубок с медом на объярь дорогого платна. Боярыня завыла, потеряв от боли рассудок, и болезный, лихорадочно-истошный воп ее расслышала, наверное, вся Москва. Кирюша, приподнявшись на локте, жадно смотрел на сомлелое молодое тело и вдруг сронил голову на березовое сголовьице, тупо стукнувшись затылком. Он стиснул глаза и жарко запричитал: «Слава Те, Господи... Душа живая выпросталась. Дал Бог наследника. Пируйте, Морозовы, за-ради моей славы».
Черница Мелания опомнилась, прискочила к боярыне, норовя подсобить сердешной; тут вбежала челядь, отпихнула монашенку, огородила хозяйку суконными полами от сглаза.
И вот келью юродивого огласил крик младенца.
Живет поверие на Руси, что в Светлое Воскресение рождаются ангелы, а умершие отходят без суда прямо в рай.
Опустела келья. Поднялся лежунец с лавки, прощально оглядел свой прислон и покинул Морозовых. Чернице Меланье наказал: «Побудь здесь за меня. Сторожи тутока силу мою».
В тот день видели блаженного в кабаке у Воскресенского моста.








