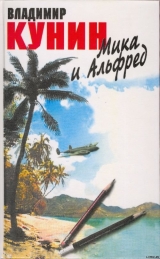
Текст книги "Мика и Альфред"
Автор книги: Владимир Кунин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Вряд ли кто-нибудь смог бы точнее описать Генку Оноприенко и Маратика Семенова, чем тот барыга, который называл их «бычками».
И они, эти два ничтожных актеришки, два паршивца-массовочника, двое мелких подлюг, не пожалевших даже Симы Поджукевич, у которой глаза не просыхали от полученной «похоронки», ни ее маленьких детей, они, шакалье позорное, еще и Мику попытались «вломить»?! Ну погодите, падаль вонючая.
Знал Мика Поляков, помнил, ни на секунду не забывал, каким страшным оружием наградил его тот школьный удар головой о тяжелую дверь учительской…
Но вот ведь что дивно! Когда лупили по ногам, по почкам, когда ссал кровавой мочой, даже в голову не приходило воспользоваться этим своим УБИЙСТВЕННЫМ даром. И когда в последний раз, после очной ставки, совсем невиновного, пнули кованым ботинком так, что слезы из глаз брызнули, не повернулся, не шарахнул глазом в ответ, чтобы у того, кто ударил, в мгновение разорвалось бы сердце.
Значит, правильно понял он тогда в детдомовском «воронке» – ТОЛЬКО В САМОМ КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ!.. Только тогда, когда уже нет никакого другого выхода.
Мика вспомнил жалкую, толстую Симу Поджукевич, ее вечно замурзанных детей, еженощные рыдания Симы по убитому мужу и решил, что этот случай – уже КРАЙНИЙ.
Только взять нужно Маратика и Генку с поличным. Чтобы хоронили подонков, а не случайно погибших артистов…
Несколько ночей Мика провел в том же «Алатау» в павильоне для трюковых и комбинированных съемок, под декорациями фильма «Черевички», устроив себе уютное ложе из какого-то белого, мягкого и пушистого материала.
После первой же ночи все тело Мики покрылось пугающе красными пятнами, зудело и чесалось так, что можно было сойти с ума! Словно тысячи вшей напали на Мику и поклялись сожрать его заживо всего и без остатка. А что такое гниды и вши, Мика очень хорошо помнил еще по Каскелену…
Лихорадочно проглядывая все швы и складки вывернутых наизнанку брюк и рубашки, Мика не обнаружил ни вшей, ни гнид. Зато увидел сверкающую серебристую пыльцу, покрывавшую всю его одежду и тело. Это оказались микроскопические обломки «стеклянной ваты» – шумопоглощающего материала для строительства декораций или еще чего-то. А поначалу постель из этой ваты показалась Мике такой мягкой и ласковой!..
***
На базар повадился – рисовал военных инвалидов за полбуханки хлеба, за лепешку, за суп из военкоматовской столовки. Вина с инвалидами не пил, водку в качестве гонорара не принимал, чем заслужил большое уважение среди инвалидов-алкоголиков.
Да и с набросками своими не навязывался. Попросят – нарисует. Не попросят – сам узнает: «Можно вас порисовать?» Если «да», то рисовал бесплатно – для себя. Или так раздаривал…
На узбеков мантулил разгрузчиком. Те из Андижана дыни в Алма-Ату везли, из Намангана урюк, из Чирчика арбузы. А потом через черт-те сколько горных перевалов, через Таш-Кумыр, через Кара-Куль на Фрунзе, а уже оттуда напрямик в Алма-Ату. Потому что в Алма-Ате все в пять раз дороже! И народу «выковыренного» – как сельдей в бочке… В кабине – водила и хозяин груза. Прикатят на место, на алма-атинский базар, кому-то разгружать надо? А Мишка-художник тут как тут! Сильный пацан, тренированный, работает быстро, не ворует. И никогда не торгуется.
Но и Мишку обижать нельзя. Узбеки это теперь хорошо знают. Один раз какие-то наманганские ухари не заплатили ему. Так пришли, приползли, приковыляли, на шарикоподшипниках приехали инвалиды базарные. С трясущимися головами от тяжелых контузий, с боевыми орденами и медалями вместо рук и вместо ног, с желтыми и красными нашивками за ранения. Бить торгашей не стали. Слова грубого не промолвили. Только взяли и весь товар – три тонны отборного золотого узбекского урюка – керосином облили…
А кто будет с рыночными инвалидами связываться? Никто. Потому что базарный военный инвалид в своей хевре, шобле, короче, в компании таких же, как и он сам, – это жуткая сила!
… Шел как-то Мика вот с такой работы, после разгрузки тяжеленных» мешков с сухофруктами, через пыльный городской парк, еле ноги волочил. И все думал, как ему Маратика Семенова и Генку Оноприенко застукать на «деле».
Не себя – Симу Поджукевич с ее малолетками не мог простить им Мика.
И вдруг с веранды коммерческого ресторанчика прямо через перила перепрыгивает ему навстречу Лаврик! Белоснежная рубашечка с воротником-апаш, выпущенным на кургузенький, но ладный пиджачишко, брючки со стрелочками, сапожки блестят, а на голове кепочка-шестиклинка с пупочкой. А из-под кепочки чубчик – совсем слегка завитой.
– Айда посидим? – пригласил Лаврик. – Я там с марухой одной классной. Вместе похаваем, а потом к нам. У нее дом свой, патефончик… Я уже неделю у нее кантуюсь.
– Нет, Лаврик. Спасибо.
– Дать пенендзев? У меня тут с последнего дела пара косых завалялась.
– Не надо. Есть у меня. Отец должен скоро приехать. Заберет меня с собой.
– Куда? На фронт? – усомнился Лаврик.
– А хоть и на фронт. Он же при штабе армии… Устроюсь там «сыном полка» или еще кем-нибудь.
– Ну-ну… Я чего хотел тебе сказать, Миня: у меня сегодня с барыгой, которому твои кинщики шматье помытое сдавали, а потом ксивоту на тебя катанули, толковище было. Колонулся он, что они сегодня ночью должны ему товар притартать… Может, заложим их мусорам заранее? Чтобы с поличным. Через того же барыгу. Я ему перо к боку приставлю – он чего хочешь для нас сделает.
– Нет. Я сам, – жестко сказал Мика.
– Или хари им расписать, чтобы доктора потом по чертежам не собрали? А то и зашмалять есть чем! – Лаврик незаметно огляделся, сдвинул в сторонку полу пиджачка. Почти у спины из-за брючного ремня торчала рукоятка пистолета «ТТ».
– Нет, Лаврик. Спасибо. Я один…
– Осторожней, Минька. Я их специально подкнокал у вашего «Алатау» – парнишки крепкие, сытые. Как бы они тебя…
Но тут Мика неожиданно так посмотрел на Лаврика, что тому даже на секунду нехорошо стало. На мгновение Лаврику даже показалось, что он видит тех двоих – крепеньких и сытых – УЖЕ МЕРТВЫМИ…
***
Рассудил Мика просто: раз Генка и Маратик обещали барыге товар приволочь ночью, значит, они не по общаге будут шуровать, когда все за своими занавесками дышат. Они камеру хранения будут брать!
После нескольких случаев воровства администрация общежития при «Алатау» соорудила на четвертом этаже, в бывшей кинопроекционной комнате, камеру хранения для особо ценных личных вещей проживающих. Чтобы хоть как-то уберечься от таких вот, как этот «отвратительный Мишка Поляков»! Ну кто бы мог подумать?! Из такой интеллигентной семьи… Господи, что война с людьми делает!..
Особые надежды возлагались на противопожарную железную дверь бывшей кинопроекционной. Заперли ее на огромный замок, а ключ отдали коменданту общежития.
Кому надо чего продать на балочке, чтобы сметанкой или колбаской ребенка побаловать, а то и обувку себе прикупить, тот зовет коменданта и под его надзором вытаскивает из своего чемодана кто старенький серебряный браслетик, кто хрустальную пепельничку, а кто и шубку котиковую!..
Мика так ясно представил себе, как Маратик и Генка взламывают замок бывшей проекционной, что даже сам испугался – не опоздал ли он?!
Еле дождался темноты, выполз из-под «своих» декораций, пробрался по пожарной лестнице на крышу, спустился через вентиляционную шахту на нужный этаж и занял наблюдательную позицию одним лестничным маршем выше камеры хранения.
Слабенькая лампочка освещала железную дверь бывшей кинопроекционной с огромным тяжелым замком.
… Часа через два, когда Мика, вымотанный нервным ожиданием, чуть было не задремал, снизу послышались осторожные шаги.
Мика дождался, когда Генка и Маратик отвернули замок фомкой – коротким ломиком со сплющенным и слегка загнутым концом, – открыли дверь камеры хранения, прошли туда, притворили дверь и зажгли там свет.
Тоненькая сверкающая ниточка света сочилась из-под прикрытой двери. Слышал Мика, как щелкали ломающиеся замки чемоданов, слышал лихорадочный шепот…
Что-то позвякивало, хрустело… Даже сдавленный смешок донесся до Микиных ушей.
Это рассмеялся Маратик. Мика только недавно видел один фильм, где в крохотном эпизодике Маратик Семенов изображал молоденького партизана и смеялся с экрана именно так, как рассмеялся сейчас!..
А потом Мика услышал, как Маратик спросил у Генки:
– Все?
А тот ответил:
– Погоди… Еще один «уголок» отворочу.
– Не унести, Ген… Тяжело будет.
– Ни хера, Маратик! Своя ноша не тянет, – ответил Генка.
Вот когда Мика почувствовал знакомую уже предвестницу УБИЙСТВА – резкую головную боль! Вот когда в полной мере ощутил дикий жар и услышал стук собственного сердца…
Толстая, рыдающая Сима Поджукевич с «похоронкой» в руке стояла у него перед глазами… А на Мику смотрели ее двое замурзанных, вечно голодных ребятишек.
Мика рывком распахнул дверь.
Увидел несколько растерзанных, выпотрошенных чемоданов…
Белые от ужаса лица Генки и Маратика…
Генка Оноприенко очнулся первым. Не вставая с чемодана, который они утрамбовывали коленями, осторожно нащупал на полу фомку и медленно стал подниматься, Маратик так и остался сидеть.
А у Мики боль в висках и в затылке становилась уже нестерпимой и сердце стучало так, словно хотело вырваться из груди и поскакать по ступенькам!
Но несмотря ни на что, в этот раз Мика сохранял абсолютную ясность происходящего.
– Не двигаться, дешевки, – тихо сказал Мика и даже задохнулся от ненависти к этим двум… – НЕТУ… НЕТУ ВАС БОЛЬШЕ НА ЭТОМ СВЕТЕ!!!
Дикая, чудовищная сила, не знающая преград, вырвалась из темных глубин Микиного подсознания и почти целиком обрушилась на Генку Оноприенко, лишь малой частью задев сидящего на чемодане Маратика…
Генкины глаза мгновенно остекленели, в последнем смертельном вдохе открылся рот, и оттуда хлынула толстая струя Генкиной крови на пол, на чемодан, на Маратика Семенова, на все те чужие, для кого-то бесценные вещи, которые Генка Оноприенко так хотел украсть!..
Маратик выскочил из-под падающего на него УЖЕ МЕРТВОГО Генки и страшным, животным голосом завыл на все этажи спящего «Алатау».
***
Больше Мика Поляков никогда не переступал порога бывшего кинотеатра.
Он перетащил свои немудрящие пожитки в пристроечку при глинобитном складском рыночном помещении, куда обычно приезжие торговцы сгружали свой товар, а уже оттуда небольшими частями волокли его на прилавки.
Базарные власти на это закрыли глаза – не надо нанимать сторожа. Квартальный уполномоченный рассудил тоже мудро: пусть уж лучше этот Мишка будет всегда у него под руками. Случись чего – не объявлять же его во всесоюзный розыск?! А так он все время на глазах – то разгружает машины с дальними номерами, то помогает приезжим товар к прилавкам перетаскивать. И рисует классно! Недавно его – младшего лейтенанта милиции – нарисовал, ну просто вылитый!..
Через дней пять после «новоселья» заглянул к Мике вернувшийся «с гастролей» Лаврик.
– Уважаю, – сказал. – Давай работать вместе?
– Нет, Лаврик, – ответил Мика. – Спасибо, но скоро должен вернуться отец, я же тебе говорил… Хочешь, я тебя порисую?
– Не, Мишаня! Накося, выкуси… – рассмеялся Лаврик. – Мне светиться незачем. Что я – фрайер? Я – вор. Мне свою личность лишний раз предъявлять без надобности. Слушай, чего расскажу…
… Генку Оноприенко похоронили где-то за городом. Так «уголовка» распорядилась.
Маратик Семенов остался наполовину живым. Одна сторона Маратика – мертвая. Не двигаются ни рука, ни нога, ни рожа с этой стороны! Ссытся и гадит под себя. Говорить не может и, как заявили врачи, уже никогда и не будет. Может только мычать или орать благим матом. Но тогда его скрючивает…
Пока лежит в психушке. Однако, видать, скоро сдохнет. Так что с этим все в порядке.
Нехорошо только то, что мусора до сих пор считают, будто Мишка тоже с ними был завязан…
Насчет писателевых шмоток из гостиницы «Дом Советов». Барыга волонулся и вернул потерпевшему портки и жилетку от желтого костюма. Никто не брал такого цвета…
А «лепень», ну «пиджак» по-вашему, ушел сразу же, вместе с остальным писательским барахлом. Хорошее шматье всегда в цене!
Да, и еще: консервы этого писателя-долбоёба, который первый на Мишку настучал, нашли. Банок сто! Зарыты были под забором, как он, Лаврик, и предполагал тогда ночью в камере.
– Теперь я за него спокоен, – усмехнулся Мика и вспомнил холеную физиономию Алексея Николаевича Ольшевского.
– Ничего не хочешь сказать мне? – осторожно спросил Лаврик.
– Да нет… Вроде бы и нечего.
– Уважаю! – Лаврик как-то странно оглядел Мику с головы до ног, словно не верил тому, что видит. – Больше скажу – ни в жисть не подумал бы… Железный пацан ты, Мишка. Кент что надо!
– Хочешь яблоко? – И Мишка протянул Лаврику спелый розовощекий апорт.
***
Наконец с фронта на пару дней вернулся в Алма-Ату Сергей Аркадьевич Поляков. В военной форме капитана, с усами!
Сдал отснятый фронтовыми кинооператорами материал в отдел обработки пленки и помчался разыскивать Мику.
Очень Сергей Аркадьевич был встревожен всем, что ему рассказали про Мику – и вор он будто бы неуловимый, и сколько бы его ни арестовывали, все равно выпускать приходится. Такой профессионал стал в этом ужасном для интеллигентного мальчика деле!..
Сергей Аркадьевич бросился в звукоцех. Слава Богу, это было единственное место, где о Мике говорили хорошо и с жалостью. Не верили ничему, считали, что по отношению к Мике была совершена вопиющая несправедливость. И посоветовали Сергею Аркадьевичу поискать Мику на базаре – кто-то видел, как он сегодня помогал разгружать там какой-то фургон.
Сергей Аркадьевич побежал на базар. Но было уже поздно – солнце садилось в степь, а с гор на рынок наползали сумерки.
Пьяные инвалиды, в перезвоне медалей, вели толковище на пустынных рыночных столах, пили «Яблочное крепленое», матерились, старались перекричать друг друга, чтобы суметь рассказать про «себя» на войне, про «свое» ранение, про «свой» госпиталь, про всех «своих» баб и «своих» командиров!..
Редкие припозднившиеся продавцы уже убирали остатки своего товара, покидали рынок, опасливо обходя взвинченную «Яблочным крепленым» и своей безнаказанностью инвалидскую компанию. Ибо обычно после короткой истерики и крика «Я за тебя, суку, кровь проливал, а ты…» следовал взмах костылем и… Не было силы, способной противостоять такой грозной, изувеченной, нетрезвой и ни черта не боящейся шобле!
В отчаянии Сергей Аркадьевич бросился в самую гущу этих несчастных, пьяных, разнузданных, искалеченных войной одиноких людей, которым после фронта не оставалось места на этой земле. На земле, действительно пропитанной их собственной кровью…
– Чего, капитан, заблудился? – хрипато крикнул безногий, недавно сидевший с Микой в одной милицейской камере. Тот самый – с орденом Славы и медалью «За отвагу».
– Сына ищу, – дрожащим голосом проговорил Сергей Аркадьевич. – Он сегодня тут чей-то фургон помогал разгружать…
– А ты не из мусоров будешь?! – крикнул второй инвалид и отхлебнул из бутылки.
– Не! Тех я всех знаю; – усмехнулся безногий.
– Я только сегодня с фронта… И вот… – Сергей Аркадьевич вдруг неожиданно для себя всхлипнул и тут же ненатурально закашлялся, чтобы скрыть свою секундную слабость.
Инвалиды замерли. В упор смотрели на пожилого усатого капитана.
Потом один безрукий тихо спросил безногого, так, чтобы Сергей Аркадьевич не слышал:
– Мишка-художник, что ли?
– Угу… – так же тихо ответил безногий.
– Так он у чирчикских узбеков кавуны разгружает, – наклонившись к безногому, шепнул третий инвалид.
– А то я, ёбть, не знаю?! – оскорбленно прохрипел безногий и громко спросил у Сергея Аркадьевича: – Твоего-то как зовут, капитан?
– Мика… То есть Михаил. Миша… Поляков.
Инвалиды переглянулись. Кто-то протянул Сергею Аркадьевичу бутылку «Яблочного крепленого»:
– Хлебнешь, капитан?
Сергей Аркадьевич благодарно и не чинясь сделал глоток из горлышка, вернул бутылку и спохватился:
– Господи! Да что же это я?… – Открыл свою командирскую полевую сумку, вытащил оттуда бутылку водки, запечатанную белым сургучом, так называемую «белую головку», протянул ее инвалидам: – Возьмите, ребята.
Наступило гробовое молчание. Пауза затянулась. Наконец один хмыкнул и сказал:
– Ладно тебе, капитан. Спрячь. С пацаном встретишься – с ним и выпьешь.
– Мишка не пьет! – твердо заявил безногий с орденом Славы третьей степени и медалью «За отвагу». – Становь пузырь на лавку, капитан, и айда за мной! Счас мы разыщем твоего Мишку…
И безногий, не оглядываясь на Сергея Аркадьевича, быстро покатил на своей убогой деревянной площадочке с шарикоподшипниковыми колесиками, прямо через весь опустевший рынок к какому-то саманному строению под тростниковой крышей, около которого стоял крытый фургон, смонтированный на грузовике ЗИС-5.
С гулко стучащим сердцем Сергей Аркадьевич еле поспевал за безногим, глядя, как ловко отталкивается тот колодками на манер штукатурных мастерков с ручками. Для лучшего зацепления с земной поверхностью снизу «мастерки» были обиты кусками старых автомобильных шин с глубоким протектором…
***
Под тростниковой крышей – арбузы, арбузы, арбузы…
За колченогим столиком старый узбек в толстых очках и белой от соли пропотевшей тюбетейке щелкает на счетах, записывает в ученическую тетрадку одному ему ведомые цифры…
В кабине грузовика с фургоном спит умаявшийся шоферюга. Тюбетейка закрывает лицо. Видны из-под тюбетейки только черный ус и наголо обритый затылок…
Из пустого разгруженного фургона тянет прокисшим арбузным соком. Видать, не выдержали несколько штук перегона из Ташкента в Алма-Ату, лопнули, протекли. А тут – жара несусветная!..
За глиняным сараем с арбузами на пустых ящиках из-под яблок сидят Сергей Аркадьевич Поляков и Мика.
Курят папироски среднего комсостава «Норд».
На соседнем ящике Мика расстелил свою темную от пота рубашку – пусть сохнет. Пальцы дрожат от усталости. Шутка ли, вдвоем с водилой фургон разгрузили – четыре тонны арбузов.
– Боже мой… Что это с тобой? Где это тебя так? – со щемящей жалостью спрашивает Сергей Аркадьевич и оглядывает жилистого, исхудалого, вытянувшегося Мику с большими натруженными кистями рук.
– А-а-а… – Мика равнодушно машет рукой. – Плюнь, па. Не обращай внимания. Это скоро пройдет.
Но Сергей Аркадьевич не может отвести глаз от Микиной спины – вся в кровоподтеках и ссадинах. Да и бровь рассечена – в последний привод блатники в камере драку затеяли. Чуть совсем не пришили. Еле-еле отмахался. Да еще именем Лаврика припугнул…
– Бедненький мой сынуля!.. Как я счастлив видеть тебя…
– Папочка… – Голос у Мики сорвался. – Папочка!.. Ты только забери меня отсюда!.. Мне здесь так плохо…
– Но как?! – тоненьким голосом в отчаянии восклицает Сергей Аркадьевич. – Первый же комендантский патруль, который пойдет по вагонам, заберет тебя, и я ничего не смогу для тебя сделать!..
– Но я же твой сын, папа!
– Сыночек, любимый мой!.. У тебя нет ни пропуска, ни командировочного предписания!.. Микочка! Родной мой… Пойми, сынуля… Это выше моих возможностей… Прости меня, Бога ради!..
– Но я же твой сын, па…
– Скоро снимут блокаду… Я вернусь в Ленинград и сразу же пришлю тебе вызов!.. И мы снова будем жить вместе! Разыщем Милю…
Сергей Аркадьевич чуть не плакал. Он не верил ни одному своему слову – и блокаду снимут не скоро, и кто знает, попадет он сам в Ленинград или нет?…
Но сейчас эта мысль о вызове показалась ему спасительной.
– Сразу, сразу, сразу же я пришлю тебе вызов, сыночек мой единственный!..
Впервые в жизни Мика увидел своего отца таким слабым и беспомощным. Еще более беспомощным и жалким, чем тогда, когда Мика с температурой сорок отмывал бесчувственное пьяное тело Сергея Аркадьевича от мочи и блевотины.
Тогда в беспробудном и трагическом запое Сергея Аркадьевича была хоть какая-то иллюзорная попытка сопротивления судьбе, а тут…
– Куда?… Куда ты пришлешь вызов? – обреченно спросил Мика.
– Где бы ты ни был – я тебе сразу же туда и вышлю, – быстро проговорил Сергей Аркадьевич.
– А пока? – горько усмехнулся Мика и глубоко затянулся.
– А пока я оставлю тебе все деньги, которые у меня есть… Я привез тебе американских консервов, шоколад… Тоже американский. И настоящие английские солдатские ботинки. Такие высокие… Они у нас «Черчилли» называются. – И Сергей Аркадьевич попытался улыбнуться Мике.
Вот тут Мика окончательно понял, что снова остается один.
Он помолчал, низко опустив голову, выронил из обессилевших пальцев окурок, растер его о землю ногой и поднял на отца глаза, полные слез…
И в последний раз тихо спросил:
– А с тобой мне никак нельзя, папочка?…
***
Впервые Мика Поляков вместе с Лавриком «залепили скок», или, точнее, «взяли хату», заведующей городским отделом торговли товарища Ергалиевой Зауреш Мансуровны.
Микина «премьера» состоялась лишь в конце октября, когда Лаврик наконец уверовал в добротный результат полуторамесячного обучения Мики премудростям тонкого и опасного ремесла.
Как и полагается «премьерам», состоялась она не поздним и не по-осеннему теплым вечером, когда Зауреш Мансуровна находилась на затянувшемся заседании горкома партии по поводу предстоящей знаменательной даты Великой Октябрьской революции в такую тяжелую для страны военную пору.
В эти дни отделу торговли отводилась важная роль комплектования дополнительных праздничных пайков из продуктов высшего качества для высшего руководства города и особо высокопоставленных эвакуированных товарищей высшего эшелона науки и искусства.
На «хате» у товарища Ергалиевой З. М. взяли хорошо. Не слабо.
Брали только «наличняк» и «рыжье». То есть деньги и золото. И никаких шмоток!
Хотя там были и чернобурки первоклассные, и каракульча отборная, и бархатно-парчовое барахло разное. А уж обуви – лет на триста! Носить – не износить…
Ни к чему не притронулись. Все барыги стучат в уголовку, платят гроши, дескать, «а куды ты денешься, голубь сизокрылый?…», и поэтому с самого начала союза Мики и Лаврика было решено: с барыгами – никаких дел.
А «наличняк» есть «наличняк»… И золотишко сдать зубным техникам или врачам – дело самое разлюбезное. Их сюда со всей страны понаехало – тьма-тьмущая! Вся Средняя Азия тогда хотела иметь золотые зубы. И мужики, и бабы. Пацаны из местных богатеньких семей обтачивали у докторов свои молодые здоровые клыки, ставили на них золотые фиксы. Коронки такие… Потом ходили, не закрывая рот, слюной цыкали так, чтобы фикса была видна.
Пацаны, кто победнее, надевали медную коронку, «косили под блатных». Коронка зеленела по краям, и бедных мальчишек выворачивало наизнанку от купоросного отравления.
… В Алма-Ате «рыжье» Зауреш Мансуровны решили не сдавать. Береженого Бог бережет.
Поехали поездом за двести шестьдесят километров в Талды-Курган. Там «отоварили» одного бердичевского пожилого дантиста, как он сам себя называл, получили денежку, сели на автобус и поехали в Алма-Ату через Капчагай.
В Капчагае тормознулись на денек, пригляделись, что к чему, покрутились до вечера, стараясь никому не мозолить глаза, а под утро «взяли хатку» директора правительственного рыбсовхоза Капчагайского водохранилища. «Хатка» была в три этажа, в глубине сада, а сад был огорожен забором. Между забором и «хаткой» гуляли два жутких кобеля неизвестной породы.
Эти стражи директорского спокойствия очень странно отреагировали на появление Мики и Лаврика на их пространстве – между забором и домом. На Лаврика они просто не обратили внимания, а к Мике лезли целоваться, отпихивая друг друга.
Лаврик это как увидел, так сразу же за голову руками схватился и слова не смог вымолвить. А Мика, тоже несказанно удивленный, только пожал плечами и погладил псов по мордам. Те просто ошалели от счастья!
Накануне директор рыбсовхоза так набуздырялся со всей своей семьей и семьей военкома города по случаю полной отмазки старшего сына от призыва в действующую армию, что и ухом не повел, когда Мика на крепкой веревке опустился с крыши в открытое окно второго этажа, прошел через все комнаты, где храпели счастливые члены семьи отмазанного, спустился на первый этаж и бесшумно открыл Лаврику входные двери директорского дома.
Воровская примета, как, впрочем, и все приметы, была основана на опыте народа и на его же народной мудрости. Она гласила: «Деньги прячут в платяном шкафу на полках со стопками чистого постельного белья – под или в середине стопки, с правой стороны. Золотишко и камушки – в цветочных горшках. В земле или на самом дне, под землей».
Кстати, все золото, добытое в недрах роскошной квартиры заведующей алма-атинской торговлей, было извлечено из цветочных горшков с подлинно народным казахским орнаментом!..
То же самое произошло и с мудрым директором Капчагайского рыбсовхоза. Цветы в горшках у него не водились, а вот деньги были надежно спрятаны в платяном шкафу, на полках чистого постельного белья, в самой середке, между простынями и пододеяльниками. Именно справа. Ибо директор был, как и большинство людей на земле, правшой. Так какой рукой он укладывал под белье свои «рыбные» сбережения?… Правильно!
Оба раза примета сработала безотказно, что позволяло прочно уверовать в несокрушимую силу и мудрость народа. В том числе и воровского…
На смену естественному волнению и страху неожиданно пришло неестественное состояние опьяняющей безнаказанности! Мика совсем обнаглел: зашел на кухню, взял с плиты большой казан с остывшим бешбармаком – наваристым бульоном с плоскими кусками вареного теста и баранины и вышел в сад.
Псы при виде Мики хотели было залаять от радости, но Мика только посмотрел собакам в глаза и отрицательно покачал головой. И собаки молча облизали Мику, виновато поджав хвосты. А Мика поставил перед ними казан, погладил их и под благодарное собачье чавканье быстро перемахнул через директорский забор. Пораженный Лаврик последовал за ним.
…Упиханные пачками денег, полученными от бердичевско-талды-курганского дантиста и «экспроприированными» у счастливого директора Капчагайского рыбсовхоза, Мика и Лаврик, невыспавшиеся, издерганные ночной нервотрепкой, катили в Алма-Ату первым же утренним автобусом.
– Мишаня… А как это ты?… С волкодавами? – с интересом спросил Лаврик и прищурился, глядя на Мику.
Мика и сам недоуменно пожал плечами, ответил через паузу:
– А ч-ч-черт его знает… Понимаешь, я просто ОЧЕНЬ ЗАХОТЕЛ, чтобы они не залаяли…
***
А дальше пошло-поехало!..
И ведь действительно «поехало». Стали выезжать на гастроли в другие города, подальше от Алма-Аты. В Чимкент, в Джамбул, в Кентау…
Очень полюбилась Арысь. Такой узловой военно-тыловой госпитально-железнодорожно-эвакуационный перекресток. Начальства там жило – хоть отбавляй!.. Каждый хапал, как мог и сколько мог. Ну просто грех было такого не «обнести».
Однажды добрались даже до Семипалатинска, где километрах в пяти от городской черты, на берегу Иртыша, стояли тщательно охраняемые коттеджи партийно-хозяйственного актива области. «Тряхнули» их – немерено! Но и отрываться пришлось со взмокшей задницей. Чуть не перестреляли, как куропаток!..
Зато на обратном пути, в Усть-Каменогорске, шикарно «взяли» всю трехдневную выручку закрытого продовольственно-промтоварного распределителя для ответственных работников города и прилегающих к нему районов. Спокойненько, без шума, без стрельбы – то, что доктор прописал… Мика поболтал с охраной, как-то странно, по-своему, на них посмотрел – они и отключились. Слава Богу, не до смерти. Хотя Мика потом почти всю ночь плохо себя чувствовал: голова болела, тошнило, температурил…
Передвигались на всех видах транспорта того времени – от мягкого вагона еле волочащегося пассажирского поезда до несущихся платформ воинских эшелонов. От грузовых, полуторок и автобусов до транспортных самолетов «Ли-2»…
Перешерстили за полгода уж совсем дальние районы – Караганду, Темиртау, Аркалык.
В Алма-Ату всегда возвращались к Лавриковой «марухе» – Лильке Хохловой. У той свой деревянно-саманный домик на Курмангазы, в глубине квартала, за спинами пятиэтажных каменных многоквартирок. И садик маленький с яблоками у Лильки свой, и никто ее не трогает, как вдову погибшего воина Гвардейской Панфиловской дивизии, и никто не указывает ей, как и с кем жить вдове дальше…
А вдове всего-то двадцатый год! Выскочила за Серегу Хохлова в шестнадцать – как только паспорт дали, сразу же после «ремеслухи» и практики на камвольном комбинате. А уже в девятнадцать стала вдовой. И домик этот унаследовала. Хоть он и принадлежал когда-то родителям Сереги. Они после «похоронки» на Серегу в Гурьев переехали.
А что постояльцев к себе пустила, так вон в Алма-Ате крыши нет, под которой не жили бы посторонние люди. А куда им деваться? Война… А ейные ребята платят исправно, не безобразят, курят только в садике, в доме – ни-ни, а кто они такие, чем занимаются, ей, Лильке Хохловой, вдове героя-панфиловца, погибшего под Москвой, без разницы. Все чин-чинарём, все по закону.
Вот такая была легенда, где каждое второе слово было чистейшей правдой. Это на всякий случай. Если кто поинтересуется.
Еще до вселения Лаврика в Лилькин домик и уж совсем задолго до появления там Мики Полякова к бывшей невестке из Гурьева приезжали неутешные Серегины родители. Привозили рыбу – соленую, копченую, вяленую. Икру осетровую…
На второй раз отец погибшего Сереги заявился один. Напились они вместе с Лилькой на помин души погибшего Сереги-героя, а потом «батя» стал к Лильке под юбку лезть. Та ни в какую! Тогда он пообещал ей этот домик насовсем отписать. Лилька, не будь дурой, тут же и заставила его сочинить эту бумажку в лучшем виде и по всей форме. Ну а потом, само собой, переспала с отцом своего погибшего муженька. И, надо признать, с огромадным удовольствием!
Такой крепкий мужик оказался! Совсем Лильку загонял… Покойному Сереге рядом со своим папашкой в этом сладком деле рядом не стоять. До утра тесть не слезал с Лильки – то так ему подавай, то этак…
Лилька тогда и не знала всех этих приемов, которыми Хохлов-старший невестку охаживал. Ох уж эти гурьевские… И чего они такие здоровые?! С икры осетровой, что ли?…
А Лаврика она сразу полюбила. Как увидела на танцплощадке под звуки «Рио-Риты» в городском парке, который потом стал называться «Парк имени двадцати восьми героев гвардейцев-панфиловцев». Немного длинновато, но торжественно. А для Лильки особенно…
Ей в Лаврике все нравилось. И голубые полоски тельняшки из-под беленькой рубашечки-апаш. И пиджачок в талию. И дорогие хромовые сапожки в гармошечку с вывернутым поднарядом.
И обхождение – нежное, без привычного матерка, без непонятных блатных словечек. Уважительное – ресторанчик в парке, кафе в Оперном театре. И воровская таинственность, и подарочки маленькие, но очень ценные – часики золотые, колечко старинное с драгоценным камушком… Хоть и понимала Лилька, что не купленное это, а краденое, все равно любила Лаврика всей душой и, конечно, самое главное, всем своим молодым и крепким телом! Потому как Лаврик был не скаковой жеребец пополам с ненасытным кобелем вроде «бати» из Гурьева, а ласковый и внимательный к ейным чувствам и желаниям, очень чуткий, молодой и тоже очень крепкий человек!..








