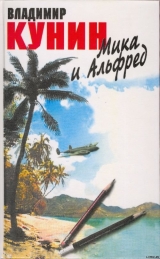
Текст книги "Мика и Альфред"
Автор книги: Владимир Кунин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
В рюкзаке у Мики оставались только похвальная грамота за участие в районной выставке детского творчества и диплом Ленинградского городского комитета физкультуры и спорта, выданный Михаилу Полякову как чемпиону Ленинграда по спортивной гимнастике среди мальчиков. И все.
– Ишь, чемпион гребаный… – проворчал один, разглядывая диплом и грамоту при свете ручного фонаря. – А почему без фотки? Откуда я должен знать, что ты эти фитюльки не спи… не спер где-то?!
– На такие награды фотографии не клеят, – слегка оправившись от первого испуга, попытался объяснить Мика.
Потом вспомнил всякие разговоры с участковым милиционером Васей о правах и обязанностях советских граждан, осмелел и спросил:
– А почему вы не показываете мне свои документы? Вы не в форме… Откуда я знаю, кто вы? По закону вы…
– А вот счас я тебе покажу – кто мы! – Он даже задохнулся от злости. – Савчук! Волоки этого законника в купейный! Счас мы тебе, сучонок, кой-чего почище документов предъявим… Ты у нас враз закрутишься, как уж на сковородке!!!
***
… Горло у Юры Коптева было перерезано, что называется, от уха до уха.
Он лежал на нижней полке купе, и его голова, почти отделенная от худенького тельца, неестественно-уродливо запрокинулась назад и свисала с полки прямо под столик с остатками немудрящей закуски и выпивки.
Юра лежал голый, даже не прикрытый ничем. Только грязненькая полосатая рубашка в уже побуревших кровавых пятнах, без воротничка, где было зашито наследство от покойной Юриной мамы, да еще на тощеньких, забрызганных кровью бело-желтых ногах Юры – старые толстые штопаные вигоневые носки…
И все. Ни его пижонских клетчатых брючишек, ни сиреневых кальсон с деньгами и документами.
При свете двух проводницких керосиновых фонарей на противоположной полке сидел пожилой милиционер-казах в форме, держал на коленях брезентовую полевую сумку и, положив на нее обычную ученическую тетрадку в косую линейку, составлял протокол «осмотра происшествия», тщательно и неторопливо выводя каждую букву.
А под ногами хлюпала застывающая Юрина кровь. Подошвы прилипали к линолеуму, а при малейшем движении отклеивались, потрескивая.
И вот это потрескивание отлипающих от пола подошв привело Мику в состояние невиданного ужаса! Он ничего не слышал, ни на что не мог ответить – его трясло в жесточайшем ознобе, и он слегка пришел в себя только тогда, когда пожилой милиционер-казах заставил его выпить теплой воды, а второй, в штатском, крепко встряхнул за шиворот:
– Ну, чего скис, законник? Гляди, гляди, как твоего корешка уделали… А то документ ему подавай! Говори, кто за ним приходил?
Спотыкаясь на каждом слове, Мика рассказал все, что знал и видел. На вопрос, как выглядели те «милиционеры», сказал, что помнит только двоих – русского и одного казаха. Третий все в окошко глядел и к Мике так ни разу и не повернулся.
– Ну, давай про тех говори, кого помнишь. Как выглядели, в чем одеты? – с сильным акцентом приказал пожилой милиционер.
– Ну, обычные… Веселые, – растерялся Мика. – В такой же форме, как и вы… Давайте я вам их лучше нарисую.
– Можешь? – недоверчиво спросил милиционер-казах.
– Он может! – заржал один в штатском и протянул пожилому казаху Микин диплом чемпиона и грамоту художественной выставки. – Он у нас все может! Ты, Кенжетай Нартаевич, не гляди, что он несовершеннолетний – у него мотовило, как у твоего ишака. Ежели бы мы его в тамбуре от какой-то посикухи не оттащили, он бы ее насквозь, как шашлык на шампур, натянул! Тут тебе и второй труп…
– Тьфу, шайтан! – сплюнул пожилой казах. – Зачем такой грязный язык имеешь?! Замолчи, пожалуйста. А ты… – Он заглянул в диплом и грамоту, прочитал Микино имя. – А ты, Михаил, не слушай его. Рисуй.
Протянул Мике полевую сумку и тетрадку с карандашом и рявкнул на тех двоих в штатском:
– Да прикройте вы этого-то чем-нибудь, аккенаузен сегейн! Пошуруйте у проводников – может, какой-нибудь мешковина найдется! А ты рисуй, рисуй, сынок… Не смотри туда.
Мика сел рядом с ним, поджал ноги, чтобы не касаться подошвами липкого от Юриной крови пола, и стал рисовать по памяти…
***
Спустя минут десять пожилой милиционер ткнул пальцем в один Микин рисунок и уверенно сказал:
– Равиль Шаяхметов – сын свиньи и собаки!..
Так же убежденно потыкал во второй рисунок.
– А это, епи мать, извиняюсь, шайтан попутал, Краснов! Только кличка забыл… Ой-бояй, сынок! Как живые… Полгода в розыске!
***
«…молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели…» – с тупой настойчивостью, непрошено и неотступно эта строчка почему-то ворвалась в Микино сознание. Что это были за стихи, он и понятия не имел… Может быть, отец когда-нибудь их читал Мике?…
Но тогда почему «зеленые», что за «желтые и синие»?…
Бред какой-то…
И Юру – этого хромого, тощенького, нелепого, с постыдными, нечистыми и болезненными отклонениями, которые иначе чем ругательством и не выразишь, – жалко было до комка в горле, до непролитых слез, до дрожащего и прыгающего расплывчатого света фонарей в мокрых глазах.
В замкнутом вагонном пространстве, где ты напрочь связан с другим человеком одним направлением движения, одной железнодорожной судьбой, когда вместе с ним за грязными вагонными стеклами вы открываете для себя новые города и, хотя бы со стороны, на ходу, постигаете новые и чужие жизни, – этот человек за восемь томительных суток вагонного бытия становится тебе дорог, порой даже незаменим. Особенно если в этом временном мире он был для тебя единственным другом, нянькой и беспредельно доверял тебе, шепча на ухо то, в чем, может быть, никогда не признался бы никому из посторонних…
Полночи прочесывали спящие вагоны. Мику взяли с собой – для досконального опознания.
– Стой за мной, – сказал ему пожилой милиционер-казах. – А то они быстро стреляют. И ножиком, сам видел, очень хорошо могут. Увидел – молчи. Только сзади наступи мне на ногу два раза.
– А почему два раза? – удивился Мика.
– В темноте споткнуться можешь – наступишь один раз, а я выстрелю. Ошибка мал-мал будет. Хорошего человека могу застрелить. А два раза наступишь, я точно буду знать, что ты хочешь этим мне говорить, – объяснил Мике пожилой милиционер и переложил наган из кобуры в карман шинели.
***
Так никого и не нашли. Проводник восьмого вагона говорил, что два милиционера в начале ночи спрыгнули из его вагона на каком-то разъезде. А казахи они были или русские – в темноте не разобрал…
Измотанные бессонницей, уставшие от бесполезных поисков трое настоящих милиционеров и Мика мрачно возвращались в тот жуткий купейный вагон – закончить формальности. В Джамбуле стоянка долгая – можно и труп в морг отправить, и все остальное доделать, что положено в таких случаях…
Впереди шел пожилой казах в милицейской форме, за ним Мика, а уже за Микой – те двое в штатском.
Мика шел и плакал. Шел и очень горько плакал…
Без всхлипываний, без причитаний, без истерики. Плакал как-то внутри. Только слезы были снаружи.
Плакал о маме, которую любил гораздо меньше отца и в болезнь которой так и не сумел поверить до конца…
Плакал об отце, которого любил гораздо сильнее, чем мать. Все вспоминал его дрожащие пальцы и нелепые, неумелые попытки взбодрить Мику, маму, да, наверное, и самого себя на запасных путях Московского вокзала. Хотя Мика видел, что папе просто хотелось завыть от горя…
Плакал Мика и о домработнице Миле, которая была старше Мики чуть ли не вдвое, а так нежно, так заботливо, так целомудренно приоткрыла ему ту прекрасную и таинственную сторону человеческой жизни, которую почему-то нужно было всегда считать постыдной и грязной…
Плакал Мика и о Юре Коптеве – страшно, чудовищно и дико закончившем свою странную и не очень счастливую жизнь…
Слезы затуманивали глаза, заливали лицо, и Мика вокруг себя уже ничего и никого не видел.
Ничего, кроме широкой спины милиционера-казаха, шедшего впереди.
И эта спина в мешковатой синей шинели вела Мику из вагона в вагон.
Может быть, если бы не эта синяя спина, перехваченная ремнем с кобурой, Мика вполне мог бы сейчас умереть от безысходной тоски и одиночества…
Двое в штатском решили еще раз проверить мягкий вагон и отстали. А Мика пошел за широкой милицейской спиной дальше.
На переходе из одного вагона в другой, когда стук колес и железный грохот не давали расслышать ни одного слова, старый милиционер остановился, обернулся, увидел Микино лицо и ничего не сказал. Ни единого слова утешения. Только порылся у себя под шинелью, вытащил белый мешочек, развязал его и дал Мике несколько коричневых жареных шариков величиною с грецкий орех.
– Кушай! Это боурсаки. Наш казахский кушанье. Тесто в масле мамашка никогда не варила? – пытаясь пересилить стук буферов и, канонаду рельсовых стыков, прокричал старый милиционер.
– Нет! Никогда! – закричал ему Мика сквозь грохот и слезы.
– Вкусно? И вот это… – Пожилой казах в синей шинели достал из мешочка бело-серые твердые катышки. – Курт называется! Козье молоко под пресс сушеное. Курт кушаешь – батыр будешь!
– Спасибо! – прокричал Мика, утирая слезы и шмыгая носом.
***
Хрумкая жесткими комками солоноватого курта, Мика шел за широкой милицейской спиной, продираясь сквозь сонные храпы и сопения, сквозь ночные стоны старух и слабенький плач непроснувшихся младенцев, сквозь ватную, душную завесу устоявшихся теплых вагонных запахов очередного общего, жесткого и бесплацкартного.
Предутреннее темно-серое небо просачивалось в мутные вагонные стекла и тоскливым, землистым светом покрывало лица спящих, испуганных людей, так неожиданно выплеснутых из своих домов в неведомое и незнаемое…
И вдруг!..
Вдруг что-то в мире и в голове у Мики переменилось…
Будто Кто-то властно взял его за плечи, развернул, а некая Высшая Сила заставила Мику поднять глаза и не шарить по полкам растерянным взглядом, а с необъяснимой точностью посмотреть именно на третью – багажную – полку предпоследнего вагонного отсека!
А там за двумя солдатскими «сидорками» и одним большим фибровым чемоданом с фигурными железными углами, вжавшись в стенку и накрывшись чьей-то солдатской шинелькой, лежал тот самый русский «милиционер», который и увел в свой купейный вагон несчастного Юру Коптева!
Не мигая, он смотрел Мике в глаза, улыбался и прижимал указательный палец к губам, как бы говоря Мике: «Ни звука!», а между двумя зелеными солдатскими вещевыми мешками торчал ствол его пистолета, направленный Мике прямо в лицо…
…а Мика видел, как лежит в купейном вагоне ужасно мертвый Юра Коптев с перерезанным горлом…
…голый – в одних штопаных вигоневых носках и кровавой рубашке с оторванным воротником…
…и так ужасно свисающая под столик Юрина голова, почти отделенная от его худенького и грешного тела…
…и даже услышал треск подошв, отлипающих от застывшей Юриной крови на полу купе…
Яростная, мутная, могучая сила чудовищной болью на мгновение сдавила голову тринадцатилетнего Мики, все его существо заполнилось дикой СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЙ НЕНАВИСТЬЮ к этому улыбающемуся убийце в милицейской форме, готовому выстрелить в любую секунду.
А тот был так уверен в своей безнаказанности, что даже добродушно подмигнул Мике. Словно они были с ним заодно.
Вот когда Мика, охваченный уже знакомым сумасшедшим жаром, следуя Высшему Велению, внезапно возникшему в его мозгу, совершил ВТОРОЕ УБИЙСТВО в своей коротенькой, но странной жизни: не отрывая глаз от того – на третьей багажной полке, Мика бесстрашно и негромко сказал:
– ТЕБЯ НЕТ, СВОЛОЧЬ!!!
Откуда он знал, что убьет ЕГО раньше, чем ТОТ успеет выстрелить, Мика понял только спустя много лет.
Он видел, как из разжавшихся, УЖЕ МЕРТВЫХ, пальцев бандита на пол вагона упал пистолет. Но звука его удара об пол Мика не услышал – падение пистолета совпало с его выстрелом…
***
…Всю свою последующую долгую жизнь Мика Поляков твердо помнил: нельзя ронять оружие со взведенным курком и снятое с предохранителя. Ибо в таком виде оружие стреляет самостоятельно даже после СМЕРТИ ЕГО ХОЗЯИНА. И тут возможен любой, самый несчастный слепой случай.
Нет, нет, в этот раз все обошлось благополучно – под нижней полкой пуля вошла в чей-то фанерный чемодан, там пробила вышитую болгарским крестом маленькую подушку-думочку и расплющилась об огромную чугунную сковородку. Где и окончила свой безумный и безжалостный путь.
Обессилевшего Миху пожилой милиционер-казах отволок на руках в соседний вагон к проводникам, а двое других милицейских в штатском, прибежавших на выстрел, остались в том вагоне – успокаивать народ и стаскивать мертвеца с третьей багажной полки.
Ни денег, ни документов Мики Полякова и Юры Коптева у того не оказалось. Зато немудрящие драгоценности покойной Юриной мамы, перепачканные Юриной кровью, обнаружились в левом верхнем кармане темно-синего маскарадно-милицейского кителя.
А когда первый перепуг от неожиданного выстрела прошел и мертвый бандит уже лежал в тамбуре, дожидаясь стоянки в Джамбуле, вагон еще долго не мог успокоиться:
– Такой молодой – и на тебе…
– Здоровущий то какой, видели?! А сердце ни к черту.
– Видать, мученическую смерть принял – эк его перекосодрючило!
– Боженька, он все-е-е видить и ведаеть…
***
В Джамбуле в одном кузове полуторки увезли оба трупа – и Юры Коптева, и его убийцы.
Вызванная местная оперативная группа хотела и Мику снять с поезда и отправить в джамбульский детприемник для несовершеннолетних беспризорных и бродяжек без документов, подтверждающих их замурзанную и вечно голодную личность.
Но пожилой милиционер-казах сказал:
– Не надо. Пусть Алма-Ата едет. Может, там свой мамашка с папашка встретит.
Сам пошел к военному коменданту железнодорожной станции города Джамбула и через час вернулся в вагон с кульком сахара, двумя гигантскими хлебными лепешками, банкой американской тушенки и пакетом яичного порошка.
А еще принес Мике два документа: воинский продовольственный аттестат для получения «продпитания» на всем пути следования до «ж/д станции Алма-Ата» на имя Полякова Михаила Сергеевича и «Справку личности», в которой было написано, что в связи с хищением документов Полякову М. С, года рождения такого-то, уроженцу города такого-то, на время следствия по делу о разбойном нападении и пропаже подлинного метрического свидетельства выдана настоящая «Справка личности», записанная со слов самого Полякова Михаила Сергеевича.
Эти три милиционера – один пожилой казах в форме и двое помоложе в штатском – тоже сошли в Джамбуле. Попрощались, пожали Мике руку, пожелали найти родителей и ушли.
А один вернулся, встал на первую вагонную ступеньку, повис на поручнях и поманил к себе стоящего в тамбуре Мику.
Мика наклонился к нему, и тот по-свойски сказал:
– Мишк, а Мишк! Ты эту деваху, ну… с которой мы тебя ночью-то сдернули… Ты ее до Алма-Аты все ж употреби! Я тута утречком поглядел, как она на тебя зырит – ну сохнет вся, бедолага… Так что давай, Мишаня, – за Родину, за Сталина! И вперед!!! Нехай хоть кому-то хорошо будет…
***
Алма– Аты Мика Поляков даже не увидел.
Сразу же по прибытии состава на станцию Алма-Ата-вторая товарная Мика Поляков, как назло, попал под большую воскресную облаву. Переночевал вповалку с еще сотней пацанов на провонявшем мочой глинобитном полу детского приемника Управления милиции при Совете Народных Комиссаров Казахской ССР, а наутро проснулся и обнаружил, что его рюкзак – с грамотой художественной выставки и дипломом чемпиона по гимнастике среди мальчиков, со всеми его запасными рубашечками, курточкой, штанами, теплыми носками и трусиками, где на каждой вещичке заботливой Милиной рукой были вышиты «М» и «П», – бессовестно и безвозвратно украден…
Украден вместе с воинским продовольственным аттестатом, который все равно был действителен только до Алма-Аты. Но Мика очень хотел оставить его на память. Не вышло.
Сохранилась только «Справка личности», выданная Мике в Джамбуле. Она была спрятана в нагрудном карманчике под свитером. Но и справка эта сыграла роковую роль: там было не очень внятно написано, что она выдана взамен утраченного метрического свидетельства на время следствия по делу о разбойном нападении…
Замороченная комиссия детприемника посчитала, что «разбойное нападение» было совершено Микой. А из-под следствия он просто сбежал. И, не задаваясь вопросом, откуда у него на руках оказалась подобная справка, алма-атинская комиссия по делам несовершеннолетних мгновенно и мудро решила исправить оплошность своих джамбульских коллег, и Поляков Михаил Сергеевич, четырнадцати лет, – именно в этот гнусно-знаменательный день Мике исполнилось четырнадцать! – вместе с десятком таких же подозрительных и завшивевших пацанов был отвезен в глухом милицейском «воронке» с надлежащей «сопроводиловкой» и вооруженным конвоем километров за тридцать от Алма-Аты в поселок Каскелен, в детскую колонию для Т/В (трудновоспитуемых) подростков.
***
«Трудновоспитуемым» Мика Поляков оказался не для начальства колонии и учителей их внутренней, по существу, тюремной, школы, а для своего собственного мальчишечьего окружения.
В вежливом, неприблатненном и интеллигентном Мике начальство души не чаяло! Он и стенгазеты рисовал на диво, и в седьмом классе учился на одни пятерки – благо в колонии учебные требования были сознательно занижены, и в спорткружке занимался, а спустя пару месяцев на слух, без нот стал даже играть в колонистском духовом оркестре на трубе две самые главные в то время мелодии – «Туш» и «Интернационал»…
За что дождался высшей похвалы руководителя оркестра – старого алкоголика-тромбониста:
– Это ж ебть, мать честная – какой слухач?! А?! Не пацан, а уникум, бля! Дайте времечко – Яшка Скоморовский может свою золотую трубу в жопу себе засунуть… Ему скоро рядом с моим Мишаней делать не хера будет!.. Мишаня! Ты хоть знаешь, кто такой Яков Скоморовский?
– Нет, – честно отвечал Мика.
– Первая труба в эсэсэсээре! Лучше его нету!.. Хоть и еврей… А ты, случаем, не из евреев? А, Мишка?
– Наполовину. У меня мать русская, а отец – еврей.
– Ну… Ничего. Бывает… А только здесь ты про это – никому! Тута этого не любят, дурачье поганое.
***
Спустя месяц Мику вызвал к себе «кум» – воспитатель по оперативной работе. А «кум» – что в тюрьме, что в лагере, что в колонии, что в таком детском доме – он повсюду «кум». Его работа – кого кнутом, кого пряником – ЗАСТАВИТЬ СТУЧАТЬ НА СВОИХ!
Этот «ловец душ» просчитал все по науке, с обязательным учетом «психологии подросткового периода». Как учили когда-то «кума» в одном спецучреждении. Раз к тебе хорошо относится начальство, остальные тебя будут на дух не переносить. Как говорится, единство противоположностей… А раз так, то ты по законам военного времени как миленький будешь давать на них интересующую нас информацию.
– Договорились, Поляков?
Мика подумал, подумал, ухмыльнулся, потер пальцами виски, будто пытался избавиться от внезапной головной боли, и неожиданно посмотрел на «кума» так, что тот чуть не обмер со страху!
От охватившего его безотчетного ужаса «кум» буквально потерял рассудок!!!
***
… Он вдруг увидел собственные похороны…
…неглубокую промерзшую могилку, крышку некрашеного гроба из плохо обструганных старых досок, прислоненную к уродливо-голой древней саксаулине…
…себя увидел в гробу… бело-серое лицо, закрытые глаза…не в гражданском, как было положено ходить в колонии, а в своем военном, с одиноким кубиком в каждой петлице…
…и снег падал ему на руки, скрещенные на парадной гимнастерочке, на лицо ему падал снег, и самое жуткое, что увидел «кум»: НЕ ТАЯЛ снег у него на руках и лице!.. НЕ ТАЯЛ.
***
И стало «куму» во сто раз страшнее, чем тогда, когда недавно «наверху» решали – отправить его на фронт или оставить при колонии.
«Кум» тогда трое суток квасил по-черному – все Бога молил, чтобы на фронт не загреметь! Откупился бабой своей молоденькой – подсунул, слава те Господи, под кого нужно, и остался в Каскелене.
А тут, от этого четырнадцатилетнего выблядка, сопляка-полужидка, на «кума» вдруг таким смертным холодом повеяло, что за одно мгновение «кум» чуть умом не тронулся от кошмарных видений – и зачем он вызвал этого страшного пацана «на беседу»?!
Еле нашел в себе силы прохрипеть:
– Ты… ты, Поляков, иди себе… Иди. Ошибся я…
***
В отличие от «кума» Мике понравилась эта встреча. Она дала ему возможность сделать небольшое, но очень важное открытие. В самом себе.
Еще тогда, когда отец привез его из больницы Эрисмана домой и Мика спросил Сергея Аркадьевича, не сильно ли он, Мика, изменился, он уже подсознательно чувствовал, что та подленькая подножка Тольки Ломакина, тот сильный удар о дубовую дверь учительской, те мучительные головные боли и нестерпимый жар (не подтвержденный ни одним термометром!), так донимавшие его в больнице и так же внезапно прекратившиеся, кроме шрама на голове, наделили Мику Полякова еще чем-то ОСОБЕННЫМ и НЕОБЪЯСНИМЫМ…
Он чувствовал, что с ним ЧТО-ТО произошло! Что-то он приобрел такое, чем не обладает никто. А вот ЧТО – понять никак не мог… Даже после того как он УБИЛ Толю Ломакина, он ни черта не понял. Правда, раза два ему приснилось, что ОН УБИВАЕТ Толю Ломакина и потом зарывает его в помойке во втором дворе своего дома… И оба раза его больше всего во сне волновало, что на скрип противовеса железной крышки помойки сбегутся все жильцы их дома и поймут, что Толю Ломакина убил именно он – Мика Поляков!
Каждый раз он просыпался в холодном поту, с сильным и неровным сердцебиением и с ОБЛЕГЧЕНИЕМ вспоминал, что Толя Ломакин уже мертв и похоронен на Волковом кладбище.
Наверное, какое-то понимание того, что ему подарило то сотрясение мозга, пришло к нему в тот момент, когда он увидел Юру Коптева с перерезанным горлом. И то это было на уровне обострившихся смутных ощущений НЕВЕДОМОГО.
Зато когда эта же неведомая и странная сила заставила Мику тогда в вагоне повернуться и на третьей багажной полке увидеть улыбающиеся глаза бандита, зарезавшего Юру, и черную смертоносную дырку ствола пистолета, он почувствовал, чем вознаградила его судьба за тот удар головой о тяжелую дубовую дверь учительской!
***
Понять и разложить по полочкам все, что с ним произошло в детстве, Михаил Сергеевич Поляков смог только в очень зрелые годы. А пока…
***
Ну откуда Мике Полякову в его щенячьем возрасте знать было о высшей нервной деятельности и физиологии мозга? Откуда ему знать, что в секунды диких потрясений страшные и могучие силы, дремлющие в тебе до поры до времени, могут неожиданно высвободиться, взорваться всею своею мощью, и тогда…
…родится невиданный и неповторимый спортивный рекорд!..
…или, наплевав на земное притяжение, в воздухе повиснет стакан с водой!..
…или человек вдруг приобретет способность ОДНИМ МЫСЛЕННЫМ и неукротимым желанием УБИТЬ другого человека!..
Однако для этих потусторонних Божьих фокусов не всегда нужны нервные потрясения, от которых можно и самому окочуриться. Такие возможности могут быть у человека и врожденными, и благоприобретенными. Если, конечно, способность УБИВАТЬ можно назвать «благоприобретением»…
Но несмотря на полное отсутствие у Мики каких-либо знаний о высшей нервной деятельности, свое ВТОРОЕ УБИЙСТВО, в вагоне, Мика совершил абсолютно сознательно!
***
А сегодня у «кума» в каптерке Мика сделал еще одно открытие.
Оказывается, мелкую тварь вроде этого паскудного «кума» совсем не обязательно лишать жизни. Достаточно посмотреть на него и отчетливо представить себе его УЖЕ ПОКОЙНИКОМ. И тогда любой говнюк обязательно увидит себя глазами Мики – МЕРТВЫМ!
Испугается, как говорится, до смерти и от страха, может быть, станет хоть немного, но лучше…
«Убивать нужно только в самом крайнем случае, – подумал Мика. – Когда просто нету другого выхода…»
А спустя несколько дней, к сожалению, представился и этот случай. Когда другого выхода просто не было. Как тогда – в вагоне…
***
Накануне Мика услышал по местному русско-казахскому радио, что столица Казахстана Алма-Ата расселяет в гостинице «Дом Советов» эвакуированных мастеров художественного и документального кино, а самые большие помещения Алма-Аты – старый оперный театр и кинотеатр «Алатау» – отданы под ЦОКС. – Центральную объединенную киностудию, под крышей которой отныне и будут работать вышеозначенные эвакуированные московско-ленинградские кинематографисты. Ибо еще Владимир Ильич Ленин сказал, что «…для нас важнейшим из всех искусств является КИНО!»…
– Мне в Алма-Ату нужно, – сказал Мика своему воспитателю. – Родителей найти. Я по радио слышал, что они должны бьии уже приехать в Алма-Ату.
– Ты про своих родителей по радио слышал? – недоверчиво спросил воспитатель.
– Не про них конкретно, а вообще про тех, кто работает в кино.
– Ишь ты! «Конкретно»… – Воспитателю очень понравилось это слово, и он с удовольствием повторил его еще раз: – Смотрите, пожалуйста, – «конкретно»!.. Ну ты, Поляков, даешь! Ну раз «конкретно», то пошустри, узнай, не идет ли какая наша машина в Алма-Ату, и с ей же вернешься обратно. Понял?
***
… На следующий день Мика трясся на железной скамейке детдомовско-тюремного «воронка», бежавшего в сторону Алма-Аты. Но не за пополнением «т/в подростков», а за старыми солдатскими одеялами, списанными отделом вещевого снабжения военного округа и переданными в дар Каскеленскому детдому.
В кабине «воронка» рядом с шофером сидел заведующий складом детдома – однорукий недавний старшина батареи противотанковых «сорокапяток».
А в кузове с двумя крохотными зарешеченными окошками по бокам и одним «смотровым» в кабину, кроме Мики Полякова, ехали двое шестнадцатилетних паханов, державших в страхе чуть ли не всех детдомовцев и их воспитателей. Ехали они прошвырнуться «по воле», а заодно и погрузить одеяла на складах военного округа.
Им было наверняка больше шестнадцати. Взяли их без документов, возраст записали со слов, и в детдоме они явно «косили» от армии, существуя среди малолеток свободно, сытно и раскованно.
Вокруг них постоянно кучковалась компаха бесстрашных «шестерок» – десяти-двенадцатилетних пацанов. Паханы приучили их «смолить косуху» – курить анашу; спаивали араком – вонючим самогоном из кормовой сахарной свеклы, а потом делали с малолетками разные мерзости…
За что не давали малолеток в обиду другим пацанам. И шестерята служили своим буграм верой и правдой, наушничеством и мелким воровством.
Одного такого – одиннадцатилетнего Валерика – паханы взяли с собой и в Алма-Ату. Сгонять за папиросами, чего-нибудь стырить по мелочи, и вообще – чтобы был «под руками». Мало ли чего паханам захочется на обратном пути, валяясь на куче старых одеял, когда «смотровое» окошечко из кабины будет завалено грузом…
С одноруким завскладом Микин воспитатель договорился так: они высаживают Мику прямо у дверей гостиницы «Дом Советов» и оттуда же забирают его, когда погрузятся и поедут обратно в Каскелен.
Мика же ждет машину именно там, где его высадили. И точка!
Шаг вправо, шаг влево будут считаться побегом, а по законам военного времени… Ну и так далее. Так что давайте будем сознательными!
***
… По дороге в Алма-Ату паханы вяло расспрашивали Мику про Ленинград и про его художественную школу.
Но все, что они слышали от Мики, было им настолько далеко и чуждо, что каждый Микин ответ вызывал у них презрительный смешок и какие-то, понятные только им, переглядки.
А маленький Валерик, это растленное дитя, напряженно смотрел в лица своих покровителей и, уж совсем не понимая, о чем идет речь, вовремя и заискивающе подхихикивал паханам…
***
Гостиница со столь пышным и неуклюжим названием «Дом Советов» оказалась длинным, невзрачно-розовым невысоким трехэтажным зданием.
Вход в гостиницу был в самом начале дома – пять ступенек вверх, облупившийся цементный козырек над входом, а у дверей – швейцар на протезе, весь в тусклых золотых галунах.
Мику в гостиницу не пустили. То ли швейцару не понравился Микин серый стеганый молескиновый бушлат и стоптанные солдатские ботинки с сыромятными шнурками, то ли «не показалась» стираная солдатская шапка из искусственного утеплителя, то ли общий вид Мики Полякова не соответствовал вкусам этого швейцара, но внутрь, к стойке администратора, которая находилась в фойе точно перед входом в гостиницу – и Мика ее отчетливо видел, – он допущен не был…
Мика сел на ступеньки и, еле сдерживая слезы обиды и бессилия, стал вглядываться во входящих и выходящих из гостиницы московско-ленинградских людей – не встретится ли кто-нибудь из знакомых его мамы и папы.
Или – что уж совсем было бы потрясающим – чтобы сейчас из глубины фойе, прямо от администраторской загородки, на выходе появились бы сами мама и папа! И тогда Мика бросился бы к ним навстречу и…
Но в эту секунду сквозь закипающие слезы Мика увидел маминого и папиного приятеля – сценариста Ольшевского! Алексея Николаевича Ольшевского, красивого щеголя, по сценарию которого папа когда-то снял не бог весть какой, но все-таки художественный фильм и с которым у Микиной мамы, кажется, был невнятный скоротечный роман, кончившийся ничем…
Ольшевский, не потерявший своего вечного щегольства и привлекательности, шел из магазина, где отоваривал свои продуктовые карточки. Он бережно нес сетчатую кошелку-авоську, набитую пакетами с пшеном и сахаром, хлебом и консервными банками.
Мика встал ему навстречу со ступенек и дрогнувшим голосом тихо сказал:
– Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Ольшевский даже не услышал, что Мика назвал его по имени и отчеству! Он испугался чуть ли не до потери речи, подхватил свою авоську с продуктами, крепко прижал ее к груди двумя руками и, оглядываясь по сторонам в поисках защиты от такого нападения среди бела дня, громко и бессвязно заговорил:
– Что?! Что такое?! Зачем! Что тебе нужно, мальчик?! Почему?! У меня ничего нету!.. Я ничем не могу тебе помочь!..
Мику чуть не вытошнило от отвращения. Слез как не бывало.
– Я – Мика Поляков, Алексей Николаевич. Сын Сергея Аркадьевича, и…
Мика замолчал. Продолжать не имело смысла. Он видел испуганные прозрачные голубые глаза Ольшевского, и от этого Мике стало так одиноко и тошно, что и не высказать!..
А Ольшевский потрясенно разглядывал Мику, потом лицо его, сохраняя все то же испуганное выражение, приобрело некоторые черты осмысленности, и он неожиданно забормотал плачущим голосом:
– Боже мой, Мика… Я же вас совсем не узнал!..
***
К себе не пригласил. Не спросил – голоден ли. Не нужна ли помощь. Обращался к Мике почему-то на вы.
Тут же, на гостиничных ступеньках, под недреманным швейцарским оком, рассказал, что будто слышал от кого-то – Поляковы задержались в Свердловске. Матери стало хуже. Когда приедут – этого никто не знает. Не задал Мике ни единого вопроса. Все прижимал свою авоську с продуктами к груди. Двумя руками.








