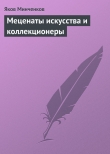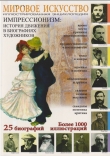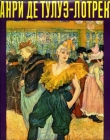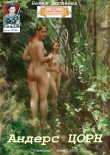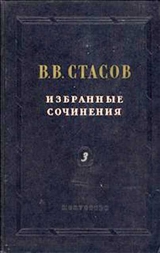
Текст книги "Хороша ли рознь между художниками?"
Автор книги: Владимир Стасов
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Однакоже далеко не все были на стороне отщепенцев. Множество художников, критиков и даже значительная доля публики были против них. Обычный обозреватель выставок в журнале „L'Art“ Поль Леруа писал про первую выставку на Марсовом поле: „Архитекторы тщательно воздержались от участия в этой отщепенской затее (cette aventure sécessionniste), о которой большинство из примкнувших к ней горько сожалеют. Нам объявил это один очень достойный человек, давший увлечь себя: он вообразил себе, что тут дело будет итти о художественном заявлении, свободном от всякой примеси. И это доказывает, лучше всяких комментариев, насколько хорошо и разумно воздержание архитекторов. За исключением очень небольшого меньшинства, скульпторы, офортисты и литографы, хорошо помня, что единение составляет силу, последовали примеру архитекторов… Едва вы войдете на выставку, как еы уже чувствуете какую-то провалившуюся, неудавшуюся манифестацию. Говоришь себе: не стоило изображать собою братьев-врагов под фальшивым предлогом уважения к искусству, оскорбленного патриотизма и т. д. и добиться только выставки вовсе не избранной, не капитальной. Входишь в галереи живописи, и уже ничего более не ожидаешь, кроме полного фиаско…“ Когда таково уже заранее готовое убеждение, нет ничего удивительного, что Леруа все опорочивает и оплевывает на выставке, одинаково и картины, и статуи. Он говорит, что пускай настоящая французская выставка этого года, та, что в Елисейских полях, и слаба на нынешний год, а все-таки куда слабее эта незаконная, несчастная выставка Марсова поля. Ничто его не удовлетворяет: ни скульптура Далу и Родена (лучших современных французских скульпторов), ни великолепная картина Мейсонье (тогда еще живого) „1806 год“, ни картины Лермитта, который, по словам критика, начинает пугать его, ни картины Пювис де Шаваня, Казена, Куртуа, Кутюрье и т. д., и т. д., – никто и ничто не заслуживает его благоволения; даже такие выдающиеся иностранные художники, как немец Уде, голландец Скредвиг и другие, не в состоянии унять его задор и антипатию: первого он, конечно, слегка и похваливает (son originalité propre lui procure de si legitimes succès), но тут же обвиняет его в окарикатурении Израэльса: второго обвиняет в преувеличении красочных эффектов (M-r Skredvig s'est livré à une débauche de colorations féroces), и, наконец, в заключение всего восклицает: „Список мой вышел бы бесконечен, если бы я стал продолжать обозрение всех мертворожденных или нездоровых произведений этой выставки“.
по, к счастью, далеко не вся французская публика и не все французские критики были столько же близоруки, злобны и мстительны за отпадение целой большой группы художников, как Леруа и ему подобные. Один из важнейших критиков „Gazette des beaux-arts“, Мабильо, совершенно иначе относился к отделившимся. Далекий от негодования и преследования, он громко провозглашал: „Кто бы что ни думал о причинах, заставивших французских художников разделиться на две независимые группы, надо признаться, что этот кризис привел к самым неожиданным и счастливым результатам“. Мысль о разделении, явившаяся по нечаянности, вследствие личной ссоры, представляла явные опасности. В этом можно теперь признаться, потому что благодетельная судьба и человеческие усилия так хорошо одолели их. Так, например, можно было опасаться, что публика испугается все более и более увеличивающейся требовательности художников насчет того, чтоб на них обращали внимание, и решив, что мера переполнена, откажется итти за живописцами на ту почву борьбы, которую они теперь для себя избрали. Но на деле вышло совсем противное. Тот немного вялый интерес, с которым светские люди относятся обыкновенно ко всем художественным делам, вдруг оживился по поводу неожиданных вопросов, выдвинувшихся тут вперед; даже самые равнодушные люди нашли вдруг забавным, чтобы вместо одной выставки было их две, которые можно сравнивать одну с другою. Одним словом, новое событие принесло разочарование только одним мрачным пророкам: прежнее художественное общество ничуть не потеряло прежнего своего места, а новое завоевало себе совершенно новое место. Сокровища, симпатия и любопытство, посвящаемые им публикой, – неистощимы! Если же обратиться к одним только „отщепенцам“ Марсова поля, то представлялось сомнение более серьезное: найдут ли они среди своего кружка достаточно средств для того, чтоб оправдать разрыв? В рассуждениях об искусстве единственные веские доказательства – это сами создания. Вот потому и спрашивалось: будут ли эти художники настолько богаты своими произведениями, что их неожиданная выставка не будет иметь надобности в разных вспомогательных средствах? Не будут ли они принуждены отыскивать себе рекрутов среди тех, кого с презрением отвергла традиционная выставка Елисейских полей? Но и здесь дела поворотились как не надо лучше. При первой вести о том, что приготовляется манифестация истинно либеральная и независимая, многие художники, лет по двадцати не выставлявшие своих картин, вдруг снова появились, но тут же выступили вновь и другие, еще вовсе не известные, и принесли с собою многочисленность и оригинальность картин. Впрочем, совет очень рассудительно решил: не хлопотать единственно только о том, чтоб целиком набить все галереи, отведенные им щедрой парижской думой: он благоразумно воспользовался своим правом избрания и допустил всего только девятьсот картин, тогда как общество Дворца промышленности (Елисейских полей) торопливо скопляло целых две тысячи четыреста, чтобы только раздавить соперницу. Это благоразумное воздержание сделало то, что все художественные произведения получили свое настоящее значение. Быть может, еще в первый раз с тех пор, что существуют выставки, публика увидала феномен: живописцев, посылающих на выставку такие вещи, какие они сами хотят, развешивающих их, как сами хотят, устраивающих себе освещение и соседей, как сами того хотят. Результат всего этого – необыкновенно любопытен, и какие бы ни были будущие судьбы „раскола“, этот урок наверное будет пользителен. Устроители Марсова поля мечтали о настоящей выставке и осуществили ее; они употребили на это громадные сокровища изобретательности и вкуса. Зато публика и критика в один голос поздравили г. Дюбюфа, который вместе с гг. Каролюсом Дюраном и Дюэцом изготовили эту мастерскую и роскошную декорацию. Наконец, хотя ясно было, что состав юного общества вовсе не вполне однороден, но нетрудно было заметить, с самого же начала, что „новая школа“ занимала тут главное место…» Далее следовал подробный разбор всех художественных качеств, которыми блистали произведения новой выставки, хотя критик никому не льстил и, вместе с замечательными совершенствами Даньяна, Лермитта и других, и даже самого Мейсонье, указывал также и их недостатки.
Новое общество, вопреки всем зловещим предсказаниям и недоброжелательным отзывам, оказалось прочно и живуче. Вторая его выставка (1891 года) опять привлекла громадные толпы народа и уже не просто как новинка, а как выражение деятельности группы артистов талантливых и могущественно стоящих за провозглашенные ими принципы. Сама газета «L'Art», за год перед тем с такою темною злобою напавшая на новое общество, вынуждена была перешагнуть на совершенно другую дорогу и пропеть совершенно иную, против прошлогодней, песенку. Конечно, при этом своем отступлении она все-таки выпускала из своего колчана некоторые стрелы, которые она желала. сделать отравленными и которыми она старалась повредить противнику. «После великого усилия первой выставки (говорит Леоне Бенедит, выпущенный для этого редакцией, вместо Леруа, критик) можно удивляться тому, что на Марсовом поле явились новые художники с таким значительным багажом, накопленным в течение всего одного только года. Это доказывает трудолюбие наших художников, а также необыкновенную живучесть современного искусства. Выставка 1891 года наверное стоит выставки 1890 года, и даже большинство художников выступает на Марсовом поле с картинами высшего значения. Однакоже публика не встретила „отщепенцев“ со всем таким же расположением, как в прошлом году. [1]1
Это ничем не доказывалось на выставке! Критики нигде также ничего подобного не высказывали. Это, без сомнения, только очень обыкновенный прием врагов, который мы часто встречаем и в Петербурге по поводу передвижных выставок. «Нынешний год, мол, выставка хуже прошлогодней, а прошлогодняя хуже предыдущих». Всегдашняя одна и та же песня! – В. С.
[Закрыть] Даже некоторые из самых горячих друзей их сочли долгом заявить несколько порицаний. А отчего? Оттого, что выставка Марсова поля совершенно понапрасну выступает в параллель выставки Елисейских полей и как будто хочет соперничать с нею. Но „Национальное общество“ (Марсова поля) есть по преимуществу предприятие частное, большая выставка кружка, где произвольно выражаются стремления, почти все сплошь однородные. И это даже, можно сказать, одна из наиболее интересных сторон этого общества. Но было бы совершенно ошибочно смотреть на выставку Марсова поля, как будто на настоящий „Салон“ (ежегодная огромная традиционная выставка французов), и обращаться к ней с точно такою же критикою, как к выставке Елисейских полей. Если в прошлом году этой последней, выставке официальной, выговаривали: за излишнее накопление, за то, Что она допускала в свои галереи громадную массу картин банальных, которых сюжеты были точь-в-точь, одно и то же с сюжетами, давно всем намозолившими глаза, то на Марсовом поле получалось впечатление чего-то совершенно одинакого, но отличного от картин Елисейских полей: тут дело шло уже не о накоплении много раз виденных и заснувших вещей, а о массе изображений резких, преувеличенных, торопливых импровизаций, несовершенных этюдов и как будто бы родственных одни с другими до такой степени, что, по выражению злых языков, художники как будто все только и делают, что копируют с самих себя и с других.
Впрочем, надо признаться, художники Марсова поля имеют претензию на индивидуализм, и можно сказать, что, оставив в стороне те специальные причины столкновения, которые произвели разделение, одной из главных причин было желание восстать против мастерских, школ, против всего художественного движения, связанного с прошедшим, для того чтобы отделаться от устарелых формул и горячо работать над теми формулами, которые однажды образуют будущее искусство».
Итак, мы встречаем здесь кисло-сладкие похвалы, приправленные горчицей, и полувражеские антипатии, осыпанные кое-каким мелким сахаром. Но все эти микстуры не могут скрыть того положительного, резко и определенно выглядывавшего из-за ширм факта, что новое общество – есть общество с глубоким корнем и могучею силою, и что выставки его – враждебны, но сильно талантливы и новы, а потому грозны и опасны.
Это не моя цель описывать и разбирать теперь выставки Елисейских полей и Марсова поля. Мне нужно только показать общий ход дела старого и нового общества, и потому я закончу свой параграф о французах тем, что приведу последний крупный факт их взаимной борьбы. Летом прошлого (1892) года общее собрание художников Елисейских полей прислало обществу Марсова поля проект нового соединения обоих обществ попрежнему, в одно общество. Распорядительный комитет общества Марсова поля (la délégation de la Société Nationale des beaux-arts) обсудил этот вопрос в особом заседании и постановил протоколом (тотчас же напечатанным во многих парижских газетах) следующее: «Комитет находит, что он не имеет права рассматривать с „Обществом французских художников“ (т. е. обществом Елисейских полей) проект слияния обоих обществ, потому что всякие прения этого рода могут быть таковы, что повлекут за собою новое рассмотрение статутов, утвержденных общим собранием. Полный решимости точно выполнить свое поручение и в целости оберегать права своих членов, а также сохранить ненарушимо статуты и положения своего общества, комитет не может, однакоже, не быть глубоко тронут тем шагом, который сделали ему навстречу высокие художественные личности, и считает за великую честь то, что ему предстоит поддерживать и защищать перед общим собранием заявления новоприбылых сочувствий».
Итак, в учтивейшей форме – положительный и решительный отказ. Маленькое «частное» общество не пожелало слияния с большим «официальным». Оно чувствовало свою собственную жизнь и силу, и твердо высказало, что ему довольно и своих единомышленных художников. Прочие ему, дескать, не нужны. И без них проживем.
Как все это напоминает мне наших русских «передвижников». Но о них речь будет еще ниже.
II
В Мюнхене повторилась, в 1892 году, та самая художественная история, которая происходила в Париже, начиная с 1890 года. И тут тоже художники почувствовали, что всей их разросшейся массе не житье вместе, что между ними – пропасть, что давно уже образовались разные группы, у которых мысль и намерения, вкус и чувство– все совершенно иные, и друг друга терпеть они дольше не в состоянии, пора развестись. Они и развелись, как за три года перед тем французы.
Как и там, отделилась лучшая часть художников: все самые талантливые, все самые мыслящие, все чувствующие вред и стыд ненавистного предания, все негодующие на давнишнее рабство перед школьной академической традицией, как на капкан, как на ошейник, находившие, наконец, что не стоит терпеть ничьего произвола и несправедливостей, особливо от товарищей.
Окончательная решимость отделиться, разъехаться определилась лишь ранней весной 1893 года, незадолго до выставки, обычной ежегодной в Хрустальном мюнхенском дворце. Конечно, главных забот было раньше всего – две. Первая – как возможно скорее привести в известность и образовать свой состав, созвать и соединить всех желающих и всех единомышленников вместе; вторая – приготовить место для выставки. Для выполнения первой задачи «отщепенцы» назвали себя «Мюнхенским художественным обществом» (Verein bildender Künstler in München), поставили во главе знаменитого Фрица Удэ, подобно тому, как в Париже был поставлен во главе знаменитый Мейсонье, и тотчас написали и разослали «меморандум». Главное содержание этого манифеста, или программы, было следующее: «Цель нашего соединения состоит в том, чтобы образовать мужественную и деятельную группу художников всех направлений, которые будут всякий год устраивать международные выставки и которые, не останавливаясь на личных преимуществах, будут держаться одного только следующего принципа: мюнхенские выставки должны быть избранными выставками! Интересы чисто художественные не должны быть ни обезображиваемы, ни нарушаемы никакими другими соображениями. Мы не можем ни обещать, ни допускать „одинакое право для всех“, как это делают члены прежнего „Художественного товарищества“. На наших выставках должно появляться только искусство, и каждый талантливый художник, все равно какого направления, старого или нового, но чьи произведения принесут честь Мюнхену, должен получить возможность богато развить свои способности. Мы готовы на самые широкие жертвы; пусть всякий приносит только то, что у него есть лучшего, и пусть подчинится суду присяжных, избираемых всякий раз общим собранием».
Один из лучших берлинских критиков, Бирбаум, писал по поводу этого «манифеста» в «Magazin für Litteratur»: «Мне кажется, это золотые правила, и если они сохранятся у „сецессионистов“ (отщепенцев) во всей своей чистоте и могучести, мы вправе ожидать таких выставок в Мюнхене, каких еще отроду не бывало. Потому что эти принципы никогда еще не были одни единственно в ходу по крайней мере на больших выставках очень широких размеров. Если сецессионисты выполнят свой план, то это будет иметь последствием полнейшую реформу всего выставочного дела, на которую будут радоваться все те, кто приходит в отчаяние от колоссальных базаров, складываемых с каким-то беспредельным добросердечием. Хорошая художественная выставка не может быть достаточно мала – горе ей, если она станет впадать в лжедемократизм и в сострадание к художникам, которые очень хорошие люди и очень худые музыканты! Главный закон настоящего художественного жюри должен быть тот же, что „новая скрижаль“ знаменитого современного философа Ницше: „Будьте тверды!“ Сам кроткий Христос изгнал торжников из храма… Мы находим, что громадные американские concerts-monstres безвкусны и антихудожественны, со своими полками певцов и трубачей, а разве наши чудовищно громадные европейские выставки лучше?» Далее, сурово нападая на все плохое, несамостоятельное, рутинное, что преимущественно наполняло в последние годы, а также и в 1893 году, громадные пространства ежегодной выставки в мюнхенском Хрустальном дворце, Бирбаум говорил: «Я повторю сегодня то, что и в прошлом году говорил (раньше образования общества сецессионистов): у всех лучших художников нового времени проявляется одинакое бегство от банальности в царство сильного и самостоятельно-личного искусства. Это самая главная черта у всех их. Потому являются два потока: один устремляется ко всему естественному, чисто действительному, которое, впрочем, уже более не принимается как что-то абсолютное с точки зрения нормального взгляда; другой же поток направляется к тому, что узрено внутренним оком, к картине чувства, к фантазии…»
Что касается до помещения, то с ним предстояли бедным «отщепенцам» бесконечные хлопоты. Они адресовались к министру и к мюнхенской городской думе, прося отвести им, для выставки, если уже не здание, то по крайней мере хоть пустое место. И тут дело не состоялось так легко и доброжелательно, как в Париже. Нарядили комиссию, та пошла на оттяжки и на отсрочки, и, казалось, дело кончится решительным, хотя и учтивым отказом. Тогда сецессионисты стали подумывать о том, чтобы бросить Мюнхен и перенести свою выставку во Франкфурт-на-Майне или какой-нибудь другой большой немецкий город, – они твердо намерены были не дать своему делу заглохнуть. Но вдруг оно поворотилось в их пользу: и дума, и министр решились удовлетворить просьбу художников и дали им место от города. Тут закипела тотчас же громадная деятельность во всех направлениях: назначили первые дни июля как крайний срок для открытия выставки, тотчас принялись строить здания, разослали приглашения, торопящие художников высылать, немедленно же, свои картины и скульптуры. И все сделалось, все поспело в самое короткое время. Здание было выстроено и окончено – просто невероятно – в тридцать четыре дня! А стояло оно на фундаменте кирпичном, на который уже упирается вся постройка, из дерева и железа. Зал – целых двенадцать, и вышиной они по восьми метров (десять аршин) и девятнадцать метров (почти двадцать аршин) ширины каждая. Освещение – везде сверху и превосходно расположенное. Белые наметы, или балдахины, повсюду устроенные, уравновешивают или смягчают солнечный свет, как это везде теперь принято. Обивка иных зал имеет светложелтый колорит, уподобляющий ее каким-то словно пластинам из слоновой кости. Развешаны картины истинно мастерски, так как места было заглаза довольно, и каждый художник имел возможность выставить свои хорошие вещи (так как дурных не принимали), выставить так, как ему самому хотелось и как для картины было всего выгоднее.
А навезли картин и скульптур довольно: около девятисот номеров, тогда как в Хрустальном дворце их было около двух тысяч пятисот (опять близкая параллель с двумя парижскими выставками). Тут были, во-первых, почти все лучшие из новейших немецких художников, каковы Удэ, Штук, Либерман, Бёклин, Макс, Отто Энгель, Альберт Келлер, Габерман, Гертерих и многие другие. Заметим при этом мимоходом, что, к сожалению, такие художественные величины, как Ленбах, Лейбль и Гебгардт, остались, по старой привычке, в Хрустальном дворце; но один из критиков мюнхенской «Allgemeine Zeitung», Альфред Фрейгофер, говорит, что все они, да еще и другие с ними вместе, смело могли бы быть причислены к сецессионистам, и даже следовало бы о том постараться. Но сверх собственно немецкой группы, тут было еще и множество значительнейших иностранцев, каковы: Геркоммер, Виллегас, Лермитт, Даньян-Бувере, Жервекс, Раффаэлли, Мюнье, Монтеверде, Роден, Гаррисон, Цорн, Стюард и т. д. Почти все они исключительно были те французы, американцы, англичане, шведы и другие, которые уже и прежде принадлежали к парижскому «расколу», а теперь, восхищенные новым немецким «манифестом» и новым немецким художественным почином, с радостью примкнули к сецессионистам и в несколько дней наслали в Мюнхен множество хороших своих вещей. Так сильна притягательная сила новой загоревшейся мысли, так велико обаяние людей, решившихся на смелый почин для того, чтобы поправить дело испорченное, хромающее и возвести его на ту высоту самостоятельности, силы и правды, которая лежит в основе его.
Конечно, далеко не все в Германии сознавали значение нового общества, не все довольны были его появлением и торжеством. Фридрих Пехт, считающийся у немцев первым их художественным критиком, и действительно имеющий много достоинств, несмотря на весь свой немецкий квасной патриотизм и отчасти классицизм, – не мог решиться стать прямо на сторону «отщепенцев». Конечно, он признавал за ними и за их выставкой большие совершенства, много таланта и значительности, а все-таки горько жалел (в нескольких номерах своей «Allgemeine Zeitung»), что эта вторая выставка – какая-то «излишняя роскошь», напрасный каприз нескольких руководящих личностей; объявлял, что расщепление на две половины – вредно для обеих партий и «навряд ли основывается на действительной нужде», а не на личных причинах; вообще признавал, что хотя обе выставки, правоверная и неправоверная, выказали немало дарования и подвинувшегося вперед уменья, а жаль, жаль, что «нет более у немецких художников того „единства“ идеалов и вдохновения, как то было при Корнелиусе, Каульбахе, Пилоти, когда все немецкое искусство повиновалось одному единичному влиянию», – теперь же все ползет врозь, и везде в искусстве царствует «умственная анархия», а это есть знамение современных художественных созданий. Другие шли гораздо дальше: они не ограничивались соображениями теоретическими, историческими и критическими, они переступали от мнений к практике. Газета «Münchener Neueste Nachrichten» сообщала (в своей третьей статье о выставке сецессионистов), что эта выставка приходилась иным так тошна, что «кружки придворные, дипломатические и правительственные делали самые блестящие предложения одному из не мюнхенских художников» (кто такой именно – не сказано), чтоб он только покинул лагерь сецессионистов. Но (прибавляет тут же критик Ф. фон Остен) все это ни к чему не повело, так как «этот человек оказался истинным художником божией милостью, и так как ему казалось, что гораздо важнее стоять звездою в небе, чем нацеплять на себя звезду, которою его желали соблазнить!!»
Но таких недоброжелательных критиков, как Пехт, было на этот раз немного. Выводя общее заключение, тот же фон Остен говорит в другом месте своей статьи: «Мы, конечно, много хорошего видели до сих пор на мюнхенских выставках, но, по единогласному отзыву посетителей сецессионистской нынешней выставки, не бывало еще у нас ни одной, которая, по общему впечатлению, была так утешительна, так удачна, так гармонична, как эта. Если бы некоторым влиятельным кругам удалось задавить это предприятие, Мюнхен понес бы громадную утрату».
Упомянутый у меня уже выше художественный критик Альфред Фрейгофер говорил также, что «эта первая выставка мюнхенских сецессионистов произвела на публику самое положительное, самое серьезное впечатление, и что это такое торжество, какого самим сецессионистам даже и во сне не снилось…» А в другой статье он прибавлял: «Кому случается бывать в мюнхенских кругах, убеждается с радостью, что происходившая у нас художественная борьба никоим образом не отравила атмосферу: сторонник партии не пожрал художника и человека. Теперь каждый может спокойно итти своею собственною дорогою…»
Наконец, в лейпцигской «Kunstchronik» Герберт Гирт напечатал статью под заглавием: «Результаты мюнхенской сецессионистской выставки». Здесь он говорил: «Все прежние наши художественные школы, классики, назаряне, [2]2
Последователи Овербека, названные «назарянами» вследствие того, что они писали почти все свои картины исключительно на евангельские сюжеты. – В. С.
[Закрыть] романтики, историки – все смотрели взад, а не вокруг себя. Только лишь в наши дни окончательно было сломлено магическое чародейство старых поколений, которое заставляло отворачивать глаза от окружающей действительности и упирать их назад; только лишь теперь люди снова стали свободны и на тот пункт, который указал Гете, споря с Эккерманом: „Все толкуют об изучении древних, но что же это изучение значит, если не следующее: гляди на действительный мир и старайся его выразить, – древние делали именно только это самое, пока были живы“. Единственно близкое принятие к сердцу этого правила дало возможность перейти от подражания к оригинальности, от несамостоятельного примыкания к имеющимся налицо образцам – к могучей собственной личности, от предания – к свободе. Ничего не стоящая ломка с одной стороны, безустанное, сознающее свою цель созидание – с другой стороны, вот те два движения, которые чудным образом взаимно перекрещиваются в наше время.
Мы нынче встретились с ними обоими в Мюнхене. Первое из них – консервативное, преимущественно в Хрустальном дворце, по крайней мере в немецком отделении, потому что, что касается иностранного искусства, то даже и в Хрустальном дворце можно было видеть, сверх всякого ожидания, много смелых и замечательных шагов вперед; даже не было недостатка и в созданиях крайне либеральных. Конечно, и в немецком отделении было довольно произведений, представлявших что-то среднее между старым и новым, а также прекрасных произведений, которые, однакоже, большею частью ни на единую линию не двигали искусство вперед.
Выставка Хрустального дворца имела в сущности характер ретроспективный; она не была художественным проявлением нынешнего года, она не была одним из тех событий, которые должны быть вписаны в историю. Такова была скорее выставка сецессионистов.
Мы поздравляем сецессионистов с тем материальным успехом, который не оставлял желать ничего лучшего. Но нам кажется гораздо еще важнее тот успех, которого размеров нельзя по настоящую минуту (статья напечатана 30 ноября нового стиля) еще по-настоящему определить. Кто переберет все отзывы прессы, найдет изумительное единодушие в той горячей симпатии, с которою их обсуживают. Неблагоприятные критики являются редкими исключениями; лишь изредка можно встретить холодное, сдержанное осуждение, но гораздо чаще доброжелательное отношение возвышается до энтузиазма. Кто наблюдал публику на выставке сецессионистов, кому случалось слышать ее суждения, знает, что печать была только верным эхом общественного мнения. Лед, кажется, проломлен; та плотина, которая отделяла новое художественное развитие от публики, прорвана. И это, конечно, самый чудесный результат, достигнутый сецессионистами посредством их выставки. Раскрылись глаза у многих людей, остававшихся прежде слепыми к новейшим проявлениям нынешнего художественного поколения».
Я привел два самых крупных примера расщепления европейских художников на два общества: французский (в Париже) и немецкий (в Мюнхене). Но они были в это последнее время далеко не единственные. Подобное же расщепление водворилось и во многих других местах: так, существуют теперь отдельные общества и отдельные выставки в Брюсселе и Лондоне, недавно речь зашла о точно таком же разделении в среде дрезденских художников, а на берлинской было отведено две особых, почетных залы мюнхенским сецессионистам.
Наконец, и Америка также почувствовала необходимость разделения художников, и лейпцигская «Kunstchronik» сообщала, в начале ноября 1893 года, следующее: «Движение в пользу независимости художников, достигшее таких громадных размеров в Париже и Мюнхене, достигло теперь и Нью-Йорка. В этом году основалось общество независимых (bociety of Independents), заключающее в себе живописцев, скульпторов, литографов, граверов и архитекторов. Это общество образовалось с целью обходиться без жюри и раздачи наград. Художники желают представлять свои работы публике для публичного их ^обсуждения. Первая выставка произойдет 7 марта 1894 года в Нью-Йорке, и для того будет нанята галерея, где стены будут разделены на пространства в четыре или пять футов. Эти пространства будут раздаваться по жребию, и каждый художник может развешивать на своем участке картины свои как ему самому угодно. То же самое будет соблюдено и относительно скульптуры. За несколько дней до открытия официальной выставки будет происходить „частный предвыставочный обзор“ (private view), назначенный на то, чтоб дать художникам возможность переменять свою расстановку, если понадобится. Всякий художник, заявивший до 1 декабря 1893 года о своем желании участвовать и внесший назначенную сумму (никак не более десяти фунтов стерлингов), имеет право действовать как „основатель“. Общество имеет право всякий год производить нужные реформы. В разосланном повсюду манифесте или программе будущего общества сказано: „Мы полагаем, что пришло теперь такое время, что жюри и награды принадлежат к числу анахронизмов в художественном деле. Мы думаем, что таланты будут лучше поощряемы побуждением, чем давлением, и надеемся, что всеобщая симпатия поддержит это предприятие!“
Время покажет, живуче ли будет это художественное новое общество среди интриганства и пройдошничества, на которое, к сожалению, часто приходится жаловаться художникам в Америке; но, кажется, несомненно уже и теперь то, что равноправность и самораспорядительность в своем собственном деле такие принципы, которые не могут не быть драгоценны в художественном деле, и что американский пример непременно найдет себе много сочувствия и по сю сторону океана.