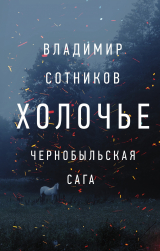
Текст книги "Холочье. Чернобыльская сага"
Автор книги: Владимир Сотников
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
6
Если бы я писал о Холочье раньше, то, наверное, получились бы обычные воспоминания, но сейчас главный вопрос времени заставляет меня подчиняться ему, а не литературной привычке. Было так или стало так? Люди, которых я вспоминаю, помогают мне ответить. Они были, конечно же, другими, но становятся такими, какие есть сейчас, в своей вечной жизни.
Василь Фийон жил напротив шляха – проулка, уходящего в поле. Шлях и назывался Фийонов, но Василю было этого мало. Он был тщеславен, этот Василь. Мне он казался похожим на пирата – высокий, темный и худой, с пронзительным остановившимся взглядом, как на плохом портрете. Не хватало только кинжала в зубах. Сверкая золотыми зубами, он в любом разговоре упоминал название шляха, пытаясь присвоить и другие места – Фийонов стан, говорил он. Но к стану его прозвище никак не прилипало.
Стан – это опушка леса, на которую пригоняет пастух коров для обеденной дойки. Параллельно улице по лугу текла речка, за ней был лес с открытыми в сторону деревни пологими холмами-опушками. У нас было три стана, Панасов, Микитов и безымянный. Панасов и Микитов – потому что находились как раз напротив домов Микиты и Панаса. Безымянный находился напротив дома Василя. И вот он стал обустраивать этот стан – срезал кочки, выкорчевывал кусты. Уговаривал пастуха пригонять туда коров. Василь хотел, чтобы люди привыкли называть эту опушку Фийоновым станом. Но странное дело – оказывается, даже названия присваиваются сами собой, без усилия человека. Один только Василь упорно называл свой стан Фийоновым, больше никто.
Я представляю, как он неприкаянно бродил вокруг своей пустой опушки, выглядывая на нее из-за деревьев, как будто ткал мысленную паутину названия. Почему не удерживалось его прозвище в этой паутине? Не замеченное и не признанное миром авторство.
Сейчас вдруг мелькнул во мне страх оттого, что я захочу повести Василя по неожиданной даже для меня дороге. Захочу наделить его каиновой завистью, и тот самый выстрел, после которого я увидел отца моего друга с простреленной грудью у костра с поднимающимся к небу дымом, будет произведен Василем. Если даже не скажу об этом напрямую, то намекну на такой исход событий. Нет, не буду я этого делать. Не буду. Почему-то я испытываю к этому неприятному человеку странное сочувствие.
Я люблю думать вскользь, допуская самые неожиданные выводы, как будто камень моей мысли летит над водой, касаясь ее. Откуда я знаю о тщеславии Фийона? Мне рассказывал отец. Мы шли тогда из леса, как раз вышли на эту безымянную опушку. Я только что пытался объяснить отцу свое невероятное открытие – что я его догоняю по возрасту. Когда-то он был старше меня в тысячу раз, а теперь в пять, а потом, со временем, будет становиться старше все в меньшее количество раз. Даже меньше, чем в два раза. Вот я и догоняю. Это было для меня таким важным, как будто мир сдвинулся с места силой моей мысли! Мне показалось, отец совсем не заметил моих слов, не признал моего открытия. Нет, все-таки он что-то говорил – про дробь, в числителе которой мой возраст, в знаменателе – его, и эта дробь с каждым годом стремится к единице. Я обиделся, что он пересказал мои слова по-взрослому и они стали непонятными. Но это я сейчас вспоминаю про дроби, а тогда был занят только своим образом погони за временем. Мне казалось, я ухватил за хвост эту жар-птицу, которую никто, кроме меня, не видел.
Сейчас я улыбаюсь сравнению себя с Фийоном, которое вызвало во мне сочувствие к нему и жалость. Но почему бы и нет? Мы были непризнанны и потому похожи.
7
Будь я атомом, в капле воды увидел бы океан, так и в своей деревне я видел все мироздание. Поэтому вся моя дальнейшая жизнь, все впечатления и переживания, все мысли, сомнения и разочарования, горе и счастье – ничто и никогда не приходило ко мне впервые, а всегда повторялось отражением от первых чувств. Особенно люди, которых я потом встречал, о которых читал в книгах – в их обликах и характерах всплывали черты моих соседей. Мне почему-то сейчас приятно осознавать, что детство я провел если не в колыбели человечества, то уж наверняка в ее маленькой и точной копии.
Вспоминая Устюшу, я всегда хочу встрепенуться, словно пытаюсь вырваться из той части жизни, которая стягивается, скукоживается, застывает. Мне хочется на простор, а эта старушка меня не выпускает, превращает в один из предметов в огромном складе ненужных вещей, которые она собирала по всей деревне целыми днями с раннего утра и до позднего вечера. Она была хозяйкой бездушного пространства деревни, не замечала людей – ее интересовали только предметы.
Я чувствую, что не могу и не хочу перечислять то, что собирала Устюша. Это не список кораблей и даже не список моих одноклассников, не слова, которые в соединении обретают смысл, как обретается он в перечне попадающих на глаза предметов во время обычной прогулки. Крыльцо, калитка, тропинка с примятой травой, луг и речка, застывший взрыв высокого облака над лесом и вспыхнувшая на этом облаке мысль, что я буду помнить все это с тем чувством, которого нет пока у меня…
Ее список был бессмысленным, а потому пугающим. Я помню страх, который пробирался в меня сначала брезгливостью, а потом горем, как будто кончилось все мое время яркой жизни. Пробирался, когда я видел ее во время вечной работы – поиска чего-нибудь никому не нужного, не прикрепленного к основе, чтобы можно было легко взять, положить в передник и понести домой, на свой забитый хламом двор.
Однажды я шел по полевой дороге и увидел ее копошащейся в заросшей травой старой яме. Кто-то когда-то сбросил туда мусор. Передник Устюши был полон смятыми консервными банками, обрывками истлевшего картона, сгнивших щепок. Потом она понесла все это к деревне, к своему дому. Я решил принести ей старую сумку, которую видел у себя на чердаке. Большую, наверное, удобную. Я думал, что этим помогу ей, не в переднике же носить свои находки. Быстро сбегав домой, я положил сумку на видное место рядом с ямой и притаился поодаль за кустом. Устюша вернулась, увидела сумку, потоптала ее для большей компактности и так же, как другие предметы, прижала к себе. Использовать ее по назначению она даже не подумала.
Когда я шел обратно мимо ее дома, то увидел, как она укладывает во дворе свои находки под его стеной. Из этого плотного штабеля торчала ручка моей смятой сумки.
Я помню тот страх перед бессмысленностью. И потому сейчас боюсь думать о том, что в длинном списке моей жизни лежат ненужные события и слова.
8
Если думать о времени, то можно заметить, что мысли не пристают к нему, как вода к масляной поверхности. Не проникают в него, не становятся частью, не называют и не объясняют. Время непонятно, как потусторонний мир – слова о нем здешние, наши, привычные, а мир так и остается недоступным пониманию. О нем можно говорить его словами, но у нас их нет. Может быть, время подвластно музыке, но я не умею думать так, как звучит музыка. Время и похоже только на музыку, так же чувствуется, лишь прозвучав. И так же кружится голова от невозможности оказаться внутри этого неуловимого течения. Но как же хочется думать о времени в благодарность за то, что оно есть – я чувствую эту радость благодарности. Меня могло не быть, а я есть и думаю об этом.
Я вспомнил одну старую фотографию. На ней мой старший брат. Он стоит на мосту через нашу речку, опершись на велосипед, и смотрит на меня. Взгляд у него спокойный, не требующий слов. И я чувствую прохладу ветра с запахом реки. Тает облако над лесом, тогда и сейчас.
Если думать о времени, оно исчезает, прячется. Словно при сотворении мира ему было поручено оставаться непонятным.
9
В детстве я не замечал любви, окутывавшей меня. Я вспоминал ее лишь потом, повзрослев. А тогда я просто жил – кто думает о воздухе, которым дышит? Думают о том, что странно, что находится хотя бы на небольшом расстоянии. Вся деревня была от меня на таких расстояниях моего взгляда. И любовь я впервые увидел со стороны и заметил из-за ее грубости.
Мовша с Мовшихой были странной парой. Он – маленький и вертлявый, со смешной быстрой походкой. Она – огромная, как стог, почти всегда неподвижная, как будто не передвигалась, а просто оказывалась в другом месте. Когда они шли рядом, трудно было удержаться от улыбки. У них было много детей. Даже сейчас я затрудняюсь подсчитать, пять или шесть. А может и семь. Почти все погодки, и даже пара близнецов. Но не в этом дело. А в чем? Почему я их вспоминаю? И ловлю сейчас себя на том, что замираю при этом с той самой улыбкой. Апофеоз соединения и растворения одного в другом, думаю я, потому что вдруг вспыхивает в моей памяти, что Мовшу называли еще и Мовша Мовшихин. Имя, подаренное им жене, отразилось в большом и увеличительном зеркале и вернулось уже двойным звучанием, доказывающим полную и окончательную их слитность.
Он был пастухом огромного колхозного стада. Оно бесконечно тянулось вдоль улицы по утрам и вечерам, и Мовша словно сплавлял плот по порожистой реке, управляя своим кнутом плавным течением этой громадины. Возле своего дома, споткнувшись и вспомнив что-то, забегал на минутку, чтобы попить воды или прихватить что-нибудь забытое. Мне хочется подумать, что так случалось всегда, хотя видел я это лишь однажды. Мовшиха что-то крикнула ему вслед, а он, даже не оглянувшись, отмахнулся с улыбкой. Мол, не до тебя. Мне кажется, что вспоминал он звук ее голоса весь день, до самого вечера.
В деревне время шло одинаково, и только праздники делали зарубки, как на стволе березы, чтобы доказать течение сока. В праздники Мовша с утра исчезал из дома, и Мовшиха начинала его искать по всей деревне. Искала она неторопливо, и этого времени Мовше хватало на то, чтобы где-нибудь, за магазином или в любом другом укромном месте, выпить с мужиками. Он спешил, поэтому напивался быстро, и когда появлялась Мовшиха, уже встречал ее с радостью. Собутыльники отходили на безопасное расстояние, освобождая место для спектакля. А Мовшиха приподнимала своего мужа за грудки, встряхивала и пыталась поставить на ноги. Он вяло сопротивлялся, что-то объяснял и все норовил опять присесть на траву. Тогда она отвешивала несколько увесистых оплеух, от которых он покорно затихал, потом приседала на корточки, ждала, пока он обнимет ее сзади, поднималась, удерживая его руки, и несла свою ношу домой. Мовша, прижавшись щекой к ее спине, блаженно улыбался. Лицо его, несмотря на размазанную под носом и по щеке кровь, сияло счастьем.
Сейчас я боюсь, что рассказал смешную историю из деревенской жизни. Нет, это не так. Мне совсем не до смеха. Ведь там был и я, маленький, оказавшийся случайно на той тропинке и все видевший. Кровь на лице испугала меня. Помню, как они прошли мимо, а я опустился на траву и заплакал.
Почему я помнил этот плач потом, всю жизнь, читая о любви – о Филемоне и Бавкиде, о старосветских помещиках, о Ромео и Джульетте? Потому что вспоминал и Мовшу с Мовшихой, думая о грубости жизни, которая не пропускает через себя чувства, существующие за ее пределами, когда даже любящие люди ничего не знают о своей любви.
Тогда я и стал представлять жизнь огромным слоистым пространством. Люди существуют в одном из слоев. А сверху и снизу множество неизвестных, неведомых, таинственных слоев, в которых живут чувства, мысли, воспоминания. Они пронизывают наш слой невидимыми токами. А люди или пропускают их через себя, или, наоборот, становятся бесчувственным препятствием.
Этот образ стал настолько зримым для меня, что однажды, когда вдруг началась гроза, заставшая меня на выпуклом поле за деревней, и несколько молний впились рядом со мной прямо в землю, – я испугался, что они вспыхивают как раз в этих верхних слоях, и я буду наказан сейчас за свою догадку.
Хлынувший ливень погасил не только молнии, но и мой страх, сменившийся восторгом спасения, который развеялся, я это знаю, по всей моей будущей жизни.
10
Иногда я думаю, что Холочье не должно быть книгой и даже словами. При этом я вижу какие-то линии. Откуда все пришло и куда уходит?
Дом Гореликов стоял на углу нашей тихой улицы и шумного шоссе с проносящимися машинами. В детстве я боялся этого угла, за которым всегда пропадал, повернув к станции, уезжающий куда-то человек. Я знал, что когда-нибудь и сам так исчезну, в последний раз оглянувшись на свою улицу.
Этот дом был связан садом с другим, старым домом, в котором жила старуха Горелиха, похожая на огромного ворона. Она приехала в Холочье много лет назад со своим сыном, как будто принесла его откуда-то, посадила здесь жить и смотрела на него, как птица. Я не слышал никогда ни звука ее голоса, не видел ни одного ее движения. Она сидела возле своего дома и смотрела через сад на дом сына.
Он похож был на мать своим пристальным взглядом, с разницей лишь в том, что смотрел куда-то вдаль. Работал объездчиком – следил, чтобы никто нигде не нарвал колхозной травы. Ни один из деревенских детей не избежал этой участи – убегать от Горелика в сумерках по полю. Помню, что я с нетерпением ждал этого испытания, но оно все выбирало других, не меня. И вот наконец, отбросив корзину, в которую нарвал травы для кроликов, я уже несся по мокрой траве, как по скользкому снегу, слыша сзади топот и крики Горелика. Никогда в жизни не получилось у меня повторить то ощущение росистой травы, в каких бы полях я ни пытался это делать. В одну росу дважды не входят.
Жена Горелика была молчаливой, всегда в плотно повязанном платке, из-за него и казалось, что ей трудно говорить сквозь сжатые губы.
Мой отец раньше учил их детей в школе, поэтому всегда останавливался возле Горелика и разговаривал с ним. Я помню, как отец после этого ловко поворачивал возле его дома, разгоняясь, в прыжке через никогда не просыхающую лужу, держась за вбитый в землю железный столб, отполированный тысячами таких же прикосновений. Почему-то я думал при этом, что он показывает мне, как все можно сделать легко и просто. И что такой поворот – самый обычный. Я повторял за ним полет над лужей. Конечно, ничего подобного отец не думал, просто поворачивал в этом пугающем меня месте, как делали все. Это я так думал за него.
Но все в этой истории меркнет перед тем, что я до сих пор не могу назвать. Оно таилось в трех братьях, как в трехголовом драконе.
Старший Петька всегда гоготал, рассказывая о своих похождениях. Серьезным я его не видел. Никто не мог повторить за ним фокус взятия в рот биллиардного шара. В клубе было два биллиарда, американский и русский, он выбирал белый шар русского, брал его в рот и потом выталкивал языком. Однажды он задержал шар во рту чуть дольше, челюсть онемела, и выплюнуть его он не мог. Так бы и задохнулся, если бы не оказалась рядом Светка. В тот вечер у нее разболелся зуб, и она по дороге к стоянке дальнобойщиков зашла в клуб в надежде выпить с кем-нибудь. Не растерявшись, будто занималась этим всю жизнь, она сильно стукнула Петьку одной рукой по затылку, другой по подбородку, выбив шар.
Средний Фима любил ходить по шоссе ночами. Он шел навстречу машинам, не сворачивая. Машины едва успевали тормозить. Несколько раз его сбивали, и лоб его был покрыт сеткой шрамов.
Младший Коля всегда молчал, и все побаивались его взгляда. Никто не знал, что у него на уме.
В праздники с утра все уже было известно наперед. Братья выжидали, кто первый даст повод, и начиналась драка. Потом в жизни я видел всякие драки, животные, человеческие, спортивные, но эта драка братьев Гореликов вспоминается мне как самая страшная. Там не было ни мгновения для того, чтобы опомниться кому-то из них. Если бы так дрались на войне, то побеждали бы любого врага, но они дрались между собой, каждый за себя. Какое-то страшное, бессмысленное, неостановимое действие. Вся деревня пыталась их разнять, они вырывались, убегали, появлялись с неожиданной стороны, и опять, как пожар под сильным ветром на сухой траве, разгоралась эта схватка, не допускающая чужого вмешательства. Кто пытался их остановить, отлетал в сторону. Было непонятно, как они не убивают друг друга, ведь дрались не только кулаками, но и кольями, впечатывали друг в друга камни, прыгали на распростертое тело обеими ногами. Драка перекатывалась по всей деревне, вспыхивала то в одном месте, то в другом. Кого-то из них запирали, но они были неудержимы, разбирали стены сарая и появлялись с другой стороны, как будто прилетев откуда-то. И все начиналось сначала, уже в вечерних сумерках, уже с фонарями, кого-то из них отливали водой, он приходил в себя, вырывал из забора кол и гнался за своими братьями. Как, не понимаю я сейчас, как все-таки они оставались живы? Любой удар каждого из них мог быть смертельным. Но они были равны по силе и ненависти.
Черной, не только от приближения ночи, черной и жуткой была эта сторона жизни, я чувствовал, что она не может продолжаться, должна закончиться, и в этом ожидании конца была ее окраска, ее смысл. Я, не понимая этого, ждал окончания чуждой жизни.
И только потом, через годы, прочитав «Будденброков», понял, что затухание такой жизни начинается задолго до полного исчезновения.
Так что же я пишу сейчас в угоду литературной привычке, требующей переносить свои чувства на окружающий мир? Все было проще, и этот дом на углу двух улиц пугал меня чужим страхом. Я долго искал этот страх в себе, пока не понял, что он снаружи, в тех трех братьях, предтечах конца.
11
Сейчас я знаю, что весь смысл моей жизни заключается в нескончаемом разговоре с невидимым собеседником, которого я впервые представил в детстве как странное пятно, сотканное из тумана и дыма от нашего костра, когда мы сидели вечером на берегу речки. Кто это? Иногда я думаю, что это моя душа – в детстве она жила где хотела, во всем пространстве, окружавшем меня, это потом я увез ее с собой.
Коля Стэсев был сыном конюха и пригонял вечерами коней в ночное прямо на наш луг, между улицей и речкой. Мы весь день ждали этого – заранее натаскивали хворост для костра, заранее приготавливали, чтобы потом не тратить время, сапоги и старые телогрейки, запихивали в карманы еду – хлеб, соль, лук, вареные яйца и сало, и с первыми звездами на уже густом синем небе, с первыми расслышанными в земле звуками лошадиного топота бежали каждый от своего дома к речке. Кто-то разжигал костер, остальные помогали Коле связывать передние ноги лошадей путами, которые висели кольцами на их шеях. Странно было, что эти веревки, казавшиеся признаком свободы после надоевшей дневной упряжи, становились как раз препятствием для движения. Кони поначалу злились, прыгая спутанными передними ногами, но потом привыкали и успокаивались. С сочным хрустом жевалась трава, гулко звучали удары лошадиных ног в земле, отовсюду слышалось всхрапывание – мы усаживались у костра, окруженные этими звуками, в которых едва различимо было журчание речной воды и потрескивание горящих веток.
Нет ничего вкуснее жареного на огне сала, насаженного ломтиками на прут, вместе с вареными яйцами, луком и хлебом. Мы ели, как будто спешили, как будто боялись, что скоро закончится этот вечер и надо будет возвращаться по домам. И разговаривали, перебивая друг друга, хотя Коля устанавливал очередность, кому говорить. Сам он рассказывал смешные истории про коней, кто кого лягнул или укусил, про слепней, которым можно замазать глаза дегтем, и они улетят вверх до самого солнца, пугал нас рассказами о местных колдуньях, которые только притворились, что умерли, а на самом деле подслушивают сейчас наш разговор. Когда он уходил посмотреть, не далеко ли разбрелись кони, или поставить небольшую сеть под берегом, чтобы утром забрать из нее попавшуюся рыбу, мы умолкали. Однажды в купальскую ночь Коля повел нас в лес – мы перешли речку по небольшому мостику, вместе вошли в темный мрак деревьев. Возвращаясь, Коля объяснил, что надо ходить поодиночке, только так можно увидеть цветок папоротника, но на это никто не решился.
Иногда к нам приходил его старший брат Васька со своей самодельной балалайкой и напевал насмешливые частушки про каждого – «ехал Витька на козе, десять лет ему узе». Нам это не очень нравилось, все молчали при Ваське, и он уходил, наверное, в клуб, к таким же взрослым.
Если молчание затягивалось, Коля по считалке «вышел летчик из тумана, вынул ножик из кармана…» назначал того, кому надо говорить. Даже сейчас, когда у меня случаются тоскливые минуты молчания, я закрываю глаза и переношусь туда, на берег, как будто вышедший из тумана летчик должен неотвратимо указать мне: пора, пора говорить.
В один из вечеров – я помню его как собранный из всех остальных, как спрессованный, – я все время молчал. Ничего в этом не было страшного, я был самый маленький, и мне, конечно, можно было оставаться только слушателем, но я помню, что хотел что-то рассказать, хотел, а слов не было. Не было истории, не было случая, о котором я мог бы рассказать, только желание. Странное ощущение! Как будто хочешь пить рядом с речкой, до краев наполненной водой, а нельзя, невозможно, и не знаешь почему.
Я поднялся и пошел к лошадям. Молодая кобыла Бамбула потянулась ко мне мордой, губами взяла посоленный хлеб, вздохнула доверительно. И я что-то стал ей шептать – о родителях, которые разрешают мне сюда ходить, какие они хорошие за это, как я ждал этого вечера и что дома, засыпая, буду не только там, под одеялом, но и здесь под звездами.
Громкий смех Васьки раздался рядом. Он уже спешил к костру, на ходу смеясь: «С конем говорит! Людей ему мало!» И возле костра все засмеялись, как ожидаемой шутке, подхватили это «с конями говорит!». От обиды я почувствовал, что не хочу быть человеком, а жеребенком или еще кем-нибудь.
Я пошел большим полукругом по лугу и увидел, как дым от костра сливается с туманом, растекаясь слоистым облаком – «вышел летчик из тумана…» – и вдруг почувствовал, что там, внутри этого облака есть то, о чем я думаю. Во мне так же не было слов, но я посылал туда свои невыразимые мысли и слышал ответ.
Молчания нет.








