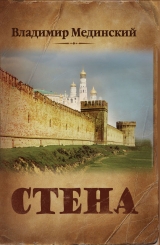
Текст книги "Стена"
Автор книги: Владимир Мединский
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Таинственный отшельник
(1609. Сентябрь)
Санька бежал, не помня себя и ничего не видя окрест. Ужас, обуявший мальчика, толкал его в спину, требовал бежать и бежать, а куда, для чего – Александр и сам не мог бы сказать… Может, гнал его вперед инстинкт русского крестьянина: как встанут между беглецом и злым барином пара верст леса, так и вольная, считай, вышла. Ищи-свищи.
Когда мальчик остановился, он все еще держал пистоль с авантюриновой рукояткой. Опустив глаза, увидел свои исцарапанные, окровавленные ноги. Сколько раз говорил ему дядя, чтоб не ходил босой, будто он мужик какой-то, а не дворянский воспитанник!
Чаща кругом казалась грозной, будто в детских сказках, что ему рассказывала маменька. Те сказки он помнил смутно, но знал, что именно в сказочном лесу должно быть такое густое, едва пробиваемое солнечным светом столпотворение толстых стволов, пушистых от наросшего на них лишайника… А мох-то, мох-то здесь каков – прямо по колено, сырой, испускающий густой, приторный запах…
Сколько ж до дому? Вроде бы не долго бежал… Но, верно, ошибся: вон сквозь качающиеся макушки просвечивает небо – темнеющее, становящееся ниже, тусклее. Значит, приближается вечер. Куда ж теперь-то?
– Господи, спаси и сохрани! – прошептал мальчик и перекрестился.
Что-то в чаще тихо ухнуло, застонало. Глухой вой послышался из совсем уж темной глубины. Неужто и волки теперь его почуяли?!
Санька вытащил мешочки с порохом и пулями, шомпол. И как ничего не выпало, не потерялось на бегу…
Мальчик сосредоточенно вспоминал дядины уроки: как заряжать-то? Ага, порох насыпается сюда. Так, сделано. Пулю – шомполом в ствол! Вот и пуля на месте. Теперь пыж… Пистоль заряжен. Волчью башку разнесет точно!.. Но ведь волки нападают стаей… Эх, ну как же не придумают до сих пор такой пистоль, чтоб не нужно перезаряжать после каждого выстрела? А то было бы как удобно: бах, бах, бах – и все волки уже издохли на подходе…
Сумерки сгущались. Чаща умолкла – ни уханья, ни воя. Тихо, будто кто-то невидимый приказал всем молчать.
Приближалась ночь. Холод, уже давно тянувший снизу, заставил Саню скукожиться и поджать под себя ноги. Но тут он вспомнил деревенские рассказы, как заблудившиеся в лесу девки залезали на ночь на деревья и тем спасались. Сунув пистоль за пазуху, он споро стал взбираться на дерево. Оттуда беглец увидал впереди, меж стволами, непонятное мерцание. Точно окошко светится. Пригляделся. Похоже, действительно оконце!
Ну и что ж теперь делать? Пойти туда? Если там разбойники, можно еще попробовать убежать. А если нечисть какая? Но зачем нечисти свет? Она ведь мрак любит…
Санька снова перекрестился, скатился с дерева и шагнул к просвету, за которым мерцал неведомый огонек.
Толстые стволы раздвинулись, и открылась поляна, скупо освещенная высыпавшими на небе звездами и тем самым светом, что сочился из окошка. Сразу было не разобрать – изба ли, землянка ли? Кажется, изба, низкая, в землю вросшая. Курьих ног, про которые в сказках сказывается, не заметно. Не нечисть тут гнездится – люди живут. А откуда ж людям в чаще-то взяться?
Шаг за шагом Санька подходил к неведомому жилью, ощущая вместе со страхом любопытство. Хватит ли смелости постучать в дверь? Может, сперва заглянуть в окошко? Оконце изнутри закрывается на деревянную задвижку, а больше ничем не затянуто. Сразу все видно будет. А ну как высунется харя бесовская с пятачком заместо носа?! Или глаза жабьи выпучатся?
Поднялся ветер, зашелестел, зашептал что-то зловеще-неразборчивое в кронах деревьев, прохладной невидимой ладонью погладил по лицу…
И Санька вдруг оступился – нога скользнула по гладкому корню. Он качнулся, раскинул руки, выравниваясь… а когда поднял голову, то увидел посреди поляны, как раз перед избенкой, человеческую фигуру. Показалось, что она очень высокая, будто в два роста. Вся черная, от пят до головы, покрытой черным острым колпаком… Но нет: согбенная была та фигура, горбатая. А вот ежели бы разогнулась, то роста стала бы неимоверного…
Мальчик ахнул, хотел было поднять руку для крестного знамения. Но в руке был пистоль.
Тотчас в воздухе мелькнула белая птица. Сокол со сверкающим оперением пронесся перед самым лицом, взмыл в черноту, потом камнем ринулся вниз. И вот уже закачался прямо перед глазами на кривой ветке, повисшей над краем поляны.
Снова будто наваждение овладело Санькой, снова палец сам собою нашел стальной шарик. Выстрел прогремел еще сильнее, чем там, в доме. Сокол исчез, точно и не был, а согнутый человечище в черном, что стоял посреди поляны, молча шагнул вперед.
Мальчик завопил, развернулся и кинулся в чащу. Из-под ног, коротко пискнув, сигануло что-то живое, теплое, поросшее шерстью… И вроде бы чьи-то глаза зажглись в кустах, смотрят пристально, жадно, голодно… Но все тот же предательский корень зацепил Саньку за ноги, рванул, и бросил лицом вниз в густой, пахнущий могилой мох…
– Не сильно убился-то?
Прозвучавший над головою мягкий, ласковый голос разом растопил ужас, поглотивший Санькино сознание. Теплая рука легла на плечо, потом погладила по голове.
– Ты вставай, вставай. Помочь?
Санька привстал на руках, развернулся, сел. Над ним стоял сгорбленный старик в длинной черной одежде монаха. Свисающий с груди наперсный крест говорил о том, что монах не простой,[32]32
Простые монахи не носят на груди наперсного креста. В ту пору крест на груди носили только высокопоставленные или отличившиеся чем-либо священники.
[Закрыть] да и надо лбом старца в неверном свете звезд обозначился не колпак, как показалось со страху мальчику, а куколь схимника.
У старика было очень хорошее лицо: доброе, ласковое, почти детское, и множество избороздивших его морщинок это только подчеркивали. Глаза же сияли такие ясные, голубые, как утренний ручеек, что от их взгляда против воли делалось легко. Белая, точно облако, борода спускалась по груди к самому кресту.
– Что ж ты в живого человека палишь-то? – так же мягко проговорил схимник. – А ну как попал бы?
– Я не в тебя, дедушка! – Санька пошарил рукою в траве, нашел злополучный пистоль и протянул его на ладони, будто доказательство своей невиновности. – Тут птица была… Набросилась – думал, глаза выклюет… Сокол.
– Сокол? – в голосе старика послышалось сомнение. – Так ведь ночь уже… А не сова?
– Сокол! Вот как Бог свят! Белый совсем.
При этих словах лицо монаха стало очень серьезным. Он вновь потрепал мальчика по голове и вздохнул.
– Ну, если белый, то плохо дело… Хотя и в птицу-то тоже просто так стрелять не годится. Творение ведь Божие. Его не то, чтоб убивать, хулить нельзя. Похуливше что-либо: дождь, или снег, тварь Божию, – да получит епитимию: три дня на хлебе да воде, – припомнил схимник монастырское правило. И добавил: – Хотя, ежели он и вправду был белый, то ты б его не убил…
– Почему?
– Пресвятая Богородица, помогай нам… Вставай-ка, отрок Александр. Да в дом пошли.
Душу мальчика холодной иголкой вновь кольнул страх.
– Дедушка, а откуда ж ты мое имя знаешь?
Монах снова улыбнулся в свою облачную бороду.
– Так ведь тебя люди искали. Из деревни. На весь лес кричали: «Саня! Санька!». Я сразу понял, как тебя увидал, что вот он, тот самый Саня и есть. Идем, идем!
Санька сидел с миской на узкой лежанке, застеленной рогозиной, ел размоченный в воде хлеб с толченым луком и какими-то душистыми лесными травами. Его разбитые о корни ноги были вымыты, укутаны чистыми холщовыми портянками и обуты в лапти, ссадины на руках и коленках смазаны чем-то густо-смолистым, отчего боль сразу утихла.
Избушка, сложенная из березовых бревен, внутри казалась еще меньше, чем снаружи. Была она очень старая, совсем вросла в землю, и чтобы войти в низенькую дверцу, надо было спускаться по ступенькам. Кроме лежанки в избе стояли небольшой струганный стол, над которым горела лучина, да сундук – верно, ровесник избы. На нем притулились кувшин с водой, глиняный стакан, берестяной туесок. В красном углу висели потемневшие иконы и большой крест с Распятием, теплилась лампадка. Перед ними стояли подсвечник и аналой – здесь схимник совершал свое келейное молитвенное правило. Напротив, у двери, висел кумганец – медный рукомойник с носиком и крышкой, под ним стояла лохань. Рядом белел чистый рушник.
– Спасибо, дедушка! – мальчик облизал ложку и, перекрестясь, отодвинул опустевшую миску. – Тюря страсть какая вкусная!
– С голоду-то все вкусно, – проговорил старик. – Всего-то хлеб, лук да травки. Хлебушек мне иной раз из деревни приносят, на опушке в дупле оставляют. Лук да репку сам сажаю, огород завел зеленого ради растения, травки в лесу собираю… Милостив Господь.
– А зайцев в силки ловишь?
– Дитятко ты еще неразумное. Русские монахи мяса не едят. Какова милость Божия надо мною грешным была в пустыни, что я в первые годы кушал? Вместо хлеба траву папорть и кислицу, и дубовые желуди, а гладом не уморил меня Бог. Господи помилуй.
– Не боязно, дедушка, диких зверей-то?
Санька вспомнил свои недавние страхи в чаще и поежился.
– Монаху ничего не страшно. А хозяюшко, случалось, в самом деле захаживал, репой с огорода баловался. Чего нароет, а больше натопчет. Медведь, он ведь, как у нас в сказках, – создание разумное. И согрешить мишка может, и на дела добрые способный. Ну, так я его молитвою связал, хворостину взял да повоспитал хорошенько. Господи, прости мя грешного.
Мальчик почему-то не удивился, что отшельник так просто взял да выпорол медведя.
– А разбойничков встречал?
– Приходили ко мне. Иконы забрали, а меня повязали и бросили. Да только сами выйти из леса уже не могли. Через неделю вернулись, оборванные да израненные, назад иконы принесли. В ногах валялись. Я их простил. Ушли вроде, больше не слышал о них.
Санька счастливо рассмеялся. Как же хорошо, что этому доброму дедушке дана сила и над дикими зверями, и над злыми людьми!
– Не моя то сила, – ответил старик его мыслям. – Пустынники к Богу ближе, и все в руце Его. Дело наше одно – молитва за всех православных христиан. Потому я из обители и ушел, что… Ведь как у нас бывает? Пострижется в монахи боярин какой али князь – свои же грехи перед тем, как пред Богом предстать, отмолить. Келья у него о пяти комнат и холопов до десяти. Где благодать, спрошу? Суета одна да тщеславие. Прав был великий государь, упокой, Господи, его душу, когда писал кирилловским старцам… Я эти слова хорошо помню! «Это ли путь спасения, если в монастыре боярин не сострижет боярства, а холоп не освободится от холопства?»
– Великий государь – это Иоанн Васильевич? У меня так дядя Митько… барин мой так его называет.
– Так мы с барином твоим, рабом Божиим Димитрием, вместе Грозному и служили.
– Неужто? – так и вскинулся мальчик. – Так ты что же, дедушка, не всегда в монахах ходил?
– Не всегда. – Старик кивнул, взял со стола миску и поставил на сундук. – Это ныне я – схимник Савватий. А тогда… тогда Ливонская война была, и были мы с Дмитрием твоим Станиславовичем, можно сказать, дружны. Вместе в Ливонии замок брали, когда нас из пушек накрыло. Брони нас от смерти уберегли, Колдырев царапинами отделался, а меня, вишь, как скрутило по грехам моим.
Санька смотрел на пустынника во все глаза. Вроде бы дядя Митько сказывал о каком-то монахе, с которым его многое связывало в прошлом. Что же, неужто тот самый?
– А что до грехов… Ну вот, скажем, ты: еще и не вырос, а уж два тяжких греха на душу взял – дядюшку своего, благодетеля, едва не убил, а после и в меня, монаха, – стрелял! Скажешь: не хотел, птица, мол, явилась. Так и ее не за что было жизни лишать. Это Господь тебе указывает: если уж стреляешь, то не сгоряча, не со злобы мгновенной и не с перепугу. А поначалу – долго думай, решай и знай, в кого и за что!
Мальчик кинул взгляд на край лавки, где лежал разряженный пистоль. Поежился, вспомнив, как алые брызги залили рубашку старого Колдырева.
– Я ж тебе сказывал, отче: поделалось со мной что-то. Голова помрачилась. Ни в жисть бы я палить не стал! Сокол этот меня испугал!
– Нет, – мотнул головой инок да так резко, что борода качнулась. – Не тебя пугать сокол прилетел. Он для другого дела явился…
– А для какого? Скажешь?
Чистое лицо схимника Савватия вновь омрачилось. Некоторое время он раздумывал, будто решая, отвечать ли на вопрос, ответ на который знал, но не хотел произносить вслух. Потом проговорил:
– Беда будет, отрок Александр. Большая беда. Каждому из нас – испытание. Кому какое – вскорости узнаем. А теперь ложись-ка ты спать. Утром я тебя из леса выведу, дорогу до имения покажу.
Но Санька отчаянно замотал головой:
– Дедушка… Отче! Не надо мне сейчас туда идти! Дядя Митько, может, думает, будто я в него…
Монах, до того сидевший на лавке против мальчика, пересел к нему на лежанку и со все той же лаской обнял за плечи:
– И что ж ты делать думаешь? Не в лесу ведь жить станешь?
Санька всхлипнул:
– Но ты вот живешь!
– Э! Чтоб как я жить, надо и нагрешить с мое. Ладно, дитятко: поспи, а поутру все обсудим. Может, и правда, день-другой проведешь со мной. Дядюшка отойдет, остынет, гнев у него схлынет. Давай, ложись-ка.
Все переживания этого странного дня проходили перед глазами Саньки, будто череда ярких картинок, смущая, пугая, лишая сил. Он сделал над собой усилие и еще раз окинул взглядом внутренность кельи.
– Отче! А ведь лежанка-то у тебя одна. Где же ты спать ляжешь?
– А я, – отвечал Савватий, – нынче спать не буду. Мне, дитятко, этой ночью молиться надо.
– Чтоб беды не случилось?
– Беда, родимый, все едино случится. Господь ведает, о чем я Его просить буду… А ты спи.
Отрок Александр провалился в глубину бездонного сна, даже не почувствовав, как старец прикрыл его полушубком.
Сквозь сон до него, однако, смутно доносились слова молитв, которые читал схимник, став на колени перед божницей. Вернее, казалось, будто он читает одну бесконечную молитву, то совсем тихо, то громче, и тогда в его голосе слышны слезы.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Внегда поставлени будут престоли на судищи страшнем, тогда всех человек дела обличатся; горе тамо будет грешным, в муку отсылаемым; и то ведущи, душе моя, покайся от злых дел твоих!
Вдруг перед Санькой открылся огромный, полный народа храм. Люди в нем стояли на коленях и уже все хором, в единый голос творили молитву:
Праведницы возрадуются, а грешнии восплачутся, тогда никтоже возможет помощи нам, но дела наша осудят нас; темже прежде конца покайся от злых дел твоих!
Санька видел, что люди эти какие-то необычные, одеты совсем не так, как одеваются в деревне, да и не так, как в городе. И от иноземцев с картинок, что показывал ему Григорий, они тоже отличались. Мужчины были безбородые, а женщины, хотя и с покрытыми головами, но не все в платках – на ком-то были шапки, как у мужиков. Многие – в волнующе коротких платьях. Но они были русские, и на одном дыхании молились. По-русски.
Помышляю день страшный и плачуся деяний моих лукавых: како отвещаю Безсмертному Царю, или коим дерзновением воззрю на Судию, блудный аз? Благоутробный Отче, Сыне Единородный и Душе Святый, помилуй мя!
Сперва тихо, потом сливаясь с молитвой, потом почти ее перекрывая, откуда-то нарастал странный рокот, рев, словно невиданной силы буря готова была обрушиться на храм. И вот уже совсем близко грянуло, разорвало грохотом воздух. Заметались огни свечей, дрогнули под сводами паникадила. Грохнуло еще ближе. Так что, кажется, задрожали стены, с которых огромными глазами глядели на молящихся лики святых.
Но люди продолжали молиться.
Снаружи доносились крики, непонятный сухой, лающий треск, точно били одна за одной сотни колотушек. Вот и хор запел. И, надо ведь, что запел! «Ты еси Бог, творяй чудеса»,[33]33
Ты – Бог, творящий чудеса (церк. – слав.).
[Закрыть] как на Троицу поют. Но тогда в храме березки должны быть, а по полу трава рассыпана… Где ж это все? И что так страшно ревет и грохочет? Будто за стенами храма – ад!
Санька поднял руку, чтоб перекреститься… И вдруг на нее сел, невесть откуда взявшись, давешний сокол. Тяжело сел, с размаху, захлопал крыльями, пристраиваясь, больно вцепившись когтями в запястье. Глянул в лицо оторопевшего мальчика глазами, в которых плескался жаркий золотой огонь, и сказал хрипло, по-человечьи:
– Иди. Посмотри, что там.
– Страшно! – выдохнул Александр.
– Не страшно. Иди и смотри!
Он встал (оказывается, тоже стоял на коленях!), протиснулся к выходу, отворил двери.
За дверями храма царил все тот же грохот, что-то трещало и рокотало, кто-то кричал отчаянным криком. Но ничего не было видно: буря крутила непроглядные темные вихри прямо перед самым лицом. Неужто снег?
– Я ничего не вижу! – закричал Александр, рванувшись назад.
– Смотри!!!
И тогда он увидал, как из тьмы ползут, рыча и изрыгая адский огонь, чудовища. Чудовища мчались, сминая землю, точно желая уничтожить на ней все живое. А за ними бежали люди. Но вдруг словно из-под земли перед одним из чудищ встал витязь. Чудище видимо не заметило его, поскольку был он весь в дивном белом одеянии с макушки до пят, не видно на снегу. Человек этот взмахнул рукой в сторону чудища. И то разом вспыхнуло громадным факелом. Но другое тут же оглянулось и извергло из пасти огонь – а через миг накатило на воина, опрокинуло, вдавило в землю.
– Что это?! Что это?! Кто они такие?! – Санька не узнавал своего голоса – тот совершенно охрип.
– Смотри! – вновь потребовал белый сокол.
И не сокол это был вовсе. Какой-то высокий воин, весь в светлом, стоит рядом. Белый плащ с плеча скользит на землю. Под изгибом шлема сверкают огнем золотые глаза.
Санька оборачивается, но храма позади уже нет. Только широкое поле с раскиданными по нему припорошенными снегом телами. И воина рядом нет больше. Лишь слова молитвы по-прежнему звучат, хотя теперь и вовсе непонятно, кто твердит их.
Святый Боже, святый крепкий, святый безсмертный, помилуй нас!
Санька вскрикнул, дернулся и… едва не упал с узкой лежанки на пол.
Избушка была полна предутреннего сумрака.
Старец Савватий так и стоял на коленях перед иконами, то сгибаясь пуще прежнего в земном поклоне, то поднимая свою белую голову к образам и воздевая руку со сложенным двуперстием. Услыхав возглас отрока, а затем и шорох, обернулся, оперся рукой об пол, встал.
– Что так кричал? – голос его был все так же ласков, но лицо будто бы осунулось и посуровело за эту ночь. Может и он, читая молитвы, что-то видел?..
– Сон был непонятный! – мальчик сел на лежанке, мотая светлыми кудрями и пытаясь избавиться от ощущения, что все виденное им действительно было. – Я будто Страшный Суд видал.
Схимник рассмеялся.
– Ну, скажешь! Откуда ж тебе ведомо, каков он будет? Никто того не знает.
– Я белого сокола видал! А потом он человеком сделался… Еще какие-то страшилища ползали, людей давили, огнем плевались.
Савватий грустно покачал головой.
– Вставай, не то жизнь проспишь. Обувайся.
Санька отыскал под лавкой лапти и сунул было в них ноги, но вспомнил, что вечером был бос, и тут же быстро глянул на схимника:
– Отче, а лапотки-то твои…
– Надевай, надевай! – старик опять ободряюще тронул голову мальчика. – У меня своего ничего нет и быть не может. Я же монах, обет нестяжания давал. Что мне для жизни нужно, люди добрые подают, иногда сверх меры. Но не откажешь – руку дающего отвергнешь, значит возгордился! Крестьяне в дупло на опушке этих калиг лычных ишь – целых три пары засунули, а ног у меня сколько? Надевай, да пошли по грибы. Хлеб-то ты вчера съел.
Услыхав эти слова, мальчик радостно встрепенулся:
– Значит, можно у тебя пожить, да, дедушка? Пока хозяин меня не простит?
Савватий буркнул под нос что-то вроде: «Хозяин… Господь Бог наш – вот кто хозяин…», еще раз со вздохом перекрестился на образа и достал из-за сундука плетеную корзину.
– Пожить – оно, конечно, можно. А опоздать не боишься?
– Опоздать? К чему это?
Схимник не ответил. Шагнув к низкой двери, отворил ее и впустил в избу прозрачный поток утреннего света.
– Пошли. Грибы белые сейчас как раз из земли вышли. Нас ждут. Идем.
Грамота десятника
(1609. Сентябрь)
Григория и Фрица разбудил грохот. Спросонья оба не враз сообразили, где находятся.
Колдырев скатился с широкой кровати, на которой они спали вдвоем – в точном соответствии с правилами европейских постоялых дворов, где незнакомые люди обычно делили постель, и глянул в окошко. Какой-то человек, державший под уздцы коня, колошматил в ворота постоялого двора то ли палкой, то ли рукоятью сабли. Колошматил и орал по-польски:
– Отворите! Немедленно отворяйте, или я прикажу высадить и ворота, и дверь!
– Это что же, за нами? – Колдырев обернулся к неслышно подошедшему сзади Фрицу. – Не из-за десятника ли нашего?
– Очень может быть, – напряженно согласился Фриц. – Вдруг кто-то все же видел нас. И донес. Надо было дальше уехать…
– Но как, бес их забери, они проведали, по какой дороге…
– Тоже могли видеть. Да и дороги от того места ведут всего две. Слушай, Григорий, теперь не до вопросов!
Майер метнулся к своей сумке, выудил из нее бутылку шнапса и вырвал из нее зубами пробку.
– На вот, рот прополощи, – протянул он бутылку Григорию. Потом плюхнулся на край лежанки и сам приложился к горлышку.
И почти сразу дверь комнаты распахнулась от мощного пинка, и командир верховых шагнул через порог. За его спиной топтались несколько кирасиров. В руке одного из них пылал факел.
– 3… занято! – на скверном польском воскликнул Фриц. – К… комната на двоих.
– Кто такие? – с порога спросил поляк.
– Мы? – Майер так похоже изображал пьяного, что Григорий едва удержался от улыбки. – Мы – добрые христиане, ясносветлейший… Э, нет, не так! Светловельможный пан! Д… добрые католики.
– Я не спрашиваю твоего вероисповедания! – рявкнул офицер. – Откуда взялись и куда едете?
– Едем к его… его величеству королю Сигизмунду, в… в его ставку, в Вильно. – Фриц, ничуть не смущаясь, вновь запрокинул бутылку и побулькав водкой, продолжал: – М… мы – германцы, рекруты. У… у меня даже этот… пан-тет… Нет-нет, па-тент имеется!
С этими словами немец поднялся и, раскачиваясь, ткнулся в угол, где на сундуке была сложена небогатая поклажа путников. Взял свою сумку, порылся в ней и, отыскав свиток, шагнул было к офицеру, однако его повело в сторону, и, чтобы не упасть, он прямо-таки рухнул в объятия одного из кирасир.
– Немцы пить не умеют, – заключил тот, брезгливо отпихивая от себя Фрица. – Это ж надо так надраться…
– Неправда, мы умеем пить! – возмутился Григорий, поддерживая игру друга. – Просто долго отмечали удачу: это же прекрасно, что ваш король затеял войну и ему потребовались солдаты! Вот мы и отметили это дело… Ну, перебрали немного…
В это время офицер, развернув патент, который Фриц сумел-таки ему вручить, пробежал бумагу глазами и возвратил немцу.
– А ты? – он обернулся к Григорию.
– А я – простой воин! Не офицер, пан… 3… зато по-польски говорю, понимаишь… Я люблю польских панночек! Слава Великой Польше! От моря и до моря! Ура! – Григорий слегка привстал, но тут же, потеряв равновесие, рухнул мимо кровати на пол.
Командир не сдержал ухмылки:
– Обыщите их вещи, – приказал он двоим кирасирам. – Тому, кто найдет письмо, – два золотых.
У Григория екнуло сердце. Он вспомнил: среди всяких мелочей, что они с Фрицем нашли в сумке убитого Майером польского десятника, был небольшой свиток. Друзья не стали его читать, решив отложить это развлечение на завтра, когда будет светло. Не это ли письмо ищут поляки? Вдруг в нем что-то важное? И если найдут, письмо выдаст беглецов с головой! Больше ничто не выдаст – сумку убитого они предусмотрительно выкинули, а все остальное – кошель, пистоль, одежда – были самые обычные, как у всех…
Григорий кинул взгляд на свою стоявшую в углу шпагу: успеет ли схватить ее?..
Тут же он поймал предостерегающий взгляд Фрица: «Не дергайся!»
– Вот! – один из солдат протянул командиру свиток.
– Ага! – поляк схватил бумагу, развернул, жестом приказав другому кирасиру поднести ближе факел. – Но… Пся крев, это не то! Здесь чушь какая-то. Даже непонятно, на каком языке!
По тыльной стороне письма снизу вверх шли буквы, выведенные его собственной рукой в заведении пани Агнешки: «SMOLENSK». Это было письмо купца-англичанина его московскому другу. Среди всех бурных событий последних суток Колдырев совсем про него позабыл.
– Чье это? Что это такое, что там написано? – спросил офицер, обращаясь к обоим приятелям.
– Это мое, пан! – Григорий подошел и ткнул пальцем в послание. – В моем родном городе Кельне я подружился с купцом из Англии. Он узнал, что я собираюсь ехать воевать с русскими, и просил отвезти в Москву письмо… когда Москва падет… письмо его другу. Я не мог отказывать. Хотите, переведу, что он там написал?
– Не надо! – поморщился поляк.
– Нет, я переведу… – пьяно настаивал Григорий. – «Сколь редкая и сколь долгожданная возможность отправить вам весточку! Мой дорогой друг…»
– Заткнись! В любом случае, это не то, что мы ищем… – Он обернулся к солдатам: – Эй, вы все обыскали? Все? Хм… Тогда перетряхните-ка и постель.
Но и в постели ничего подозрительного не обнаружилось.
– Ощупайте их одежду! – последовал новый приказ. – Может быть, за поясом? Нет? А в сапогах посмотрели? Что, тоже пусто?
– Седла их коней лежат внизу, – сообщил командиру молодой кирасир. – На них нет ни сумок, ни мешков. Все здесь. Сапоги пустые.
– Хм! – уже с меньшей злостью, но с изрядным разочарованием повторил офицер и вновь повернулся к Григорию. Во-первых, тот лучше говорил по-польски, а во-вторых, явно был пьян меньше, чем его товарищ. – Скажи-ка, вы ведь выехали из Орши вчера вечером?
– Да, ясновельможный пан. Почти ночью. Уже луна взошла, – ответил Григорий и мысленно вознес хвалу Господу: не догадайся он вчера разорвать верительную грамоту из Приказа, сейчас им было бы не отвертеться.
– Ага! А когда ехали окраиной, не слыхали ли выстрелов?
Вот оно! Так и есть… Дело именно в том самом поляке! Но неужто же из-за одного пьяного десятника послали в погоню целый отряд?..
Письмо! Дело в этом злополучном письме, которое Фриц, надо думать, все же выкинул.
– Какие-то выстрелы мы точно слыхали. Похоже, из пистолетов. А потом вскоре нас обогнали два… нет, три всадника.
– Как они выглядели? – быстро спросил пан.
– Я не разобрал, пан. Было очень темно. Они свернули на другую дорогу.
– Дьявол! – вырвалось у командира. – Неужели ушли… Послушай, немец, вчера вечером на окраине Орши убили и ограбили польского офицера. Мне было поручено встретить гонца и проводить… куда надо. Кто убийцы, сколько их было – нам пока не ведомо. Возможно, кто-то ранен: наш товарищ храбро защищался. Если хорошенько вспомните этих людей, какие они с виду, получите по злотому.
– С… срочно вс… вспоминай! – завопил Фриц, едва не поперхнувшись шнапсом. – Я п… видел этих троих только сзади. В черных плащах они были. Все трое. И с наброшенными капюшонами.
– Клянусь Пресвятой Девой, ничего не помню! – сокрушенно воскликнул Григорий.
– Значит, трое… Ну, хоть что-то, – сморщившись, фыркнул поляк, порылся в своем кошеле и сунул прохладные кружочки в жадно подставленную ладонь Фрица.
– Но пан! Здесь не золотой, а крейцер! – возмутился немец.
– За то, что тебе, пьяная твоя башка, удалось рассмотреть плащи и капюшоны, и того много! – офицер развернулся и, звякнув кирасой, шагнул к двери: – За мной, солдаты!
– А выпить с нами! – рванулся за ними Фриц и так неудачно, что опять едва не упал и вновь повис на шее у того же здоровенного кирасира.
– Да чтоб ты лопнул от своего пойла! – рявкнул тот, отталкивая немца. – Я тебе не девка пани Агнешки, чтоб ты меня лапал!
Когда за окном смолк стук копыт, друзья, не говоря ни слова, пожали друг другу руки.
– Ну, и лихо же у тебя получилось изобразить пьяного! – наконец обрел дар речи Колдырев. – Точно ли ты военный? А не комедиант?
Фриц расхохотался.
– Это у меня давний прием. Я, бывало, так на свидания с Лоттхен ходил. Девушке, в Кельне. Встречались в саду за их домом. Я посвататься хотел, а тут эта история с содомитом и мой смертный приговор…
Воспоминание о своей невольной вине перед Фрицем заставило Григория отвернуться. Сказать, не сказать? «Да нет, – успокоил он свою совесть, – сейчас не ко времени…»
– А почему ты пьяным-то прикидывался, когда к этой своей Лоттхен ходил?
– Да потому, – ответил Майер, – что идти к саду надо было мимо их окон. А у нее ужасно строгий отец! Вот я уловку и придумал: пьяного-то кто заподозрит, что он идет к юной фройляйн? Хочешь?
Он протянул Григорию бутылку.
– Хочу. И выпьем за то, что ты так удачно сообразил выкинуть тот свиток, что был в сумке покойника.
– А я его и не выкидывал. – Фриц сделал большой глоток и протянул бутылку товарищу.
– Как?
– Вот оно, письмо.
Немец сунул руку за ворот рубахи и вытащил пресловутый свиток. От изумления Григорий чуть не выронил бутылку, которую как раз подносил ко рту.
– Как это?! Они же нас обыскивали!
– А вот так. Когда обыскивали, письма при мне и не было, – довольный Майер снова засмеялся, сияя своими великолепными зубами. – Свиток я вынул вместе с патентом, а потом… Помнишь, я два раза упал на верзилу, что стоял возле самой двери? Ну так вот, в первый раз сунул в его сумку свиток, а во второй раз вытащил и спрятал под рубахой.
Колдырев смотрел на товарища с настоящим восхищением.
– Вот так штука! Ловко! А я ничего не заметил.
– Главное – они не заметили! – подмигнул Фриц. – Не знаю уж, какой из меня комедиант, а воришкой я был бы просто отменным. Знал бы ты, сколько раз я подшучивал над приятелями! Чего только им не подсовывал – от любовных записок до вызова на поединок! В казарме бывает скучно, а это казалось мне смешным. Давай-ка зажжем свечу да прочитаем это проклятое письмо. Слишком дорого оно нам стоило, чтобы просто выбросить. Только читай ты: если я еще кое-как могу сказать десяток фраз по-польски, то с их грамотой у меня совсем никак.
Григорий развернул свиток.
«Милостивый государь! – гласило письмо. – Все еще с надеждою и нетерпением ждем обещанного Вами плана подземелий крепости С., коий Вы обещали выслать пятого дня. Цена Вашей услуги остается прежней.
От имени ЕКВ CIII, Ваш преданный слуга, Т.»
Колдырев несколько мгновений оторопело смотрел на письмо. Он знал польский ну разве чуть хуже немецкого и не сомневался в том, что правильно понял написанное. Но смысл послания не сразу уложился в голове. Это что же выходит? Выходит, в крепости Смоленска, можно сказать, его родного города, – а как еще понять букву «С» из письма! – завелся изменник, который собирается помочь врагу захватить город?! План крепости! Вот это да…
– Ты понял, что это значит? – Григорий наконец поднял голову и посмотрел в глаза Фрицу.
Тот присвистнул:
– Не знаю, как у русских, а у нас это называется «крыса завелась»! A CIII – это определенно король Сигизмунд… Если у меня и была капля сожаления по поводу того поляка, которого я убил вчера вечером, то теперь я даже рад этому. Десятник-то был не просто десятник, а важный королевский гонец. Но провалил дело, потому как балбес и плохой солдат – слишком любит вино и пышные сиськи. С таким-то письмецом да заявиться в бордель!


