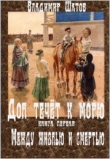Текст книги "Державы верные сыны"
Автор книги: Владимир Бутенко
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
7
То, что поступил опрометчиво, сев на лошадь, Леонтию Ремезову стало понятно уже на исходе первого дня пути. Вновь разболелась рана, бросило в жар, и он покорно улегся в арбе аул-бея, в которой ехали две молодые жены Керим-бека. Несмотря на то, что сотник жил у них почти месяц ни Мерджан, ни Алтынай не снимали платков, из-под края которых видны были только глаза. Но почему-то Леонтия необъяснимо влекло к Мерджан, – была она высока, стройна, в движениях уверенна. Ее сомужница выглядела старше, вследствие чрезмерной полноты и неповоротливости. Между женами иногда вспыхивали перепалки, но тут вступала в спор первая жена аул-бея и – водворялся покой.
Слуга его, казак Плёткин, ехал следом за арбой на верблюде и, костеря глуповатое животное, частенько слазил на землю. Однако, свою лошадь, заметно отдохнувшую за последнее время, округлившуюся в боках, седлать не торопился. Жалел, разумеется.
«Когда же полк догоним?» – с тревогой гадал Ремезов, глядя на влекущиеся мимо скаты холмов, кустарники, приречные камыши. Временами кочевье оказывалось на гладкой, как стол, равнине, теряющейся в дымке горизонта. И тогда выхватывал глаз стада дроф, пасущихся вдоль солончаковых низинок, журавлиные стаи, опустившиеся на роздых. Птичьи концерты не умолкали ни на час. Жила степушка своей извечной жизнью!
Внезапный снежный буран заставил Керим-бека остановить дальнейшее продвижение. Он приказал стать арбам и повозкам полукругом под прикрытием зарослей боярышника и фундука. К счастью, кое-где на ветках еще держались орешки, и аульная детвора принялась дружно лакомиться.
Плёткин почему-то в этот день был, как никогда, угрюм и насторожен. Он сбатовал[16]16
Сбатовать (донск.) – стреножить.
[Закрыть] своего верблюда, отогнал на край бурьянов, и неотлучно находился при командире. Когда прислужники и жены аул-бея развели костер и стали на нем готовить калмыцкий чай, Иван наклонился к сотнику, лежащему на арбе.
– Ваше благородие, извелась душа по своим. Надо от этих нехристей отбиваться. Я даве видал наш разъезд казачий, он по бугру мелькнул. Должно, и полк поблизости.
– А как реку одолеть? Разлив широк.
– А я сплаву смастерю. На решетку, что от юрты, камыш уложу. Абы вас перевезти, а я и на коне переплыву. Зараз метелицу переждем, а там потеплеет. Вы скажите бею, чтоб подсобил в переправе. Да и харчей нехай бабы его дадут, покамест своих достигнем.
Леонтий слушал казака, поглядывая, как Мерджан наливала в закопченный большой котел воду. Она нравилась ему с каждым днем всё больше, казалась еще красивей. Недели две назад Керим-бек привел в свой шатер, заплатив большой калым, юную женушку Айгюль. И теперь не разлучался с ней, баловал, освобождая от всякой работы. Старшая жена аул-бея, уже поблекшая тетка, безропотно мирилась с медовым месяцем мужа, но в глазах Мерджан замечал Леонтий презрительный блеск, когда появлялся аул-бей вместе с младой женой. И трудно было понять, почему ей предпочёл муж какую-то тщедушную девчонку? Вероятней всего, была неласкова с ним, холодна. По этой причине и не могла зачать ребенка…
– Хороша баба, эта Мерджанка, – поймав взгляд сотника, кивнул Иван. – Да и по-нашенски кумекает. Спрашивала, чи женат вы, ваше благородие.
– Помоги мне встать.
Ремезов, опираясь о плечо казака, стал на землю. Прихрамывая, подошел к костру погреться. Мерджан встретила его улыбающимися глазами. Проворно и легко подхватила со своей арбы сундучок и поставила к ногам русского, показывая рукой, чтобы садился. Леонтий, смущенный и тронутый заботой ногаянки, кивнул в знак благодарности. Между тем боль в левой ноге почти не ощущалась. Недаром знахарь аульный заставлял его по ночам прятать ноги в мешок из собачьей шерсти.
Мерджан с прислужником, рубившим конину, стряпала похлебку. В воздухе, посветлевшем после метелицы, искрилась снежная пыль. И земля окрест, и подводы, и крупы животных были в мучнистом, по-весеннему, снежке. А кусты боярышника дивно узорились черно-белыми ветками. Густо и пряно пахло дымом, – бурьянно-кизячным, стелящимся по-над степью.
Вдруг откуда-то с неба, широко разбрасывая крылья, стала резко снижаться серо-палевая дрофа, угрожающе кугикая. Леонтию показалось, что ее кто-то подбил. Но, рухнув на прибрежный взгорок, здоровенная птица (гораздо крупней станичных индюков) засеменила когтистыми лапами по целине наутек, с обвисшими, покрытыми слоем льда крыльями.
Плёткин, схватив двурогие вилы – первое, что попалось под руку, – припустил вдогон. Мчалась дрофа прочь с поразительной скоростью, издавая невнятный клекот и размашисто кидая ногами. Но и казак явил такую прыть, что расстояние между ними стало неуклонно сокращаться. Бедная птица, обессилев от ледяного панциря, сковавшего оперение после дождя и ударившего следом мороза, закричала отчаянней. Несколько раз попыталась взмахнуть огромными крылами, но не смогла. И, сбавив ход, развернулась, нацелилась клювом отражать угрозу. Казак с разбегу саданул древком вил по ногам дрофы, подсек, а затем уже добил ее, распластанную…
Ногайчата, бежавшие за Иваном-эфенди, с радостными криками сопровождали обратно охотника, волокущего тяжелого дудака за шею. С потного лица казака не сходило довольное выражение. Он швырнул добытую птицу под арбу бейских жен и, переведя дух, вымолвил:
– Никак не менее пуда, господин сотник. Тяжелючая – ужасть! На пол-аула хватит!
Джамиля, биринджи-жена[17]17
Биринджи-жена – старшая жена.
[Закрыть], позвала двух аулянок, которые быстро ощипали дрофу, осмолили на костре и, выпотрошив, передали одному из джор[18]18
Джора (тат.) – слуга.
[Закрыть] Керим-бека. Тот нанизал тушку птицы на вертел и принялся жарить на углях из ивовых и алычовых коряг, найденных возле реки. Ватажка детей крутилась поблизости, ожидая угощения.
Потеплело, раскрылось на западе вечернее небо. И закатные лучи медно-красной дорожкой пролегли по разливу Еи, окрасили степное заснежье. С кустов стали осыпаться влажные, как сахарная крошка, комочки. Напористей затрещал костер. Ремезов, протягивая руки к огню, искоса наблюдал за красавицей Мерджан, хлопотавшей у котла. Украдкой и она посматривала на статного казачьего офицера, щуря от дыма свои прекрасные зеленовато-серые глаза.
Семейство Керим-бека принимало пищу отдельно, у костра. Единственным приглашенным был мулла. Этот щупленький старик, однако, обладал завидным здоровьем. Несмотря на многократные молитвы в течение дня и ночи, мулла всегда был собран, бодр и разговорчив. Мудрый властный взгляд и неторопливость в движениях невольно вызывали у окружающих к нему уважение. За ужином, как наблюдал Леонтий, сидя на арбе, священнослужитель в чем-то пытался убедить Керим-бека, но тот возбужденно возражал, вскидывал руки, бросая на застланную кошму куски конины. Разобрал Ремезов только два слова: «Девлет-Гирей» и «урус-эфенди»[19]19
Урус-эфенди (тат.) – русские господа.
[Закрыть]. По всему, снова речь шла о войне, об угрозе нападения турецких разбойников.
Аул-бей сидел в окружении мужчин, у самого огня. Женщины – поодаль, тихо переговариваясь и осаживая детей. Леонтий снова смотрел на Мерджан, испытывая неведомую душевную тягу, любуясь ею и замирая от сладкого волнения. Он прислушивался, когда говорила она, и находил, что голос ее певуч и приятен. И, поглаживая отросшую щетину на подбородке и щеках, корил себя, что не удосужился побриться кинжалом…
Дым от костра, предвещая краснопогодье, поднимался отвесно. Вскидывались ввысь искры от сгоревшего бурьяна. Сотник смотрел на столб дыма, с огнистыми проблесками, на звездное небо, в смутной пелене. И с грустью думал о своем курене в Черкасском городке, вспоминал отца и мать, сеструшку Марфу. Посылал домой гостинцы с оказией накануне Рождества, а весточку получить так и не успел, поскольку направили их полк в восточную сторону, безвестную глухомань.
Плёткин, не обращая внимания на аульцев, помолился вслух, завернулся в толстую кошму и улегся на арбе, в ногах командира. Полежав, поднял голову и негромко промолвил:
– Не по душе мне ночь. Чтой-то томашатся ногаи. Сходки творят, с Керимом спорят. Недалеко и до беды! Я конька подседлал, да и вам подобрал добровитого, Мусы-охранника. Кто их разберет, галманов?
– И я приметил! – отозвался сотник. – Кинжал у меня под рукой, да и шашка…
Летели в ночи гуси, перекликались. Летели журавли – с самого зенита доносилось их отрывистое курлыканье. Уединенно, сонно перекликались собаки. Под эту походную степную музыку уснул Леонтий незаметно и крепко…
– Ваше благородие! Ваше… Вставайте! – горячечно бормотал, тряся его за плечо, Иван. – Никак башибузуки наскочили! Топ конский… Скореича!
Ремезов выпутал ноги из мехового мешка, одним движением проверил пояс, на котором в ножнах висел кинжал. Ступив на землю, вытащил из-под своей постели турецкую саблю. Гортанные голоса раздавались в разных концах становища.
Донцы полыхнули к зарослям боярышника. Затем прокрались к лошадям, но возле них дежурил кто-то из аульцев. С диким гиканьем неведомые всадники пронеслись мимо, к арбам аул-бея. Вскоре там раздались горестные женские крики, озлобленные возгласы мужчин. У Ремезова оборвалось сердце, – произошло что-то непоправимое.
Между тем налетчики уже гарцевали у казачьей арбы. Переговариваясь по-татарски, разметали казацкие вещи, переворошили постели. Стали допрашивать аульцев, выясняя, куда скрылись гяуры.
Плёткин держал в руке заряженный пистолет, весь обратившись в слух. Рядом сотник с шашкой в руке следил за происходящим из-за веток. Гнетил душу страх, что кинутся их искать. Немудрено найти! И одно стыло в сознании: как можно дороже отдать свою жизнь…
Татары, посовещавшись, ускакали. А плач всё безудержней доносился от кибитки аул-бея, – так причитают только по мертвому. Скорее всего, дикие полуночники казнили кого-то за неповиновение. И первый, о ком оба подумали, был Керим-бек. Поплатился за дружбу с русскими!
– Нам нельзя в аул возвертаться, Леонтий Ильич! – возбужденно заключил казак. – Врагам выдадут.
– Высвистывай коня, а я отвлеку сторожа, – поторопил сотник, пробираясь в сторону степи.
Сторож, вероятно, догадавшись, что налетели ханские разбойники, предусмотрительно отогнал табун в балку. Силуэты лошадей темнели в призрачном блеске молодого полумесяца. Едва поспешая за слугой, Ремезов спустился в балку, где уже ощущалась под сапогами взросшая травка. Ногаец окликнул.
– Это я, Ремезов-эфенди. Казак! – назвал себя Леонтий, идя навстречу двигающемуся в его сторону всаднику. – Мында кель!
– Сиз не истейсиз?[20]20
– Иди сюда! – Что вам надо? (тат.)
[Закрыть] – настороженно отозвался табунщик, придерживая пляшущего жеребца.
И пока сотник, хромая, подходил к нему, Плёткин сделал крюк и подобрался сзади. И в ту минуту, когда Ремезов перемежая русские и тюркские слова, стал просить у сторожа лошадь, казак напал со спины, свалил бедолагу наземь. Ногаец вскочил. Занялась драка. Плёткин был на голову выше и вдвое шире. Силы оказались не равны…
Гнали лошадей на светлеющий восток. Возле какого-то ручья нарвались на бирючий выводок. Иван пальнул в вожака с близкого расстояния, и, по всему, ранил, потому что преследовать волки не решились.
Днем сделали передышку. Дальновидный слуга достал из-за пазухи запасенный с вечера увесистый кусок жареной дрофятины. Была она тверда, с легким привкусом кровицы, – не дошла на костре, – но вкусна необыкновенно. Время от времени Иван поглядывал на офицера, рвущего крепкими зубами мясо, и самодовольно улыбался. Любил он сотника, считал за браташа[21]21
Браташ (донск.) – младший брат.
[Закрыть]. И теперь, наблюдая, с какой охотой тот утоляет голод, убедился, что командир его здоров, как прежде. Слава богу!
Вдоль терновников, на южном скате, голубели бузлики и лимонно светились возгорики – первые вешние цветочки. И вновь Леонтию вспомнилась Мерджан, ее особенная красота. В отличие от соплеменниц лицо ее было несколько удлиненным, лоб не покатый, а прямой. Нос с горбинкой. Выделялась она и статью, напоминая кабардинку. Но всего чудесней были у Мерджан глаза – глубокие, завораживающие, в опуши длинных ресниц. Не встречал он в жизни такой женщины…
Трезвонили в небе жаворонки. Кони поднимались на гребень увала. И, укачавшись в седлах, донцы безмолвствовали. На самой вершине ютилась кизиловая рощица. Красовались статные деревья, убранные золотистыми кисточками цветов. Над ними вились дикие пчелы. По всему, кизилы доцветали, потому что под стволами была рассеяна мельчайшая, как пшено, пыльца. Ремезов засмотрелся на ветви, а когда опустил глаза, – ледяной холод окатил с ног до головы.
Ниже, в долине, сколько мог видеть глаз, двигалось верхоконным порядком и на повозках пестрое, разномастное в одеждах и мундирах, многотысячное воинство. Замер и Иван, вглядываясь и недобро раздувая ноздри. Воины в чалмах, фесках, папахах.
– Матушка честна, сколько басурманов! Никак это крымские татары с турками? И запасные табуны при них… – не то спросил, не то вслух размыслил казак. – В нашу сторону правят! На Дон!
Ремезов это понял сразу.
Повернув на север, путники решили упредить неприятельскую армию, добраться до своих раньше, чем столкнется она с казачьими полками. Но кони, хотя и были свежи, и выезжены, в дороге притомились. Часто приходилось переезжать водомоины, ручьи, грязевое багно. Наконец, остановились в небольшом облеске. Набрали сморщенного на морозах, терпкого терна. Плотнели сумерки. Охраняли лошадей и спали по очереди, кое-как прикорнув на куче хвороста, прикрытой бурьянцом.
А в ночи, за холмами, стояло костровое зарево. Неприятельская армия палила сотни костров, греясь и готовясь к будущим сражениям. И отблеск их зловеще ранил небо!
8
Граф Орлов-Чесменский, посмеиваясь над своей неуклюжестью, вызванной долгим сидением и полнотой, вылез из качнувшейся кареты на темную, влажную после дождика брусчатку. Рослый, в генеральском суконном мундире, в парике и треуголке, он выглядел великаном на венской вечерней улице, стесненной старинными зданиями. В ушах затихал многодневный грохот колес. Чуть покачивало, как на палубе. Охрана расторопно окружила его, озираясь по сторонам. Подбежал высланный вперед адъютант Крестенек, отчеканил:
– Апартаменты для вашего сиятельства отведены, по обыкновению, на нижнем этаже. Дмитрий Михайлович готов к приему. Прикажете выносить вещи и располагаться?
– Посланник один?
– Не могу знать, Алексей Григорьевич! Особ посторонних не приметил.
– Поспешай. А я разомнусь…
Над австрийской столицей, в безоблачном небушке, уже рдели угольки звезд. Из соседнего квартала доносился перебор подков, голоса, монотонный звук шарманки. Он сдернул с головы треуголку и вдохнул свежесть цветущей у решетчатой ограды белой сирени, ощутил примешенный к ней дух выпечки. Неужто пекут его любимые ватрушки с изюмом и корицей? Алексей Григорьевич улыбнулся: славный Голицын, политик мудрый и человек отменной доброты…
В окнах дворца Селмура, где обосновалось русское посольство, затеплились свечи. Но, благодаря широкому закату, вечерело медленно. Он вдруг радостно осознал, что добрался до Вены, что большая часть пути благополучно преодолена. И хотя двигался инкогнито, под охранением переодетых в партикулярное платье преображенцев, вероятность вражеской диверсии против главнокомандующего русскими войсками в Архипелаге была велика: и польские конфедераты, и турки, и просто разбойники могли напасть где угодно. Однако здесь, в столице нейтрального государства, чувствовал он себя вполне безопасно. К тому же, любил этот своеобразный город. Вспомнилось, как приезжал сюда на переговоры с канцлером Кауницем и, изощряясь в красноречии, излагал российские условия мира с Портой, вполне справедливые и приемлемые для обеих сторон, и убеждал, чтобы Австрия поддержала в пользу России отделение Валахии, Молдовы и Крыма. Но миссия не дала пользы…
– Голод не тетка, – простодушно пробормотал Орлов, с улыбкой глянув на бравого усача из охранения, и вперевалочку двинулся к парадному входу. Под тяжестью веса ботфорты его не заскрипели, а застонали. Перед дверьми, распахнутыми служителем, Орлов бросил взгляд на вернувшегося адъютанта, – тот, поняв графа без слов, подшагнул, принял меховую накидку, сброшенную с плеч одним движением…
В дворцовом коридоре строем встречали советники в дипломатических мундирах. Подчеркивая особое уважение к гостю, впереди стоял Дмитрий Михайлович Голицын, русский посланник при Габсбургском правительстве. Торжественность момента подчеркивали и его дорогой камзол, и орденская лента через плечо, и осанистый вид. Но в прищуренных карих глазах искрилась неподдельная радость.
– С благополучным прибытием, ваше сиятельство!
– Гутен, гутен абенд, майн либе фройнд![22]22
Добрый, добрый вечер, мой дорогой друг!
[Закрыть] – по-немецки приветствовал прославленный Чесменский герой, раскидывая руки. – Зело приятно видеть вас, князь, во здравии и благополучии. А меня утрясли к бесу прусские ухабы-разухабы! Из Петербурга давеча метель выгнала, а у вас уже весна-красна в разгаре!
Они обнялись, и присутствующим бросилась в глаза разительная разница между гигантом Орловым и сухощавым, невысоким Голицыным. Высвободившись из крепких объятий генерала-силача, Дмитрий Михайлович озабоченно осведомился:
– Не надобно ли вашему сиятельству дохтура? Неподалеку живет герр Мейер, он прекрасно пользует…
– Я паки доверяю Ерофеичу, знахарю московскому. Давно его знаю. И на сей приезд завернул было к нему на пути из Хатуни, нашего родового имения, так он снова навыписывал снадобий да декохтов… Признаться, князь, о болячках разных думать недосуг. Перемены при Дворе… Да и в Архипелаге предстоят баталии новые.
Посланник, мгновенно уловив перемену в настроении гостя и его некую внутреннюю напряженность, подхватил:
– Миссия в Архипелаге, возложенная на вас государыней, во славу Державы, посильна богоизбранным. Она требует особой расторопности, отваги и дальновидного разума. Россия и мы, ваше сиятельство, преклоняемся пред вашим гением!
– Да полноте, Дмитрий Михайлович, – отмахнулся польщенный Орлов. – Ваши заслуги, князь, не менее моих, об том я самолично от матушки императрицы не раз слыхивал.
Посланник, очевидно, не любил похвал в свой адрес и поспешил извинительно улыбнуться:
– Соловья баснями не кормят. Я заговорил Вас… Не смею задерживать с дороги.
– Ей-право, малость отдохну. Веди, Крестенек!
– Для вашего сиятельства я пригласил музыканта, о ком молва по Европе идет, – поспешно сообщил хозяин. – Соблаговолите ли послушать его после ужина?
Орлов на ходу кивнул и неожиданно быстрой походкой при его грузности двинулся по коридору, что-то напевая. Сбоистый гул шагов утих в дальнем конце здания. И только свечи в шандалах, у парадной лестницы, еще долго вздрагивали, будто от порыва ветра…
Спустя час в зале накрыли стол. Присутствовать за ужином удостоились чести только особы близкие послу и Орлову. В отличие от предыдущих приездов любимца Екатерины, когда посольство сотрясала иностранная речь, в этот вечер собрались только россияне. Яств было в изобилии, вин множество. Орлов изрядно откушал запеченной особым образом телятины, приналег на фазанов, начиненных арабскими специями и овощами, вдоволь отведал форели, тушеной капусты и трюфелей, залил всю эту вкуснятину белым тосканским и рейнвейном и, повеселев, сбросив дорожный груз, принялся шутить, рассказывать о своих амурных похождениях в бытность сержантом Преображенского полка. Ему охотно внимали и со смехом реагировали на двусмысленные признания. Впрочем, о том, что брат его, Григорий Григорьевич, лишился звания «фаворита» императрицы, здешним дипломатам было уже известно. Дошел сюда слух и о негаданном возвеличении Потемкина.
Наконец, стол был основательно опустошен, и Орлов в радостном настроении потребовал музыканта. Спустя минуту в залу стремительно вошел худощавый юный скрипач, в белом артистическом сюртучке, с изящным бантом на шее и в высоких тирольских башмаках. Напудренный парик оттенял его живые темные глаза, в которых был заметен не по возрасту грустноватый блеск и зрелый ум. Он коротко поклонился немногочисленной публике и приготовился играть.
– Кто сей вьюноша? – полюбопытствовал Орлов.
– Моцарт. Он недавно вернулся из Италии, где концертировал, а нонеча служит в Зальцбургском аббатстве. Талантлив отменно! Несмотря на раннюю молодость, насочинял несколько опер и симфоний, уйму сонат. Мне рекомендовали его австрийские друзья.
– Я о нем наслышан, князь, но не наслушан, – скаламбурил Алексей Григорьевич и, уловив за спиной оживление сотоварищей, сел глубже в тяжеловесное, с инкрустированными ручками кресло.
Дождавшись тишины, юноша уверенно коснулся смычком струн, и с первых нежнейших звуков Орлова точно придавило к спинке кресла неведомой воздушной волной. Замерев, он тотчас отдался всей душой этой изумительной по красоте мелодии скерцо. Скрипка в руках виртуоза как будто обрела способность говорить, изъясняться на языке, понятном любому человеку. Перед глазами вставали цветные, чудесные картины, неожиданно возникали черты любимых женщин и дорогих сердцу братьев, пейзажи родины, морские просторы и цветущие луга…
Голицын исподволь наблюдал за одним из самых влиятельных людей государства Российского, чье имя вызывало у одних восхищение и трепет, а у других ненависть. И с удивлением отмечал, насколько чувствителен этот бесстрашный вояка к скрипичной музыке, хотя и раньше примечал, что у Алехана, как звали Алексея Григорьевича при Дворе, сентиментальное и на редкость отзывчивое сердце…
Бурные аплодисменты и возглас «браво» вернули Орлова на грешную землю, он вздернулся и выдохнул:
– Пробрало до нутра! Надо забрать его в Россию. Я немедленно напишу Шувалову, главе Академии изящных искусств, чтоб денег на сей случай нисколько не пожалел!
– Боюсь, сделать это будет затруднительно. У юного чародея концерты расписаны на год вперед. К тому же он связан обязательствами перед аббатом. А сей богослужитель, как известно, чрезвычайно неуступчив. Однако в дальнейшем поездка в Россию вполне возможна.
Моцарт погасил улыбку, повременил и энергичным жестом бросил смычок на струны, громко начав и тотчас оборвав музыкальную фразу. Это произведение было полно грусти и безотчетной тревоги, и рождало в воображении утраченное. Орлов, вспомнив зарево пожара над Чесменской бухтой, освещенные огнем лица брата Федора и адмиралов, час славы и великой печали по погибшим русским матросам, полыхающую вражью флотилию, по-звериному страшный рев тысяч сгорающих турок, и ощутил, как сорвалось, застучало сердце. Видно, надо пройти через испытания, чтобы в эти минуты музыки осознать, что ничего нет хуже и бессмысленней войны и гибели людей…
Затем Моцарт снова играл мажорные пьесы, импровизировал на темы итальянских мелодий. И восхищенные зрители одаривали его рукоплесканиями. Между тем этот самородок, по всему, крепким здоровьем не отличался. К окончанию концерта воротничок его рубашки стал мокрым от пота, на лицо легла тень усталости. Музыка, так легко рождавшаяся под руками, окончательно лишила его сил.
Орлов, подав Крестенеку условный знак, захотел познакомиться с музыкантом. В беседе выяснилось, что он владеет и другими инструментами. Поток любезных слов посла и его гостя генерала произвели на артиста доброе впечатления, он отвечал благодарными полупоклонами и улыбками. Но предложение выступить в России Моцарт сразу же отклонил, отшутившись, что боится лютых морозов и гуляющих по городским улицам медведей. И тут же серьезно пояснил, что его гастролями ведает только отец, также известный маэстро. Крестенек подоспел вовремя, и граф Орлов вручил чудесному композитору и скрипачу увесистую пачку ливров.
Возбужденное настроение не оставляло Орлова и после, когда осматривали коллекцию картин, приобретенных Дмитрием Михайловичем, а затем уединились в кабинете. Похаживая вдоль окна, затянутого портьерой, гость сбивчиво рассуждал:
– Прежде я считал занятие музыкой безделицей. Меня волновал только звук армейского рожка и походной трубы. Хотя в детстве, помнится, нравилось, как поют девки протяжные песни. Да и в церкви не раз плакал, слушая хоры… Новая музыка возникает! Взять этого Моцартенка, мальчишку. Откуда он взялся? Как мог напридумывать такие волнительные мелодии? И при том еще – виртуозно владеть скрипкой!
– Божий промысел, – заметил Голицын. – Другого объяснения нет.
– Или наши молодые композиторы Березовский и Бортнянский… Первый в Болонской академии музыки триумфатором стал, а второй и доселе в Италии обучается. Вот вспомните мои слова: они оба возвеличат музыку российскую! И талантливы, и патриоты… Мне Дмитрий Бортнянский был верным помощником. Через маркиза Маруцци, нашего представителя в Венеции, пригласил я его к себе и прямо сказал, что потребен он как переводчик на секретных переговорах с греками и сербами. И он тотчас включился в борьбу. Пять лет с лишком минуло, а помнится явственно… Всего обременительней тогда было начинать, тропы нащупывать…
– До войны с Портой я в Париже службу нес. В пекле недругов. Версальский двор, Людовик ХV и герцог Шуазёль, как известно, и были подлинными зачинщиками этой войны. Они интриговали против нас и в Польше, и в Швеции, и в Порте. Ради чего? По мнимой причине прихода русских товаров в Левант. Но левантийская торговля на шестьдесят процентов принадлежит самой Франции. Соперница ей лишь Англия. Шуазёль, однако, выбрал в жертву нашу державу. И преподло заигрывал с Австрией и Пруссией, чтобы вовлечь их в сговор против Екатерины Алексеевны…
– Я не знал, что англичане дружественны нам, когда предложил матушке государыне ударить по туркам с моря. Мы с братом до войны выехали в Европу лечиться, да и застряли! – Орлов усмехнулся, устало сел в кресло напротив. – Англичане, вестимо, взяли нашу сторону ради своей выгоды. Ежели бы мы, – не приведи господь! – преклонились Порте, то Людовик ХV в союзе с Испанией и Неаполем мог рассчитывать на возвращение Канады, отвоеванной лондонским двором. Французы задабривали подарками, поддерживали Стамбул, совращали Вену, помогали барским конфедератам, чтобы затруднить наши действия. То, что Мария-Терезия и ее сын, австрийский правитель, держатся нейтралитета, это ваше достижение, князь!
– Вы переоцениваете, Алексей Григорьевич! Нейтралитет Австрии обусловлен разделом Польши. Полученная Галиция – лакомый для здешнего монарха кусок. Хотя она – исконная славянская земля. Признаться, я всегда ставлю пред собой одну задачу: сохранить между нашими странами мир. Много раз бывали мы и противниками, и союзниками. В данный момент никто не сомневается в сильной австрийской армии. И это удерживает в Европе равновесие.
– Каждый из нас служит во благо Отечества по-своему: я на морских просторах воюю с османами, а вы – в лабиринтах дипломатии. Как можно не оправдать доверия государыни?
Помолчали. Мерно отстукивали уходящее время напольные часы. Голицын многозначительно напомнил:
– Так, говорите, из Петербурга метель выгнала?
Алексей Григорьевич намек понял, крякнул:
– Метель… Дурная погода. Особенно в Зимнем дворце. На той седмице, перед самым отъездом, явился ко мне «Циклоп», то бишь Потемкин. Я с ним не церемонился! Впрочем, и он не из робких. Мы знаем друг друга давно… С Преображенского полка… Не беда, что впал сей баловень судьбы в милость к государыне. Лишь бы дров не наломал! Впрочем, государственный совет силу превеликую имеет, и Гришке Потемкину, полагаю, в нем дадут прикорот. Да и матушка Екатерина, как всякая баба, полюбит-полюбит, и разлюбит. А тех, кто рядом с ней во все времена, она помнит и ценит. Я напрямик поговорил с ней о «Циклопе». И, смею полагать, что к нам, Орловым, императрица нисколько не переменилась. С гвардейцами, что были при воцарении ее… Да и в Ропше… С нами лучше дружить!
Голицын взял щепотку табака из расписанной арабской вязью табакерки, глубоко вдохнул и блаженно прищурил глаза. Его примеру последовал и заинтересовавшийся гость. Но сделал это так неумело, что троекратно чихнул.
– Шут его побери! Адская смесь! – гаркнул, смахивая рукой выступившие слезы, Алексей Григорьевич. – Откуда привезли?
– Табак турецкий, – улыбнулся посол.
– Ту-урецкий?! И тут диверсия супротив главнокомандующего! От турок спасу нет! – захохотал Орлов. – А в сортире не таится еж?
Дмитрий Михайлович не принял грубой шутки, взглянул на закрытую дверь и произнес вполголоса:
– Наш агент при версальском дворе, Зорич, передал третьего дня важную шифровку. Она касается вас, Алексей Григорьевич. Дело пресерьезное. Прошу покорно, граф, отнестись со вниманием.
Орлов иронично прищурился, но лицо его постепенно приняло сосредоточенное выражение.
– Тайное общество поляков-эмигрантов, они из конфедератов, при попустительстве французов готовят покушение.
– И насколько этому конфиденту можно доверять?
– В полной мере, Алексей Григорьевич. Родом он хохол, впрочем, мать из шляхты. С детства проживал в Петербурге, измайловец, родственник гетмана Разумовского. Отец его отличился в Семилетней войне. В Париже выдает себя за французского дворянина и сторонника конфедератов. Близок также кругу дофины, Марии-Антуаннеты, дочери правительницы Австрии.
– И что же доносит этот Зорич? – уточнил гость.
– Конфедераты замышляют супротив вашего сиятельства диверсию. Безвестно, кто из злодеев чинит козни. Я дал указание ускорить разыскание. Об этом сообщено мной и в Петербург. А до той поры, глубокочтимый Алексей Григорьевич, покамест не совершим поимку злодеев, Вам необходимо предпринять меры строжайшей конфиденциальности.
– Не впервой! – отмахнулся генерал-аншеф. – Волков бояться – в лес не ходить. До старости, почитай, дожил и пулям не кланялся. А страшится какого-то полячка – срам не только для меня, генерала, но и для любого российского воина. Спаси вас бог за предупреждение, но жить буду так, как привык и сердце велит!