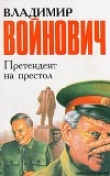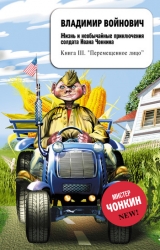
Текст книги "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Перемещенное лицо"
Автор книги: Владимир Войнович
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
6
…Чонкин был доставлен на гарнизонную гауптвахту и там, в общей камере, где кроме него, скопилось еще человек пятнадцать, ожидал своей участи. Камера была маленькая, сырая, стены ее, как водится, были покрыты разными надписями, разборчивыми и неразборчивыми, к тому же на двух языках – на немецком и русском. Надписи, как и в незабытой Чонкиным долговской тюрьме, были разные: стихотворные, прозаические, сентиментальные, философские, пустые. Некоторые люди просто подписывались, другие обозначали места своего происхождения (Ленинград, Куйбышев, Челябинск). Одни удивляли Чонкина больше, другие меньше, но больше всего его поразила уже дважды виденная им роспись все того же Ку – или Пузякова, начертанная опять тем же пишущим материалом и в этот раз тоже на потолке.
Пока наш герой разглядывает эту, сопровождающую его по жизни подпись, пока думает о свойствах употребленного для нее пишущего материала, перенесемся в другую географическую точку и познакомимся с другими людьми, пока не имеющими к Чонкину отношения.
7
Летом профессор Вович, личный врач товарища Сталина, вывозил свою семью на дачу в Малаховку, но сам там бывал крайне редко. Потому что приходилось много работать. Он рано вставал, поздно ложился и предпочитал оставаться в Москве. Чаще всего возвращался домой за полночь и, выпив стакан водки, заваливался в постель, иной раз даже не раздевшись. Но тут так получилось, что освободился он необычно рано и решил укатить к семье. Приехал на дачу, переоделся в домашнюю фланелевую пижаму и легкие кожаные тапочки, пообедал или поужинал (это как считать) и стал строить вместе с четырехлетним внуком железную дорогу. Не достроил – внука увели спать. Когда его увели, профессор подумал, что и ему неплохо вздремнуть, ушел к себе в спальню. Вышел оттуда через полтора часа с помятым лицом и всклокоченный. Сел на террасе пить чай, когда появились жившие на соседней улице патологоанатом Самуил Драппопорт и ухогорлонос Моисей Гольдман, будущие, как и сам Вович, «убийцы в белых халатах».
В те патриархальные времена люди часто запросто, как говорится, и без затей могли заглядывать друг к другу на огонек без предварительного уведомления по телефону или Интернету, тем более что у Гольдмана и Драппопорта на даче телефонов и не было, а что такое Интернет, они и вовсе не знали, несмотря на то, что были профессорами. У Вовича телефон как раз был, но в данный вечер ему никто не звонил.
Ну конечно, если друзья пришли с бутылкой, надо лезть в погреб. Лучше бы в холодильник, но холодильник тогда даже профессору Вовичу не был доступен, как Интернет. В погреб, конечно, полез не сам профессор, а его домработница Клаша из деревни Березово бывшей Орловской губернии. Клаша подняла наверх кусок сала, банку грибов, миску соленых огурчиков, кое-что еще, началась обыкновенная русская пьянка, свойственная всем русским людям, включая евреев. Пили, разговаривали. О работе не говорили, политических тем избегали, рассказывали бытовые анекдоты, спорили о тогда еще запрещенной науке генетике, о которой они, впрочем, уже кое-что слышали.
Драппопорт сказал, что он прочел в одном американском журнале, который неизвестно как к нему попал, статью об этой якобы науке, которая нашей наукой никак признана не была. Автор статьи уверял, что наследственность любого живого организма от стручкового гороха до человека предопределяется генами, из которых состоит этот организм. А в каждом гене есть определенный набор хромосом. Когда человечество научится управлять этим механизмом, тогда на земле произойдет даже невообразимо сказать, что именно. А именно: можно будет еще до рождения человека, путем направленного улучшения его генетики, наделять его самыми лучшими человеческими качествами. Делать его сильным, выносливым, с большим интеллектом и разными талантами. Возможным станет и продлевать жизнь человека до бесконечности, выращивая запасные органы, то есть сердце, печень, руки, ноги, глаза и уши. Потом пришел поэт Антокольский и читал им поэму о сыне, а вскоре пришла Маргарита Алигер и читала им поэму о Зое Космодемьянской. То есть вечер прошел хорошо, интересно, насыщенно.
Гости разошлись после полуночи, а профессор еще поработал в своем кабинете и лег спать после часу ночи. А уже около двух вдруг в дверь стали громко стучать. Профессор подумал самое худшее и почти не ошибся. Выбежав в трусах в прихожую, он застал там высокого военного (его впустила Клаша) при полной форме и в фуражке с синим околышем. Военный приложил руку к фуражке, вежливо осведомился, имеет ли честь видеть лично профессора Вовича, после чего попросил профессора одеться и проследовать вместе с ним к машине. Профессору стало страшно, он побледнел и вспотел одновременно, и Клаша рядом с ним тоже стояла бледная, даже не замечая, что вышла к незнакомому мужчине в одной рубашке. Военный продолжал держаться очень вежливого тона и на вопрос, куда и зачем они поедут, отвечал, что по дороге расскажет. Профессор спросил, что из вещей он должен взять с собой, на что военный улыбнулся и сказал: ничего, кроме паспорта.
Этот ответ профессора ободрил, он слышал, что если уводят Туда, то непременно предлагают идти с вещами. Понять переживания профессора можно, но, забегая вперед, сразу скажем, что они были преждевременны, пока ничто профессору не грозило. Тем не менее он, конечно, трясся от страха, когда его в трофейном «Опеле» везли в Москву и по Москве. Привезли, однако, не на Лубянку, как он ожидал, а к ресторану «Арагви». Военный предупредительно открыл дверцу и подал профессору руку, помогая выйти из машины. Потом проводил в ресторан. Прошли мимо главного зала, поднялись на второй этаж и оказались в небольшой комнате, где в загадочной полутьме сидел лично Лаврентий Павлович Берия в темном костюме с заткнутой за воротник салфеткой.
– Вот, товарищ маршал, привел, – доложил сопровождавший Вовича военный.
– Садитесь, профессор, – сказал Берия, не здороваясь, но никакой враждебности не проявляя. – Выпить, закусить хотите? Нет? Поужинали? Не в моих правилах заставлять. Так, профессор, начнем сразу. У меня к вам разговор очень серьезный и, как говорят, сугубо конфиденциальный. Если о нем кто-нибудь узнает… вы сами понимаете. Больше предупреждать не буду. Я вас пригласил сюда, потому что меня очень волнует здоровье вашего пациента. Я человек, как вы понимаете, не сентиментальный, но последнее время вижу, что товарищ Сталин выглядит усталым, он бледен, много пьет, мало ест, при ходьбе волочит левую ногу, и не только я, но все, близкие к нему люди, замечают, что его слишком часто клонит ко сну. Иногда даже на очень важных заседаниях он засыпает, а вчера спал на просмотре «Лебединого озера». Как вы думаете, что с ним? Может быть, он нуждается в срочном лечении, может быть, даже в госпитализации?
Профессор Вович заволновался. Помня клятву Гиппократа, он хотел было заикнуться насчет врачебной тайны, но, глядя на собеседника, понял, что в данном случае о Гиппократе лучше забыть. Тем не менее он попытался уклониться от прямого ответа.
– Мне, Лаврентий Павлович, трудно ответить на ваши вопросы, потому что товарищ Сталин – пациент очень непростой.
– Было бы странно, если бы он был простым! – усмехнулся Берия.
– Да, конечно, – согласился профессор. – Но если вы мне позволите говорить прямо…
– Только прямо и говорите.
– Тогда я вам скажу так. Товарищ Сталин привык очень много работать. Он сам говорит, что работает, как лошадь. Он привык переносить нечеловеческие нагрузки. Особенно во время войны. Но тогда его поддерживало сознание огромной ответственности. Оно давало ему дополнительные силы. Теперь же, когда война кончилась, когда смертельная опасность для всей страны миновала, организм товарища Сталина невольно расслабился и не способен держать прежний груз, а сам товарищ Сталин этого, как мне кажется, не осознает и работает в прежнем, уже непосильном для него режиме. При этом, извините, я вынужден заметить, что товарищ Сталин ведет нездоровый, разрушительный для него образ жизни. Работает по ночам, много пьет, курит, употребляет тяжелую пищу.
– И как вы думаете, надолго ли его еще хватит?
– А? – переспросил Вович и запнулся, не зная, что сказать. Хотя он был материалистом и профессором медицины и в том, что все люди смертны, не сомневался, но как советский человек он не мог себе представить, что Сталин тоже, как все, умрет.
– Извините, – сказал он растерянно, – я не могу так прямо ответить на ваш вопрос.
– Почему?
– Потому что о здоровье товарища Сталина я могу судить только по косвенным признакам: плохо выглядит, мало ест, легко утомляется. Но для того, чтобы вынести квалифицированное заключение, я должен подвергнуть больного полному обследованию.
– Ну так обследуйте! – вскрикнул Берия, как показалось профессору, почти истерично.
– Не могу, – сказал Вович. – Как я могу, если товарищ Сталин отказывается даже сделать флюорографию и сдать на анализ кровь, кал и мочу?
– Да, задача! – Берия задумался. – Ну для нас, разведчиков, неразрешимых задач не бывает. Кал и мочу товарища Сталина мы вам добудем. Но вот кровь…
– Кровь мне тоже нужна. Из вены. Или хотя бы из пальца.
– Ах, хотя бы из пальца! – вдруг повеселел маршал. – Доктору нужна кровь из пальца. А из жопы не подойдет?
Профессор совсем растерялся. Он, повторим, был советским человеком и хорошо знал, что сочетание слов «Сталин» и «жопа» шокирующе несовместимо и легко тянет на 58-ю статью Уголовного кодекса. Он стал заикаться, исторгать из себя какие-то неопределенные междометия, а Берия и вовсе развеселился и, похлопав профессора по плечу, сказал:
– Не бойся, профессор, здесь все свои. Ты же знаешь, у старика геморрой и бывают обильные кровотечения.
8
На другой день после этого разговора в конструкторское бюро знаменитого самолетостроителя Андрея Николаевича Туполева поступил срочный и совершенно секретный заказ наркомата госбезопасности. Необходимо было в кратчайший срок разработать для нужд советской разведки специальное устройство, которое, будучи тайно вмонтировано в унитаз, могло брать пробы проходящих через него образцов человеческих выделений для последующей доставки их в специальную лабораторию. Услышав, на что МГБ собирается отвлечь его коллектив, Андрей Николаевич громко и при свидетелях матерился. Кричал, что он конструктор самолетов, а не, как он выразился, говноприемников. Что он и все его конструкторское бюро без выходных и отпусков работают над созданием крайне необходимого Советскому Союзу стратегического бомбардировщика «Ту-4», советской летающей крепости, и переключаться на всякую чепуху он не намерен. Но ему позвонил лично Лаврентий Павлович и поинтересовался, не забыл ли недавний зэка Туполев вкус тюремной баланды. Туполев, конечно, не забыл и добавки просить не стал.
Сразу сообщим читателю, что коллектив, возглавляемый Героем Социалистического Труда Туполевым, блестяще справился с поставленной перед ним задачей. Необходимое устройство было разработано и успешно прошло испытания. Весь состав туполевского ОКБ и сам Туполев опробовали его и сдали в эксплуатацию. И через короткое время профессору Вовичу фельдъегерь с пистолетом на боку принес цинковую коробочку, вроде шкатулки, в которой, герметично упакованные, лежали три пробирки. Вович, дрожа от нетерпения, все это распечатал, понес пробирки в лабораторию и сам лично, не доверяясь никаким ассистентам и лаборантам, провел нужные анализы. Сам размазывал анализируемую субстанцию по стеклу, сам капал на нее реактивами, сам приникал к микроскопу. Состав мочи и кала его несколько удивили, но, когда дело дошло до крови, он не поверил своим глазам, а когда поверил, то, потрясенный, стал крутить диск телефона. До каких-то второстепенных людей дозвонился и потребовал соединить его с первостепенным, а у первостепенного потребовал немедленной аудиенции, приехал к нему прямо на Лубянку, бросил на стол записанный на бумагу анализ и сказал:
– Стыдно, Лаврентий Павлович, над пожилым человеком шутки такие шутить.
Лаврентий Павлович нахмурился:
– Что такое? Кому вы это говорите? Вы соображаете, где вы находитесь?
– Да, соображаю, – с вызовом ответил профессор. – Я знаю, вы можете меня арестовать или даже расстрелять, но такие шутки я над собой шутить не позволю.
– Я вас, конечно, могу расстрелять, – любезно улыбнулся Лаврентий Павлович, – но мне нужно хотя бы приблизительно знать, за что. В чем дело? Чем вы так взволнованы?
– А вы не знаете?
– Я не знаю.
– Если вы не знаете, значит, знают ваши подчиненные, которые сотворили эту дурацкую шутку. То, что вы дали мне для анализа, это не кровь товарища Сталина. Это вообще кровь не человека, а какого-то животного.
– Животного? – переспросил Лаврентий Павлович. – Какого?
– Не знаю, я не ветеринар. Скорее всего, лошади.
– Угу, – задумался Лаврентий Павлович и стал грызть ноги. – Лошади? Вы в этом уверены?
– Что лошади – нет, а что не человека – на сто процентов.
– Хорошо. Идите домой и спите спокойно. Но если вы надо мной подшутили или даже ошиблись, вы об этом очень сильно пожалеете.
После разговора с профессором Лаврентий Павлович вызвал к себе и допросил агента, который добывал материал для анализа. Тот божился, что все сделал точно по данным ему указаниям и представленный для анализа материал был получен в результате отправления товарищем Сталиным большой естественной надобности.
Берия приказал взять вторую пробу и, без указания на источник, отправил ее в ветеринарную академию. Тамошние специалисты, проведя тщательный анализ, были крайне удивлены и сообщили, что кровь по своему составу похожа на лошадиную, но содержит компоненты, которых у известных пород лошадей доныне не наблюдалось.
Лаврентий Павлович сильно задумался. Но потом кое-что вспомнил и велел доставить ему некоторые труды биолога и путешественника Григория Гром-Гримэйло.
9
На таких людей, как Чонкин, гауптвахта устрашающего впечатления не производила. Здесь человека как будто в наказание лишали свободы, но люди, называемые солдатами, и без наказания были ее лишены. Кормежка здесь была неплохая, даже получше той, которую арестанты потребляли на условной свободе, потому что повара, отправлявшие на «губу» бачки с едой, их жалели, старались не обижать, наливали суп погуще и куски пожирнее. А общество здешнее было тоже по-своему интересное: бандиты, хулиганы и самовольщики. Все они нарушали, и некоторые неоднократно, законы, уставы, правила поведения, стало быть, отличались некоторым вольнолюбием. Тем были и интересны. Люди положительные, трудолюбивые, законопослушные вызывают в обществе уважение, скуку и сведение скул.
В камере шли те же самые разговоры, споры и предположения, что и в любой казарме в то время. Рассуждали вслух, будет ли всеобщая демобилизация или будут отпускать по годам, двадцать шестой год отпустят, а двадцать седьмой задержат, потому что родившиеся в двадцать седьмом только сейчас достигли призывного возраста и раньше служили как бы не в счет. Спорили о том, какая наступит послевоенная жизнь: распустят ли колхозы, отменят ли продовольственные карточки. Спорили о Германии, о том, какой здесь уровень жизни. Удивлялись, почему немцы оказались такими зверьми. Рассказывали об известном маршале, который на днях отправил на родину шесть вагонов трофеев, включая два автомобиля, концертный рояль, мебель для городской квартиры и дачную, и еще несколько контейнеров со старинными часами, сервизами, люстрами, канделябрами, дверными ручками, брильянтами, шубами, шерстяными отрезами и прочими в маршальском хозяйстве предметами первой необходимости. Говорили: так им, гадам (немцам), и надо, их фюреры вроде Геринга тоже из всех стран Европы натаскали немало! Гадали, что же будет с вождями Третьего рейха. Рассказывали, что Геббельс и его жена, прежде чем покончить самоубийством, отравили своих шестерых детей. О том, что Гитлера нет в живых, тогда еще знали только Сталин и военная переводчица Лена Ржевская, – поэтому в камере спорили, жив он или не жив, что с ним сделают, если поймают, и что сделал бы с ним каждый из участников дискуссии. Планы были разные: от расстрелять или повесить до выставления Гитлера голым в зверинце, чтобы возить в клетке по городам, чтобы люди плевали в него и говорили ему всякие слова. От Гитлера естественным образом перешли к Сталину, тут споров не было, было только восхищение. Умный, гениальный, великий. Всем руководит, все знает, при этом читает книги по пятьсот страниц в день и практически никогда не спит, все думает о нас.
Соседом Чонкина по нарам оказался артиллерист Вася Углов, раньше служивший в Кремле, в охране Сталина. Туда его приняли за высокий рост, а выгнали за пьянство. Которое, впрочем, случилось всего один раз. Но в кремлевской охране одного раза оказалось достаточно. В камере, как и везде, где Васе случалось оказаться, его, разумеется, стали расспрашивать, видел ли он лично Сталина.
– Видел, и много раз, – отвечал Вася с достоинством.
– Личными своими глазами? – допытывался ефрейтор Митюшкин, попавший на «губу», как и Чонкин, за самоволку.
– Личными своими, – подтвердил Вася. – Я когда на посту у туалета стоял, он мимо меня по несколько раз в день проходил.
– А зачем?
– Чего зачем?
– Зачем он в туалет-то ходил?
– Ты чего, дурак, что ли? – удивился Вася. – Зачем люди в уборную ходят?
– Так то люди, – возразил ефрейтор, – а то Сталин!
– Вот дурень! – вмешался сержант Гаврилов. – Сталин тебе что же, не человек? Даже Маркс говорил: ничто человеческое мне не чуждо.
– И Маркс ходил в уборную? – еще больше удивился Митюшкин.
– Нет, – сказал Вася, – Маркс в штаны накладывал.
Тут все в камере стали смеяться над Марксом и над Митюшкиным и спрашивать последнего, кем же он себе представляет вождей мирового пролетариата, если они лишены таких естественных удовольствий. Митюшкин надулся, от продолжения разговора уклонился, но ночью растолкал Чонкина с вопросом:
– А ты тоже думаешь, что Сталин ходит в уборную?
Чонкин, вспомнив, что однажды на вопросе о личной жизни товарища Сталина сильно обжегся, отвечал уклончиво, что он о Сталине вообще ничего не думает. Утром трое суток, на которые Митюшкина посадили, закончились. Вернувшись в часть, он сразу попросил встречи с замполитом и принес ему докладную записку о том, что содержащийся под арестом Василий Углов распространяет клеветнические утверждения, будто товарищ Сталин ходит в уборную. А арестованный Чонкин, добавил он, с гордостью ему заявил, что о товарище Сталине вообще ничего не думает. Замполит был нормальным человеком. Он не увидел в камерной дискуссии ничего, кроме глупости, но донос был политический, на него надо было как-то, хотя бы формально, отреагировать. Поэтому он посоветовал Митюшкину обратиться в Смерш к полковнику Гуняеву.
Полковник Гуняев тоже плюнул бы на трех дураков. За последнее время самовольщиков и безобидных болтунов чуть ли не каждую ночь вылавливали дюжинами. О них сообщали их же прямому начальству, а уж от того зависело, сколько кому влепить. Однако начальники не все же были зверьми, многие понимали, что солдаты за время войны чего только не натерпелись и не навидались. Ну, сорвались с колодок, загуляли, с девушками немецкими или бабушками побаловались, а то даже и ляпнули что-то не то, так за все перенесенное в жизни заслуживают, по крайней мере, снисхождения. И потому сажали солдат на «губу» неохотно, а если уж и сажали, то сроки давали умеренные.
10
Вот и Чонкин, отсидевши сколько-то дней, вернулся бы к своим лошадкам Ромашке и Семеновне и в родную казарму, а вскоре дождался бы и демобилизации, да опять нашла на него невезуха. Как раз в то самое время, когда он, единственный, может быть, раз за все последние месяцы решился на самоволку, был издан и разослан по частям приказ Верховного главнокомандующего об усилении дисциплины в войсках. В приказе говорилось, что после выхода Советской армии из войны в частях наблюдаются признаки морального разложения и ослабления дисциплины. Среди военнослужащих оккупационных войск имеют место факты неподчинения командирам, нередки случаи пьянства, хулиганства, грабежей, насилия, мародерства, продажи военного имущества и оружия. Особо указывалось на опасность участившихся контактов с местным населением, которые ведут к заражению венерическими болезнями, дезертирству, разглашению военной тайны и самое страшное – к идеологическому разложению. Приказ предписывал командирам частей и соединений, а также руководителям Смерша принять решительные меры по усилению дисциплины, а всех нарушителей ее – разгильдяев и самовольщиков – наказывать самым строжайшим образом.
Был приказ, было и разъяснение. Для устрашения нарушителей дисциплины следует провести ряд показательных процессов. Выездные сессии военного трибунала должны показать всем разгильдяям, что наказание будет неизбежным, суровым и быстрым.
Когда приказ и разъяснение дошли до военно-воздушной армии, в которой служил Чонкин, начальник Смерша полковник Гуняев позвонил комендантам всех гарнизонов, где армия располагалась, и попросил представить списки задержанных самовольщиков. В одном из списков он второй раз после доноса Митюшкина наткнулся на фамилию «Чонкин». Случай с Чонкиным был самым для показательного суда подходящим. Самовольная отлучка, пьянка, связь с местным населением и сомнительные высказывания. Гуняев подумал, что и фамилия Чонкин для суда подходящая, запоминаемая. Полковник вызвал к себе председателя военного трибунала Сукнодерова и приказал подготовить дело Чонкина к слушанию. Председатель знал свое дело хорошо, он никогда и не помышлял считать себя независимым судьей, напротив, всегда в разговорах с начальством именно то и подчеркивал, что никаких самостоятельных приговоров, кроме как по самой ерунде, не выносил и выносить не собирается. И хотя Гуняев время от времени пенял ему и напоминал, ты, мол, судья и подчиняешься только закону, на что Сукнодеров отвечал, что желание начальства для него и есть закон и он ему подчиняется. Впрочем, тут же добавлял: шучу, шучу.
– На какой срок будем тянуть? – спросил Сукнодеров.
– Пару лет залепи ему, и хватит, – сказал Гуняев. – Жалко парня, – вздохнул он и возвел глаза к небу: – Все-таки фронтовик.
Следователь Плешаков принял дело и для проформы запросил соответствующие инстанции по поводу чонкинского прошлого. И вот, представьте себе, дорогой, уважаемый, терпеливый читатель, все повторилось, что было раньше. Запрос ходил по инстанциям и адресам, какие-то безликие и бесшумные люди с гусиными походками носили его в папках по коридорам и кабинетам, после чего заглядывали в архивные каталоги и писали свои резюме. Сравнительно скоро запрос обернулся докладом об оперативной проверке, в результате которой установлено, что Чонкин-Голицын Иван Васильевич, 1919 года рождения, русский, беспартийный и неженатый, бывший рядовой воинской части 249814, в 1941 году привлекался к уголовной ответственности за дезертирство, измену родине, вооруженный разбой, попытку отторгнуть и передать врагу часть советской территории и объявить себя царем. Был осужден, но, пользуясь неразберихой военного времени, каким-то образом избежал наказания.
Ну конечно, когда все это случилось, нижние сотрудники Тех Кому Надо поняли, что поймали слишком большую птицу, чтобы самим решать ее судьбу. А лично полковник Гуняев подумал, что, может быть, тут ему и забрезжил шанс стать до времени генералом. Поэтому он расписал это дело наилучшим образом, употребив все свое литературное дарование, а оно у него было (втайне от сослуживцев он пописывал стишки, и очень даже недурные, о родине, природе, любви к домашним животным и впоследствии стал членом Союза писателей СССР). Оформив дело, Гуняев отправил его наверх, а верхние люди передали дело тем, кто еще повыше, и, наконец, дело поднялось высоко-высоко и достигло самого главного человека из Тех Кому Надо, а именно и опять-таки все того же Лаврентия Павловича Берии.