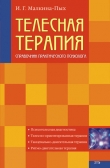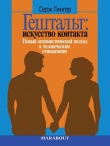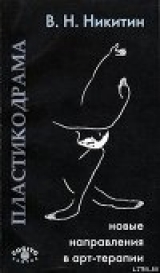
Текст книги "Пластикодрама: Новые направления в арт-терапии"
Автор книги: Владимир Никитин
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
1.2. ИСКУССТВО, ИМАГИНАТИВНОСТЬ И ТЕЛО
Неоднозначность категориального аппарата искусствоведения позволяет лишь приблизиться к описанию феноменов современной живописи. В импрессионизме – искусстве эмоционально-чувственном – еще угадывается дыхание Ренессанса с его страстью к запечатлению неуловимого мгновения реальности. В последующих попытках абстрагирования от материального мира – в фо-визме, кубизме, конструктивизме, супрематизме, футуризме, экспрессионизме и других течениях – все отчетливее прорисовывается лик рационального концептуализма, на смену которого все явственнее прорывается искусство воображения – сюрреализм, в своей наивысшей точке доведенный до имагинативного творчества.
Основоположником сюрреализма в искусстве считается французский поэт Андре Бретон. Сюрреализм, по его мнению, можно рассматривать с позиций психоанализа. Брешь между эмоциональным и рациональным творчеством может быть затушевана, стерта лишь благодаря способности художника к магическому – сюрреалистическому восприятию. Заглянуть по ту сторону сознания – в мир бессознательного, найти соответствующую форму проявления ранее неосознаваемого материала – задачи, которые в том или ином виде решают сюрреалисты. Отталкиваясь от бессознательного, от манифестаций либидо и конфликтности Супер-Эго, современные художники пытаются найти видимую форму «жизни, таящейся за вещами». Искусство исчезающего мгновения (импрессионизм) сменяет искусство, отражающее символику бытия по ту сторону сознания. Так, в работах Пита Мондриана идет поиск «неподверженной изменениям чистой реальности». Картины Джексона Поллока, написанные в состоянии транса, репрезентируют недоступные нашему взору скрытые формы материи, символизируя бессознательное. О мистическом содержании современного искусства В. Кандинский пишет: «Глаза художника всегда должны быть направлены на его собственную внутреннюю жизнь, а его ухо должно прислушиваться к зову внутренней необходимости. Это – единственный способ дать выражение тому, что его мистическое видение приказывает». И далее: «форма, даже совершенно абстрактная и геометрическая, обладает внутренним звучанием; и только духовное бытие со всем, что из него следует, абсолютно соответствует этой форме» (Кандинский, 1992, с. 55).
Сочетание рационализма и эмоций нашло свое выражение в искусстве сюрреалистичном. Наше существо, наш ум пытаются бесконечно проявить и осознать абсурдность нашего «сознательного», но далеко не осознанного, «непостижимого» мира, его бессилие перед непознанным, перед непередаваемым бессознательным. Работая с цветом и светотенью и конструируя беспредметные формы, художник пытается запечатлеть отблески бессознательного в границах логических схем интеллекта, то яростно отрицая, то сознательно отстаивая свое право на фантазии, на бесконечные поиски истины.
От анализа художественного стиля мы переходим к работе с образом тела: оцениваем его, наблюдаем за его поведением, принуждаем его к экспериментам, к познанию самого себя. Тело обескуражено, ошеломлено вмешательством ума в его интимную жизнь. Оно безрассудочно, точнее, дорассудочно. Оно знает, что для него комфортно, что жизненно необходимо. Нам кажется, что оно подчиняется воле, игре нашего воображения. Но, может быть, именно тело продуцирует почерк, направляя кисть, раскрывая свое неосознаваемое нами влечение к творчеству?! Именно в нем хранится «чистое» знание о нашей первосущности и о смыслах нашего бытия? И оно проявляет себя в выплеске необузданных фантазий неосознаваемого умом материала собственного исследования своей самости, своего архисложного внутреннего мира.
Ум же благодаря закрепленной за ним природой способности к наблюдениям и оценкам с его набором выработанных человечеством стереотипов, клише и стандартизированных форм отражения действительности, возможно, является лишь инструментом тела, познающим себя в данных реалиях, ищущим новые способы самовыражения, новый язык взаимопроникновения сосуществующих материальных тел. Биологизация человеческой природы, ее приземление не по душе созданным умом общественным интеллектуальным конфессиям. И философские, и психологические, и религиозные доктрины телу, как правило, оставляют роль носителя его господина, «наездника», – ума. Тело наделяется порочными качествами, тем, что способно разрушить устои цивилизации и самого человека. Именно в телесном З. Фрейд усматривает источник наших проблем, неугасающий вулкан страстей, который должен сдерживаться взращенным на консерватизме умом. Жизнеутверждающие потребности тела рассматриваются как иррациональные, неразумные, способные привести к его саморазрушению.
Общественное сознание бесконечно меняет свои представления о связи тела с душой. В культуре Древней Греции и Древнего Рима красота телесных форм и телесная динамика наделялись эстетическими и религиозными значениями. Представления о естественных функциях тела отражали философию эзотерического знания. Как и в первобытные времена, в эпоху древних цивилизаций человеческое тело ценилось выше, чем материал для репродукции себе подобного; оно наделялось магической символикой, ритуали-зировалось в танце, в мистериях.
С распространением христианства и других религиозных конфессий последних двух тысячелетий в Европе и Азии божественная сущность постепенно отстранилась от тела. Божественная природа человека теперь уже видится не в земном, телесном его бытии, а в оторванности, в преодолении им земной плоти, земного тяготения; дух возносится в небо, освобождаясь от желаний и страстей человеческой похоти. И как отражение этого движения к духовному человечество запечатлевает свои грезы в строениях готики, в стремлении земную материю – готические соборы – как можно выше вознести в небо.
Однако на смену движения «ввысь» приходит время обращения и к земному – чувственному. В полотнах мастеров Возрождения, в работах скульпторов и архитекторов образ человека снова занимает центральное место. В творениях Мике-ланджело и Рубенса на смену доминирующего в эпоху средневековья креста приходит утверждение реалистичного круга – окружности форм человеческого тела, кругообразности храмов церковного зодчества. Согласно А. Яффе, параллельное развитие двух тенденций привело к образованию конфликта в душе европейского человека, «трещины между принимаемым по традиции христианством и рациональными запросами его интеллекта». Продолжая это размышление, можно добавить: не столько его «интеллекта», сколько его тела, инструментом которого является интеллект и которое в своем стремлении ввысь, возможно, нечаянно обнаружило свою оторванность от породивших его корней жизни. Тело, «осознав» последствия своего беспрецедентного движения к абстрактным идеям и символам, вновь обратилось к исследованию самого себя, своей материальной природы.
В движении «вовне», «ввысь» тело познает окружающие и определяющие его формы существования пространства, вступает во взаимодействия с другими видами и проявлениями материи. В движении «внутрь» тело познает природу своей данности, механизмы саморегуляции, постигая тем самым законы и внешнего мироздания. И как отражение своего познания своей сущности тело проявляется в искусстве имагинативном, в невоображаемом, не обыгранном умом творчестве. Идея телесной сущности сознания находит свое подтверждение в творчестве представителя французской «живописи действия» Жоржа Матье, которому удается запечатлеть художественные образы, удивительно схожие с невидимыми невооруженным глазом формами материи, но доступными для созерцания с помощью микрофотографий, например, с диаграммой вибраций, отпечатанной звуковыми волнами на глицерине (Юнг, 1996). Таким образом, объектом бессознательного художественного воспроизведения становится конкретная форма материального мира. По-видимому, можно говорить о материальном воплощении психических образов, проявляемых в сознании под действием скрытых от нас материальных феноменов. Познавая себя и вынося свое открытие в мир для других, тело тем самым расширяет возможности своего существования, то есть стремится к бессмертию.
Наши позиции и взгляды созвучны философии и экзистенциальному поиску Шри Ауробиндо. Шри Ауробиндо в своем учении «интегральной йоги» говорил о возможностях трансформации человеческого тела. «На пути к трансформации соревнуются двое: человек, который стремится преобразовать тело по образу собственной Истины, и старая привычка тела разлагаться. И весь вопрос в том, что наступит раньше: преобразование или разложение» (Сатпрем, 1989). В этом постулате утверждается превосходство ума над телом, – божественное познание Истины сверху и саморазрушающие привычки тела снизу. Достижение бессмертия видится как «супраментальное озарение», трансформация тела – благодаря опусканию в него супраментального сознания.
С одной стороны, Шри Ауробиндо пишет о консерватизме тела, о его неспособности к самостоятельному самообновлению, с другой – о неограниченности возможностей «клеточного разума». В связи с этим он отмечает: «Существует... темный разум тела, самих клеток, молекул, частиц. Геккель, немецкий материалист, говорил где-то о воле в атоме, и современная наука, констатируя бесчисленные индивидуальные вариации в активности электронов, близка к тому, чтобы воспринимать это геккелевское выражение не просто как метафору, речь может идти здесь о тени, отбрасываемой некой скрытой реальностью. Этот телесный разум есть вполне конкретная, ощутимая истина; из-за его темноты, механистической привязанности к прошлым движениям, из-за характерной особенности быстро забывать и отрицать новое мы видим в нем одно из главных препятствий для проникновения сверхразумной Силы и для трансформации деятельности тела. С другой стороны, если его однажды и полностью обратить, то он станет одним из самых драгоценных инструментов упрочения супра-ментального Света и Силы в материальной природе» (Сатпрем, 1989).
Постижение только одним человеком способности к телесной трансформации, считает Ауробин-до, недостижимо. Сосуществуя среди других тел, находясь под непрерывным воздействием их вибрации, идущий к Истине человек неизбежно ограничен. «Тело находится повсюду!» «Для индивидуума, как бы велик он ни был, недостаточно достичь окончательного решения индивидуально, потому что даже если свет готов низойти, он не сможет закрепиться до тех пор, пока весь низший план не будет готов воспринять давление Нисхождения». Какая примечательная связь между последними высказываниями Шри Ауробиндо и последними экзистенциалистическими, сюрреалистическими работами художников и актеров театра движения! Тело, природа раскрывают себя не в одном событии, человеке или сообществе людей, а в многообразии творческих репрезентаций, не объяснимых с позиций рационального разума. Тело познает себя и в медитативных техниках аскетов, и в фейерверке сюрреалий, и в гротеске танца, и в таинстве драматических мистерий. Может быть, сегодня, сейчас оно уже нашло себя, готово к качественному скачку просветления и трансформации, о котором мечтал Ауробиндо. Нам не дано этого знать. Но нам дано видеть формы его проявления, понимать его сообщения о самом себе, о его стремлениях и его готовности к участию в экспериментах. Возможно, мир уже вплотную подошел к осознанию телесности не на уровне абстрактных моделей психоанализа и мистики, а непосредственно через действительную игру с телом, через его когнитивное, эмоциональное, чувственное и интуитивное познание. Ведь именно оно настаивает на внимании к себе, обращает ум к фиксации и анализу его репрезентаций. Поэтому мы никоим образом не можем согласиться с утверждением психоаналитика А. Яффе о том, что «последнее знание и гибель мира – две стороны открытия первооснов природы». Яффе вкладывает в бессознательное разрушительное, пораженческое для сознания начало и усматривает в произведениях современного искусства крик отчаяния и капитуляцию жизни. Мы видим обратное – утверждение материи перед разумом в поддающемся осознанию качестве, которое приближает нас и к познанию человека. Необходимо дополнительное усилие, чтобы систематизировать и обобщить наблюдения о механизмах функционирования тела, опираясь не на теории рассудка, а на факты проявления телесной самости. «Мне не постичь функцию живого тела, если я не осуществляю ее сам – и лишь в той мере, в какой я есть вырастающее из мира тело», – пишет крупнейший французский феноменолог Морис Мерло-Понти. И далее отмечает: «Тело – это то, что сообщает миру бытие, и обладать телом означает для живущего сращиваться с определенной средой, сливаться воедино с определенными проектами и непрерывно в них углубляться» (Мерло-Понти, 1999).
Именно в таком поиске синтеза тела и рассудка находятся театры движения, образным материалом которых является не осознаваемая на уровне ума экзистенция телесных форм.
ГЛАВА 2
Феноменология образа телесного «Я»

Отправной точкой в движении к бессознательному через познание телесной креативности в нашем исследовании выступает образ телесного «Я» в структуре целостного образа «Я». В свою очередь, представления о собственной структуре образа телесного «Я» помогут нам приблизиться к пониманию механизмов продуцирования телом информации и способов ее обработки на рациональном уровне.
Психологические исследования подструктур самосознания не могут проходить вне дискуссии о том, что, собственно говоря, мы определяем как образ «Я». «Я» есть то, с чем человек сталкивается, когда обращает внимание внутрь себя, то есть интериоризирует свои представления о себе и мире. Представления человека об образе своего «Я» предопределяют и формирование его модели «мира», то есть его отношения к своему месту в нем. В свою очередь, его представления об образе своего телесного «Я» свидетельствуют о степени его самопознания.
К сожалению, несмотря на широкий спектр существующих конструктивных идей в теории самопознания парадигма отношений «Я» концептуального и «Я» телесного рассматривается в большей степени в рамках психотерапевтических, а не социально-психологических подходов. В то же время исследования самосознания в области нейропсихологии Н. К. Корсаковой, А. Р. Лурии, Е. Д. Хомской доказали значимость развития представлений об образе телесного «Я» для совершенствования высших психических функций. По данным этих исследователей, высокий уровень развития кинетических и кинестетических показателей имеет позитивную корреляцию с качеством и длительностью концентрации внимания, со способностью к абстрактному мышлению, со словарным запасом, любознательностью и творчеством. Освоение речи, становление мышления в онтогенезе опосредуется характером развития психомоторики, представляющей собой первооснову для самоосознания. Но если вопрос о продуктивности сенсомоторной сферы для развития высших психических функций в достаточной мере исследован отечественными и зарубежными психологами, то необходимость изучения содержания структурных компонентов образа телесного «Я» остается открытой.
Искусственное расчленение «Я» на психическое и телесное и построение системы социального образования на этой основе приводит к разрушению холодинамической модели познания, неоправданному допущению существования исключительно рассудочного и физического типов деятельности, которые оправдывают формирование внесенситивного, внечувственного типа личности. Потеря чувственности обуславливает процесс разрушения целостного образа «Я», то есть утрачивание личностью способности к идентификации образа своего «Я». «Любое проявление психического – восприятие, телесное ощущение, воспоминание, представление, мысль, чувство – несет в себе особый аспект принадлежности „мне“... осознание их непринадлежности мне... есть феномен деперсонализации», – писал К. Ясперс (Ясперс, 1997, с. 160). Нам близки концепции «рефлексивной жизнедеятельности целостности организма» Л. П. Киященко и «примата психики над телом» М. З. Воробьева, Е. Т. Соколовой, рассматривающих феномен Человека как продукт «синкретически развивающегося единства» природного и социального.
Первичным условием структуризации целостного образа «Я» выступает необходимость «присвоения» человеком своего тела, его внутреннего и внешнего (социального и культурного) содержания. Осознание образа «Я» невозможно без формирования у личности системы осознанного восприятия составляющих структуры образа телесного «Я». Само же восприятие тела немыслимо без вовлечения его в движение, ощущение, чувствование и мышление, разворачивающихся в границах социокультурных доминант.
Исследования психофизиологии движения Н. А. Бернштейна (Бернштейн, 1947), природы произвольных движений А. В. Запорожец (Запо-рожец,1960), механизмов управления движениями В. П. Зинченко (Зинченко, 1979), инструментального действия Н. Д. Гордеевой (Гордеева, 1995) показали, что моторные схемы движения не могут быть механистично усвоены. Качество овладения сложными двигательными навыками зависит от структурной организации сенсомоторного акта, от характера взаимоотношения между когнитивными компонентами действия, формируемыми в рамках определенных этно-субкультурных моделей, которые, в свою очередь, определяют эффективность деятельности человека как продукта соответствующих социально-культурных отношений в целом. Однако описание опосредованной связи когнитивных показателей невербального действия с характером и уровнем развития сенсомоторной сферы для решения задач коммуникации можно встретить только в литературе, посвященной психологии музыкальных способностей (Теплов, 1985; Ержимский, 1988).
Взаимозависимость сенсомоторных, энергетических и когнитивных функций показана в социально-психологических работах по изучению методологии обучения одаренных детей. Отмечается центральная роль «аффективного ядра» в организации сложных двигательных актов во время восприятия; показана зависимость между способностью замечать и отслеживать движение и восприятием речи (Кацулло, Музетти, 1994), между низким порогом мышечного чувства и депрессивным состоянием (Бертолини, Нери, 1994). Таким образом, психологическое содержание сознания, «сращиваясь» с определенной социальной средой и непрерывно углубляясь в ее бытие, проявляется в телесном опыте. Познавая телесные функции и форму, мы, тем самым, проникаем в экзистенцию психического «Я». «Если содержание действительно может покоиться только под формой и проявлять себя как содержание этой формы, значит, форма доступна только через тело» (Мерло-Понти, 1999, с.142).
2.1. СТРУКТУРА ОБРАЗА ТЕЛЕСНОГО «Я»
Исследование моделей развития самосознания включает рассмотрение феномена образа телесного «Я», роли образа тела в структуре самосознания человека (фото 1). В отечественных и зарубежных школах психологии вопрос о генезисе образа телесного «Я» до сих пор недостаточно изучен и в основном рассматривается с позиций двух подходов: «кинесико-проксемического поведения субъекта общения» и «психосемиотики невербального общения», направленных на исследование и интерпретацию значений невербальных знаков пространственно-временных характеристик

коммуникаций и характера экспрессивной невербальной интеракции при интерперсональных отношениях. Кинесико-проксемический подход позволяет исследовать такие характеристики, как дистанцию между партнерами, направление движения их тел, место расположения, синхронность проявления движений тела, динамичность смены паттернов невербального поведения, степень расслабленности-напряженности, открытости-закрытости позы, характер и направленность взгляда, прикосновения и т. д., то есть кинестетические и пространственные параметры общения между людьми.
Начало системного анализа было заложено в работах представителей психотерапевтических школ З. Фрейда и Э. Кречмера, а также в телесно-ориентированных подходах современной школы психотерапии: В. Райха, А. Лоуэна, А. Александера, М. Фельденкрайза, И. Рольф. В многочисленных исследованиях выявлена ведущая роль представлений человека о структуре своего тела, о его функциях в развитии самосознания. Так, М. Фель-денкрайз продемонстрировал взаимозависимость между образом телесного «Я» и самооценкой. Он показал, что характер поведения человека может отражать механизмы компенсации воображаемой ущербности тела.
Дальнейшее развитие телесно-ориентированных теорий привело к возникновению представлений о теле как о границе «Я». Тело стали наделять качеством трехмерности и не отождествлять с образом «Я». В работах С. Фишера и С. Кливленда через понятие «границ образа тела» была показана устойчивая связь между степенью определенности образа телесного «Я» и личностными характеристиками индивида. Нарушение представлений о границах образа тела свидетельствует о слабой автономии, высоком уровне личностной защиты, неуверенности в социальных контактах. По данным С. Фишера, обнаружен значительный уровень корреляции между высокой степенью осознанности дорсальных (задних) зон тела и такими личностными свойствами, как контроль над импульсивными действиями и негативным отношением к реальности.
Образ телесного «Я» можно рассматривать и с позиции восприятия внешних форм тела, представленной тремя подходами:
1) тело как носитель личностных и социальных значений, в которых изучается эмоциональное отношение личности к своей внешности;
2) тело как объект, наделенный определенной формой; акцент в исследовании ставится на когнитивном компоненте его восприятия;
3) тело и его функции как носители определенного символического значения (фото 2–4).
Особое внимание заслуживают кросс-культурные исследования, позволяющие вычленить пан-культурные формы невербальных знаковых коммуникаций. К панкультурным знакам относят те невербальные формы коммуникаций, которые отражают аффективное отреагирование. В то же время невербальные действия, несущие символическое, иллюстрирующее и регулирующее

значение, выступают как культурно опосредованные. В данных исследованиях обнаружена интеркорреляционная зависимость между способностью к передаче жестов в пантомимическом действии и способностью к символической активности (фото 5).
Наиболее полное описание подходов к анализу семантического пространства невербального поведения в США в 40 – 70-е годы прошлого

столетия, приводится в работах А. Меграбяна (Меграбян, 2001). Особое внимание в семантически-ориентированных исследованиях уделяется вопросу изучения мимических и голосовых проявлений человека, находящегося в состоянии аффекта. Анализ наблюдений строится на основе описания факторов трехмерной структуры: оценки (позитивности), силы (статуса) и реактивности. Так, по мнению большинства исследователей, невербальное сообщение передается посредством мимических и голосовых знаков и с помощью некоторых поз и положений: естественная расслабленность тела может демонстрировать степень уверенности субъекта; его скрытая активность отражает степень реактивности человека по отношению к объекту общения.
Невербальное общение есть непосредственное выражение человеком своих смысловых установок, в то время как речевой акт передает прежде всего значения, то есть невербальное поведение выступает как форма передачи личностных смыслов, отражающих симультанную природу невербальной коммуникации в противовес сукцессивному, дискретному характеру речевых высказываний. «Динамические смысловые системы», по мнению Л. С. Выготского, представляющие собой единство аффективных и интеллектуальных процессов, не могут быть переведены на язык внешней речи.
Нам наиболее близки позиции М. З. Воробьева, Л. П. Киященко, Е. Т. Соколовой, которые рассматривают образ телесного «Я» как психическое образование, включающее в себя «явления сознания»: традиции, предрассудки, планы, желания, потребности и т. п. Отмечается взаимозависимость культуры тела и культуры мысли; в их единстве, «образующем целостность», доказывается доминанта психического по отношению к соматическому, которая опосредована культурой социума. В исследованиях образа физического «Я» прослеживается взаимосвязь и взаимовлияние аффективных и когнитивных процессов, их роль в становлении личности. Опираясь на исследования зарубежных психологов, в том числе П. Фе-дерна, Дж. Чанлипа, Д. Беннета, Р. Шонса, Г. Хэда, С. Фишера и др., Е. Т. Соколова выделила три направления исследований образа телесного «Я»:
1. Образ тела либо интерпретируется в контексте анализа активности определенных нейронных систем (Г. Хэд), и в данном направлении такие понятия, как «схема тела» и «образ тела», тождественны друг другу, либо эти понятия имеют самостоятельное значение (П. Федерн); «схема тела» характеризует устойчивое знание человека о своем теле, в то время как «образ тела» предстает как ситуативная психическая репрезентация собственного тела и рассматривается как результат психического отражения.
2. Представители второго подхода Дж. Чан-лип, Д. Беннет полагают, что «образ тела» является результатом психического отражения. Они различают «абстрактное тело», то есть тело концептуальное, и «собственное тело», построенное на восприятии своего тела.
3. Сторонники третьего направления, в частности Р. Шонс и С. Фишер, «образ тела» рассматривают как сложное комплексное единство восприятия, установок, оценок, представлений, связанных с телесной формой и функциями. Так, Р. Шонс выделяет четыре уровня в модели образа тела: схема тела, телесное «Я», телесное представление, концепция тела. Схема тела свидетельствует о стабильности восприятия тела в пространстве. Характер оценки телесного «Я» определяет степень телесной самоидентичности. Телесное представление отражает фантазии человека о своем теле и его ассоциации. Концепция тела соединяется с рациональным мышлением и соответствует формальному знанию о теле.
Восприятие и оценка телесных форм носит эмоциональную окраску и осуществляется как на интерсубъективном, так и на интрасубъектив-ном уровне. Первый уровень оценки связан со сравнением своих внешних данных с внешними данными других людей, второй – с переживанием удовлетворенности от восприятия форм и качеств своей телесной самости, которая отражает степень соответствия внешних данных требованиям, предъявляемым себе личностью. При этом следует различать восприятие «внешнего» тела, соотносимое с социальной оценкой его индивидуумом, и восприятие «внутренней стороны» тела, которая осознаваема личностью, но не познаваема другими, то есть социально не рефлексируема, «хотя ее восприятие и оказывает весьма значимое влияние на социально-очевидное и социально-значимое поведение индивида» (Быховская, 2000, с. 153). Таким образом, можно вычленить два типа восприятия-отношения субъекта к своему образу телесного «Я»:
1) образ телесного «Я» по отношению к другим в сопоставлении с нормами и требованиями социального окружения;
2) образ телесного «Я» по отношению к своему восприятию и пониманию смысла своего существования независимо от выносимых оценок и суждений других.
Как в первом, так и во втором случае личностная оценка образа своей телесности не может быть неэмоциональной. По мнению Е. Т. Соколовой (Соколова, 1989, с. 51), «аффективный компонент образа внешности характеризует эмоционально-ценностное отношение ко внешнему облику и складывается из совокупности эмоционально-ценностных отношений к отдельным телесным качествам. Каждое такое отношение образовано двумя параметрами: эмоциональной оценкой качества и его субъективной значимостью».
Значимость для сознания образа телесного «Я», безусловно, детерминирована филогенетически закрепленными биологическими законами воспроизведения себе подобного и сложившимися в процессе онтогенеза личности социально нормированными представлениями о половой ориентации. Именно поэтому демонстративность поведения молодых людей зачастую выступает как отражение их телесной идентификации, как стремление к бессознательному удовлетворению своего биологического предназначения. По-видимому, столкновение в сознании двух разно-полярных систем оценок образа телесного «Я» (для себя и для других) является одной из главных причин развития личностной тревожности и, как следствие этого, ориентации подростков и юношей на акцентуированный характер поведения в обществе.
Исследования природы и типов акцентуаций получили свое развитие в работах как отечественных, так и зарубежных ученых: А. Д. Глоточкина; К. Леонгарда; А. Е. Личко; Н. Н. Толстых и др. К акцентуированным психопатическим чертам характера относят те личностные качества, которые удовлетворяют описанию трех критериев: тотальности проявления – повсеместности и вне-временности; относительной стабильности характера; социальной дезадаптации. Все эти признаки характера, по мнению А. Е. Личко, можно наблюдать в подростковом и юношеском возрасте у психотических индивидуумов. Однако при акцентуациях характера может не быть ни одного из этих признаков, а порой нельзя наблюдать присутствие всех этих трех признаков сразу у «здорового» акцентуированного индивидуума. «Акцентуации характера – это крайние варианты нормы, при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода психогенных воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим» (Личко, 2000, с. 63). В то же время исследования интеркорреляционных связей между степенью удовлетворенности индивидуума образом своего телесного «Я» и его индивидуально-личностными характеристиками показали прямую зависимость характера акцентуаций от уровня личностной тревожности, уровня депрессии и успешности самореализации. Таким образом, через изменение отношения личности к образу своего телесного «Я» возможно трансформировать его отношение и к характеру восприятия образа себя в целом, и к стратегиям и формам своего поведения в социальном окружении.
Роль и значение образа телесного «Я» у индивидуумов в социокультурном срезе необходимо рассматривать в контексте социально-психологического развития и социальной адаптации личности. Анализ социально-психологической литературы по этому вопросу показал ограниченность экспериментальных исследований по выявлению связи между уровнем зрелости представлений индивидуума о своем образе телесного «Я» и характером его личностной и социальной идентификации, коммуникативных и адаптационных возможностей. В ведущих теориях формирования идентичности роль образа телесного «Я» в самосознании личности исключительно биологи-зируется (А. Адлер, П. Бергер, Р. Бернс, А. Лоуэн, Т. Лукман). С одной стороны, указывается на ор-ганизмические предпосылки социального конструирования реальности в сознании, с другой – подчеркивается существование диалектического противостояния двух составляющих сущностей человека: «индивидуального биологического субстрата» и «социально произведенной идентичности». При этом диалектика развития личности проявляется в форме преодоления сопротивления биологического начала процессу ее социального формирования.