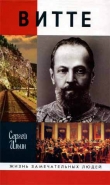Текст книги "Из моего прошлого. Воспоминания выдающегося государственного деятеля Российской империи о трагических страницах русской истории. 1903–1919"
Автор книги: Владимир Коковцов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Глава VI
Финансовая ликвидация войны. – Вызов в Петербург господина Нетцлина. – Имел ли граф Витте беседу о займе с графом Бюловым. – Приезд французских банкиров и мои с ними переговоры. – Спешный их выезд из России. – Инциденты, вызванные Витте на совещаниях по выработке проекта объединения деятельности отдельных министров и по проекту об амнистии. – Тайна, которой окружена была подготовка Манифеста 17 октября 1905 года
В тот же вечер ко мне приехал Шипов, которого я просил пояснить мне, что именно произошло с Витте, чем раздражен он против меня?
Уклонился ли И. П. Шипов от откровенной беседы, проявил ли он тут свойственную ему замкнутость и уклончивость, или же на самом деле он ничего точно не знал, – я также не могу сказать, – но, выслушав мой подробный пересказ о нашей встрече с Витте утром, он сделал вид человека положительно ошеломленного и сказал, что он просто своим ушам не верит и думает, что Витте подавлен впечатлениями того, что застал здесь, но убежден, что ничего личного по отношению ко мне нет и в помине.
Рассказал он мне при этом, что каждую мою телеграмму он прочитывал сам, постоянно говорил, что не знает, как благодарить меня за все мои сообщения, что они одни дали ему возможность учитывать наши внутренние события и поправлять неверные факты, подносимые ему газетными корреспондентами, а на вопрос мой, что сделано в Париже, Шипов сказал мне очень коротко, что он знает только, что Витте видел столько раз Нетцлина и очень советовал ему приехать в Петербург, но думает, по тону разговоров, что Нетцлин не очень горячо отдастся этой мысли и, во всяком случае в его присутствии, сказал Витте, что будет ждать моего приглашения, и даже выразился так, что ему было бы приятно, чтобы мое приглашение не имело характера обращения к нему одному, а содержало бы вызов всех представителей русской группы приехать в Петербург, выбрав для этого время по их усмотрению, но не слишком откладывая путешествие.
Я так и поступил. На другой же день, сославшись на беседу с только что вернувшимся графом Витте, я просил, через Нетцлина, представителей русской группы прибыть в Петербург, указывая, что общее настроение правящих кругов должно устранить те затруднения, которые мешали нам до сих пор привести в исполнение тот план, который имелся в виду еще в конце прошлого года.
В моей телеграмме Нетцлину и в объяснительном к ней письме я не мог дать ему сколько-нибудь реальных пояснений того, что происходило у нас в это время, так как не хотел больше освещать мрачную картину нашего революционного брожения, нежели делала это французская и в особенности германская пресса, относившаяся в ту пору сравнительно спокойно к переживаемым нами событиям и не терявшая веру в то, что Россия скоро справится с движением. Не касался я также в моем письме и того, что готовилось в окружении графа Витте по части перемен нашего внутреннего строя, потому что я почти ничего не знал о том, что замышлялось им, да и никто из его близких и друзей, [он] не делился не только со мною, но даже и с кем бы то ни было из правительства о подготовлявшемся Манифесте 17 октября.
Помню хорошо, что в моем длинном пояснительном письме я указывал главным образом на то, что заключенный мир и решимость государя вступить на путь участия народа в работе по законодательству – хотя бы на первых порах с характером совещательным – создают, во всяком случае, более благоприятную почву для финансовой ликвидации войны, а она необходима не только для самой России, но и для всех стран, связанных с нею общностью интересов.
Я помню также, что внизу письма я приписал от руки, что я не сомневаюсь в том, что Германия, и в частности группа Мендельсона, пойдет навстречу нашим стремлениям оздоровить наше денежное обращение и спасти его от введения принудительного курса, чего мы не допустили во все время неудачной войны.
Мне очень жаль, что и это письмо не опубликовано большевиками в том извлечении из моей переписки с тем же Нетцлиным, которое сделано ими и в которое попали гораздо менее интересные мои письма.
Ответ на мою телеграмму получился очень скоро. Нетцлин сообщил мне, что он постарается исполнить обещание, данное им графу Витте, что большинство участников русской группы высказалось уже вполне сочувственно, что медлит только «Лионский кредит», но что он не сомневается и в его согласии – наметил даже вероятное время приезда группы банкиров между 10 и 15 октября. Так оно и было на самом деле. Приехали они перед самым днем издания Манифеста.
Здесь мне приходится невольно сделать небольшой перерыв в изложении последовательного хода событий того времени моей жизни и деятельности и вставить один эпизод, который попал мне под руку уже много лет спустя, в эмиграции, в сентябре 1931 года, когда графа Витте давно не было уже на свете, а я перебирал мои воспоминания из моего далекого прошлого.
В печати появились мемуары покойного канцлера германского князя Бюлова, многолетнего сотрудника императора Вильгельма. Они наделали немало шума своими разоблачениями и вызвали с разных сторон обильную полемику и многочисленными указами на величайшие неточности, допущенные им умышленно или невольно – это безразлично.
В составе этих мемуаров появилась и секретная переписка князя Бюлова с императором, в виде небольшого томика, изданного одновременно на трех языках – немецком, английском и французском.
В этом томике, в его французском издании, на с. 141 содержится следующая выдержка из письма князя Бюлова к императору от 25 сентября 1906 года: «Сегодня утром я имел двухчасовую беседу с Витте.
Он, видимо, враждебен Англии и рассказал мне, что ему удалось в последнюю минуту помешать заключению русского займа во Франции и Англии. Он убедил Рувье, что такой заем был бы направлен против Германии и противоречил бы и интересам самой Франции (?).
Лубэ ему сказал также, что он ничего не знал о таком предположении и, если бы знал, то, несомненно, был бы против вето. Вместе с тем Лубэ поклялся ему, что не существует никакого секретного договора между Францией и Англиею. Витте находит англо-японский договор просто оскорбительным для России. Но что в особенности возмутило Витте, это заявление, открыто сделанное Англиею о ее намерении открыть английский рынок для русских ценностей, до 10-ти миллионов фунтов стерлингов, причем Англия быстро превратила бы это свое намерение в чисто призрачное, выбросив эти ценности на французский и немецкий рынки».
Когда читаешь такое извлечение из несомненного донесения канцлера своему императору и сопоставляешь его с тем, что происходило на моих глазах, то невольно, несмотря на промежуток времени, отделяющий меня от этих событий целою четвертью века, – спрашиваешь себя, не отошел ли в этом случае князь Бюлов от истины, как он сделал это во многих случаях, и мог ли русский государственный человек сказать ответственному государственному человеку чужой страны, что он поступил против своей страны в угоду этой стране, то есть совершил, выражаясь простыми словами, акт просто вредный для его страны?
Граф Витте причинил мне много горя, но я всегда старался быть справедливым к нему и отдавать должное его выдающимся дарованиям.
Мне хотелось бы и на этот раз сказать, что князь Бюлов отошел от истины и что граф Витте не мог сказать того, что ему приписывается [через] 16 лет после его смерти. Но я, по совести, не могу сказать, что князь Бюлов просто выдумал и сообщил своему императору то, чего не мог сказать его недавний гость.
Выдумать такую небылицу просто невозможно, ибо никто в ту пору, кроме графа Витте, не знал о том, что Россия готовит новый заем во Франции.
Тем менее мог кто-либо говорить о займе в Англии, о чем не было никакой речи вообще, а предположение о совершении займа во Франции имело характер почти академический, так как вся моя беседа с графом Витте, при его отъезде в Америку, не имела иного значения, как желание мое позондировать почву в Париже, если бы нам удалось кончить войну заключением мира с Японией.
Речи о каком бы то ни было желании нанести ущерб Германии также не было. Германия, совершившая за полгода перед тем 4,5 %-й заем 1905 года, отлично знала, что до заключения мира никакого нового займа на каком бы то ни было рынке совершить было просто невозможно.
Германские банки в лице дома Мендельсона были отлично осведомлены о каждом нашем шаге, и представитель его Фишель был в ту пору столь же близок к нашему Министерству финансов, сколько его ценили и в русской группе французских банков. Весь финансовый мир прекрасно понимал, что окончание Русско-японской войны неизбежно потребует для России изыскания на внешнем рынке новых средств для ликвидации войны, но никому не приходило в голову, чтобы речь о таком займе могла быть поднята до заключения внешнего мира и до выяснения внутренних осложнений, перенесенных страною.
Лучше всех знал это граф Витте уже по тому одному, что сам он предложил мне повести речь о займе после заключения мира, при посещении им Парижа. Знал он из ежедневных моих с ним сношений, как во время пребывания его в Портсмуте, так и по пути домой, что я ни с кем не вел никаких переговоров и ждал его возвращения, чтобы начать эти переговоры, если бы ему удалось подготовить почву.
Никто, как он сам, тотчас по возвращении, в описанной мною выше его первой беседе со мною, не сказал, что все им сделано, и я могу немедленно вызывать в Петербург господина Нетцлина. Ни о каком препятствии со стороны французского правительства он мне и не заикался не только во время этой беседы, но и позже, когда с его же ведома и даже разрешения я послал приглашение французской группе, и очевидно, я не мог вызывать их, если бы он предварил меня о парижском настроении в отношении нашего займа.
Невольно напрашивается вопрос: когда же граф Витте говорил неправду? Тогда ли, когда проездом через Берлин и далее через Роминтен он хвалился князю Бюлову и через него императору Вильгельму о том, что в интересах Германии он, русский председатель Комитета министров, помешал реализации русского займа, им же признанного необходимым в Париже?
Или тогда, когда, вернувшись в Россию, он заявил мне, что все им подготовлено, я могу вызывать представителей банковской группы и сам он докладывал об этом своему государю, который благодарил его за оказанную им помощь и с радостью говорил мне об этом?
Для меня несомненно, что говорил он сознательную неправду, если он ее говорил, только в первом случае, и сделал это с единственною целью – выставить себя истинным другом Германии, не отдавая себе отчета в том, что это было прямое нарушение его долга по отношению к своей родине и не могло быть принято иначе и его слушателем.
В его характере всегда было немало склонности к довольно смелым заявлениям.
Самовозвеличение, присвоение себе небывалых деяний, похвальба тем, чего не было на самом деле, не раз замечались людьми, приходившими с ним в близкое соприкосновение, и часто это происходило в такой обстановке, которая была даже невыгодна самому Витте.
Я припоминаю рассказ его спутника в поездке его в начале 1903 года в Германию для выработки и заключения торгового договора с Германией. Этот рассказ десять лет спустя был дословно повторен мне тем же князем Бюловым в Риме при свидании моем с ним в апреле 1914 года, когда я был уже не у дел.
Витте вел часть переговоров лично и непосредственно с князем Бюловым в его имении в Нордернее.
При переговорах присутствовал с русской стороны один Тимирязев. Они тянулись долгое время, и вечерние досуги проводились обыкновенно среди музыки и пения.
Княгиня Бюлова, итальянка по происхождению, сама прекрасная певица и высокообразованная женщина, постоянно просила Витте указывать ей, что именно хотелось бы ему услышать в ее исполнении. Ответы его поражали всех своею неожиданностью; было очевидно, что ни одного из классиков он не знал и отделывался самыми общими местами.
Тимирязев, сам прекрасный пианист, постоянно старался выручать своего патрона тем, что предлагал сыграть то, что особенно любит его шеф, и тогда не раз происходили презабавные кви-про-кво: Витте спорил, что играли Шуберта, когда на самом деле это был Шопен, а по части Мендельсона он всегда говорил, что его можно разбудить ночью и он без ошибки скажет с первой ноты, что именно сыграно.
Верхом его музыкального хвастовства было, однако, событие, рассказанное мне по этому поводу тем же спутником Витте В. И. Тимирязевым. Княгиня Бюлова как-то спросила Витте за обедом, на каком инструменте играл он в его молодые годы.
Он ответил не запинаясь, что играл на всех инструментах, и когда хозяйка попыталась было сказать, что такого явления она еще не встречала во всю свою музыкальную жизнь, то Витте без малейшего смущения парировал ее сомнение неожиданным образом, сказав, что это в Германии музыкальное образование так специализировалось, что каждый избирает себе определенный инструмент, тогда как в их доме все дети играли на всех инструментах, почему он и мог при поступлении в университет в Одессе организовать чуть ли не в одну неделю первоклассный оркестр из 200 музыкантов, которым он дирижировал во всех публичных концертах.
После этого рассказа, заключил Тимирязев, разговоры на музыкальные темы по вечерам и за обедами как-то прекратились, и сама хозяйка, со свойственным ей тактом, переводила разговоры на иные, более упрощенные темы.
Так и в описываемом мною случае Витте задался целью просто «очаровать» своих собеседников и говорил им то, что, ему казалось, должно было им быть особенно приятно, нимало не справляясь с тем, верно ли это или просто неверно, и еще менее справляясь с тем, не может ли его заявление выйти на свет божий. Пожалуй, он и оказался бы прав; если бы двадцать пять лет спустя князь Бюлов не рассказал того, что он сообщил ему в минуту своего победного возвращения в Петербург.
Через две недели после этого эпизода приехали французские банкиры в Петербург, и с ними Витте вел совершенно иного свойства беседу, не заикаясь о несогласии французского правительства и нимало не смущаясь тем, что те же банкиры говорили ему, что они ехали с большим сомнением в возможности заключить заем, но не хотели отказывать графу Витте в его настояниях. Нечего говорить о том, что ни Рувье, ни Лубэ и не думали препятствовать заключению займа и не удерживали даже банкиров от поездки в Россию, когда об этом было доведено до их сведения.
Продолжаю прерванный мною рассказ о том, как развивались дальше события того времени.
После первого моего свидания с С. Ю. Витте наши встречи становились все более и более редкими. Витте не раз уклонялся от моего желания видеться с ним, ссылаясь на множество занятий, я старался не искать встреч, но каждый раз становилось ясно, что наши отношения принимают все более и более напряженный и даже недопустимый с его стороны характер.
Начались заседания Особого совещания под председательством графа Сольского по выработке проекта объединения деятельности отдельных министерств. Инициатива такого проекта принадлежала, разумеется, графу Витте, хотя письменного его доклада я никогда не видел, но знал от графа Сольского, показавшего мне собственноручную записку государя, в которой было сказано, что он не раз убеждался в том, что министры недостаточно объединены в их текущей работе, что это совершенно недопустимо теперь, когда предстоит в скором времени созыв Государственной думы, и потому он поручает графу Сольскому в спешном порядке выработать проект правил о таком объединении и представить на его утверждение. В записке было сказано, что председатель Комитета министров имеет уже проект таких правил, который представляется государю вполне разумным, и затем указан и самый состав совещания, со включением в него и меня.
Начались почти ежедневные заседания, и с первых же шагов мое положение стало для меня просто непонятным, а вскоре и совершенно невыносимым. Стоило мне сделать какое-либо замечание, как бы невинно и даже вполне естественно оно ни было, чтобы граф Витте не ответил мне в самом недопустимом тоне, какого никто давно из нас не слышал в наших собраниях, в особенности такого малочисленного состава людей, давно друг друга знающих и столько лет работавших вместе.
Первые приступы такого непонятного раздражения вызывали полное недоумение со стороны всегда утонченно вежливого и деликатного графа Сольского. Он боялся, чтобы я не вспылил и не наговорил Витте неприятностей, и, когда первое заседание кончилось, он попросил меня остаться у него, благодарил за мою сдержанность и выразил полное недоумение тому характеру возражений, который так изумлял всех.
Я рассказал ему все, что произошло между мною и Витте с самого его возвращения, упомянул о разговоре с Шиповым и, ссылаясь на нашу давнюю близость, просил его разрешить мне, при первом повторении таких выпадов, обратиться к нему, как к председателю, с просьбою разрешить мне выйти из состава совещания, доложив государю, что я вынужден сделать это по совершенной невозможности продолжать работу при том настроении враждебной раздраженности, которое проявляется со стороны графа Витте.
Сольский просил меня этого не делать, обещал переговорить с Витте наедине и уговорить его сдерживать его несправедливое отношение ко мне. Я не знаю, исполнил ли он данное мне обещание, но практического результата это обещание не имело.
В следующем же заседании столкновение приняло еще более неприличный характер. Помню хорошо его повод. В проекте графа Витте стояла между прочим статья, по которой все доклады министров у государя должны были происходить не иначе, как в присутствии председателя Совета министров и при том условии, чтобы всякий доклад предварительно рассматривался и одобрялся председателем.
Перед самым заседанием ко мне подошел Ермолов и заявил, что он станет самым решительным образом возражать против этой статьи и даже останется при особом мнении, спрашивая, присоединяюсь ли я к нему.
Э. В. Фриш, почти всегда старавшийся примирять резкости Витте и искать компромисса при разногласиях, также находил недопустимым ставить доклады министров в такие неисполнимые условия. Граф Сольский также сказал нам, что он считает неосторожным создавать такую искусственность и надеется уговорить Витте не настаивать на ней. Обращаясь к Фришу, он сказал, что эта статья вводит в наше законодательство небывалый институт «Великого визиря», на что едва ли и государь согласится.
Он прибавил: «Вот, Владимир Николаевич, прекрасный случай для вас возражать графу Витте. По крайней мере, на этот раз вы не останетесь в меньшинстве».
Я тут же заявил, что пришел с твердым намерением возражать, приготовился к этому и прошу только оградить меня от несомненных выходок личного свойства, обещая не дать никакого повода к ним в самом способе заявления моего отрицательного отношения.
Случилось то, что так часто бывало в наших собраниях. Ермолов был очень слаб в своих возражениях и при первом же окрике Витте просто стушевался, заявив, что будет голосовать против статьи. Фриш исполнил свое обещание и, несмотря на такие же резкости со стороны Витте, ответил ему очень вескими аргументами, которые еще больше раздражили Витте. Едва сдерживая себя, он предложил высказать свое мнение после всех, прибавив, что «не сомневается, что многое будет ему высказано другими участниками совещания; один министр финансов чего стоит»!
Во время моих объяснений, продолжавшихся всего несколько минут, так как я коснулся лишь тех аргументов, которых не привели другие, Витте не мог сидеть спокойно на месте, вставал, ходил по комнате, закуривал, бросал папироску, опять садился и, наконец, на предложение графа Сольского высказать его заключение, почти истерическим голосом стал возражать всем говорившим и отдал особенную честь мне, сказав, что немало глупостей слышал он на своем веку, но таких, до которых договорился министр финансов, он еще не слыхал, и сожалеет, что не ведутся стенографические отчеты наших прений, чтобы увековечить такое историческое заседание.
Всегда сдержанный и обычно державший сторону Витте, граф Сольский на этот раз не выдержал и, обращаясь ко мне с просьбою оставить оскорбительную выходку графа Витте без личного моего возражения, сказал: «Я полагаю, что многие участники нашего совещания вполне разделяют ваш взгляд, который выражен не только сдержанно по форме, но и совершенно правильно по существу, так как он сохраняет должную самостоятельность за министрами как докладчиками у государя и в то же время обеспечивает за правительством должное единство, обязывая всех министров проводить через Совет министров все проекты их всеподданнейших докладов, имеющих общее значение и затрагивающих сферу деятельности других ведомств».
Витте замолчал и проговорил только в заключение: «Пишите, что хотите, я же знаю, как я поступлю в том случае, если на меня выпадет удовольствие быть председателем будущего Совета министров. У меня будут министры – мои люди, и их отдельных всеподданнейших докладов я не побоюсь».
Все переглянулись, я не ответил Витте ни одним словом, задержался несколько минут у графа Сольского после разъезда и сказал ему, что для меня совершенно очевидно, что как только Витте будет назначен председателем Совета министров, – в чем не может быть ни малейшего сомнения, – я немедленно подам в отставку. Сольский опять просил меня этого не делать, ссылаясь на то, что Витте быстро меняет свои отношения и столь же скоро переходит от вражды к дружбе, как и обратно.
Ожидания графа Сольского, однако, совершенно не сбылись. Наши встречи продолжались и после этого острого столкновения в той же напряженной атмосфере, и каждая из них приносила только новое обострение.
Я кончил тем, что перестал возражать Витте открыто и заменял мои словесные выступления предложениями письменного изложения новой редакции тех статей, которые вызвали мои возражения. В одних случаях я был поддержан другими участниками совещания, в других мне приходилось уступать, но споры между мною и Витте прекратились, и наши отношения приняли даже наружно такую форму, что для всех стало ясно, что между нами произошел полный разрыв. Я решил совершенно определенно уйти с моего поста, как только выяснится вопрос о составе нового Совета министров, и заготовил даже заблаговременно мое письмо к государю, решив представить его тотчас же по назначении Витте председателем Совета министров. Мое решение окончательно укрепилось вечером 18 октября, когда мои отношения с графом Витте стали совершенно невозможными.
В этот день утром был опубликован знаменитый Манифест 17 октября, в составлении которого я не только не принимал никакого участия, но даже и не подозревал о его изготовлении, настолько все это дело велось втайне от меня и от всех, кто не был привлечен к нему из числа личных друзей графа Витте.
Сольский, конечно, знал обо всех перипетиях, предшествовавших изданию Манифеста, но, очевидно, имел в виду не выводить дела за пределы того, что было угодно Витте, а в частности, по отношению ко мне он был связан явно враждебными ко мне отношениями автора всего этого предположения. Насколько я не был в курсе этого дела, лучшим доказательством может служить маленький эпизод, относящийся к позднему, почти ночному, часу того же 17 октября.
У меня долго засиделись в этот вечер только что приехавшие из Парижа банкиры. Утомленный нервною беседою с ними и тревожными впечатлениями целого ряда предыдущих дней, я ушел было к себе в спальную уже около часа ночи, как раздался сильнейший звонок по внутреннему телефону, не включенному в общую телефонную сеть и известному только на главной станции да немногим близким людям.
Меня вызвала какая-то «инициативная группа распорядительного комитета студентов Политехнического института», – институт состоял в ту пору в ведении министра финансов, – и, нимало не смущаясь тем, что говорящие обращаются ко мне в такой неподходящий час, что и было мною сказано им тотчас же, спросили меня, подписан ли государем Манифест, который должен был быть подписан утром и вечером сдан для напечатания.
Я ответил, что мне это неизвестно, и так как говорящие продолжали настаивать, принимая все более и более вызывающий тон и заявляя, что им все прекрасно известно от лица, весьма близкого к графу Витте, то я предложил студентам обратиться к этому близкому графу Витте человеку и оставить меня в покое. Из последующих моих неоднократных разговоров с профессорами института я убедился, что никто не верил тогда, что я не был в курсе дела, осведомлял же студентов их директор князь Гагарин, который был женат на родной сестре князя Алексея Дмитриевича Оболенского – одного из авторов Манифеста.
В день опубликования Манифеста я получил приглашение от Петербургского генерал-губернатора Д. Ф. Трепова приехать к нему вечером на экстренное совещание. Предмет совещания в извещении обозначен не был, но в ту тревожную пору всякие совещания не были редкостью, а приглашение к генералу Трепову объяснялось между прочим и тем, что при беспорядках на улицах было проще попадать на Большую Морскую, где жил Трепов, нежели к председателю Комитета министров Витте, проживавшему в собственном доме на Каменноостровском проспекте. Я не могу припомнить сейчас всех участников собрания. Большинство их принадлежало к составу чинов Министерства внутренних дел, но помню хорошо, что от Министерства юстиции был покойный И. Г. Щегловитов, участвовал также и министр земледелия А. С. Ермолов.
Председательствовал граф Витте. Он нехотя подал мне руку, сказав, что удивлен, почему именно оказалось Министерство финансов заинтересованным в обсуждении вопроса об амнистии, на что я ответил ему, что получил приглашение от генерала Трепова, но буду очень рад, если окажется возможным освободить меня от дела, действительно не имеющего прямого отношения к моему ведомству. Трепов и почти все присутствующие решительно восстали против моего ухода, а Трепов сказал даже, что он получил прямое указание государя относительно состава совещания, в частности, особое указание лично в отношении меня. Мне пришлось остаться.
Проект статей манифеста о льготах преступникам был наскоро составлен в Министерстве юстиции, граф Витте сразу же заявил, что находит его слишком «трафаретным» и не отвечающим важности переживаемого момента, что нужно дать самые широкие льготы, в особенности осужденным за политические преступления, и возвратить из ссылки всех, открыть двери Шлиссельбургской тюрьмы и показать всем, кто подвергся преследованию, что нет более старой России, а существует новая Россия, которая – помню его слова – «приобщает к новой жизни и зовет всех строить новую, светлую жизнь».
Кое-кто из участников совещания пытался было возразить не столько против идеи амнистии, – так как, по заявлению графа Витте, она предрешена государем и о ней спорить не приходится, – сколько против широкого ее объема и невозможности распространения ее без всякого ограничения на всех осужденных в свое время, без отношения к тому, какую часть наказания отбыли они, и в особенности против идеи графа Витте отворить двери Шлиссельбургской тюрьмы, выпустить на полную свободу всех в ней заключенных и предоставить им поселиться в столице без всяких ограничений.
Мы все, противники такой небывалой, неограниченной амнистии, старались настаивать на необходимости быть осторожным с проектируемыми широкими милостями, в особенности ввиду и без того разгоревшегося революционного движения. Но чем больше стремились мы к этому, тем нетерпеливее и несдержаннее делался граф Витте, а когда я присоединил и мои доводы к тем, которые говорили в этом смысле до меня, – его гневу и резкостям реплик не было положительно никакой меры.
Придавая своему голосу совершенно искусственную сдержанность, он положительно выходил из себя, тяжело дышал, как-то мучительно хрипел, стучал кулаком по столу, подыскивал наиболее язвительные выражения, чтобы уколоть меня, и, наконец, бросил мне прямо в лицо такую фразу, которая ясно сохранилась в моей памяти: «С такими идеями, которые проповедует господин министр финансов, можно управлять разве зулусами, и я предложу его величеству остановить его выбор на нем для замещения должности председателя Совета министров, а если этот крест выпадет на мою долю, то попрошу государя избавить меня от сотрудничества подобных деятелей».
Все переглянулись, я не ответил при всех ни одним словом, проект амнистии прошел почти в том виде, как настаивал граф Витте, удалось только не допустить права проживания в столицах и столичных губерниях отбывших каторгу, и мы разошлись.
Перед уходом от Трепова я подошел к графу Витте и, ссылаясь на слова, только что им сказанные, обратился к нему со следующими словами, которые я записал, придя домой, и которые сохранились у меня: «Позвольте мне довести до вашего сведения, что все происшедшее между нами с самой минуты вашего возвращения из Америки давно убедило меня в том, что при объединении правительственной деятельности в вашем лице, как будущего председателя Совета министров, мне не должно быть места в составе нового Кабинета. Сегодняшнее же ваше выступление против меня, сделанное в такой оскорбительной форме, дает мне право тотчас по вашем назначении на пост председателя Совета министров просить государя императора избавить вас от труда ходатайствовать перед его величеством об освобождении вас от такого сотрудника, и я сам подам прошение об увольнении меня от должности министра финансов».
Ответ Витте поразил меня своим цинизмом: «Я в этом нисколько не сомневался. Какое удовольствие быть министром, когда вас на каждом шагу окружают опасности; гораздо проще сидеть в спокойном кресле Государственного совета, произносить никому не нужные речи да интриговать против министров».
На этом мы расстались, не подав друг другу руки, и больше не разговаривали до самого моего ухода из министерства ровно через неделю после этого дня.
В такой атмосфере напряженного состояния мне пришлось вести переговоры с приехавшими французскими банкирами. Они шли в самой тягостной обстановке. День ото дня внешний вид города становился все более и более грозным. Приехавшие, хорошо знавшие Петербург в его обычной обстановке, просто недоумевали о том, что происходит на их глазах. Они доехали до города по железной дороге, но на пути их поезд был несколько раз задержан не только на станциях, но даже просто в поле, и они не знали, чему следовало приписать такие остановки.
Вместо обычного утреннего часа они прибыли под вечер и не успели разместиться в своих комнатах в гостинице «Европейская», как везде потухло электричество, и они провели первую ночь в совершенно необычной обстановке. В их среде возникло даже предположение о выезде обратно на следующее утро, но, соединившись со мною по телефону, – телефон в ту пору не бастовал, – они считали себя связанными назначенным мною приемом и собрались у меня, как было условлено, днем.