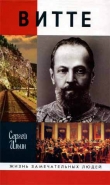Текст книги "Из моего прошлого. Воспоминания выдающегося государственного деятеля Российской империи о трагических страницах русской истории. 1903–1919"
Автор книги: Владимир Коковцов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Недолго продолжалось это радостное настроение. В субботу, 15 мая, под вечер, я получил из Берлина телеграмму от Мендельсона с сообщением, что утром этого дня в Цусимском проливе наш флот вступил в бой со всем японским флотом и погиб почти весь, так как лишь одно или два судна успели прорваться на север. Я тотчас позвонил к морскому министру и спросил его, известно ли ему что-либо. Он ничего не знал, но сказал, что тотчас сообщит государю по телефону, со ссылкою на то, что известие получено мною. Поздно вечером, уже около 12 часов, морской министр позвонил ко мне и сообщил, что такое же известие передано ему как нашим берлинским послом, так и морским агентом.
Государя я не видал целую неделю, а когда я пришел в следующую пятницу с очередным докладом, то застал его глубоко расстроенным и в первый раз, по-видимому, отрешившимся от своих обычных надежд на скорое и славное для России окончание войны. О самой катастрофе он совсем не говорил и сказал только, что не видит теперь надежды на скорую победу и думает только о том, что нужно тянуть войну, доводить японцев до истощения и заставить их просить почетного для нас мира. На внутренние беспорядки государь смотрел скорее безучастно, не придавая им особого значения, и все говорил о том, что они охватывают только небольшую часть страны и не могут иметь большого значения.
Тем временем Булыгин внес выработанный им проект учреждения Государственной думы совещательного характера, и с начала лета началось предварительное рассмотрение его в совещании под председательством графа Сольского, а затем, после небольших исправлений первоначальной редакции, дело перешло на окончательное рассмотрение его под председательством самого государя.
В состав последнего совещания был включен целый ряд лиц, обычно не принимавших участия в таких собраниях: граф А. П. Игнатьев, Победоносцев, А. А. Половцов, профессор Ключевский, Стишинский и много других, имена которых не удерживает моя память.
Преобладающий характер приглашенных – это лица с большим служебным прошлым. Прения носили по преимуществу совершенно спокойный характер, никаких принципиальных вопросов затронуто почти не было, и рассмотрение всего проекта заняло всего четыре или пять заседаний, но некоторые частности дали место к довольно любопытным прениям.
Помню, как между мною и Стишинским возник спор о том, каким условиям должны отвечать лица, подлежащие выборам в Государственную думу. Стишинский настаивал на том, что даже простая грамотность не должна быть обязательна, так как, по его мнению, самый надежный элемент представляет собою, как он выразился, «истовые крестьяне, более солидного возраста», а в их среде много совершенно неграмотных людей, но это отнюдь не мешает им хорошо знать местную жизнь, уметь разбираться в самых сложных вопросах сельского обихода, земских нуждах и всего того, что составляет самую сущность будущей деятельности Государственной думы.
Я возражал против такого предложения, доказывая, что никакая «истовость» не принесет никакой пользы, если будущий законодатель, хотя бы имеющий лишь совещательный голос, не сможет прочитать того, что ему будет предложено рассмотреть. Кое-кто из участников совещания поддерживал мою точку зрения, но государь встал на точку зрения Стишинского, и статья законопроекта была редактирована в этом смысле.
Во всем ходе дела по рассмотрению проекта в совещании графа Сольского Витте, как председатель Комитета министров, принимал самое деятельное участие. Он ни разу не возбудил вопроса о том, что совещательный характер Думы никого не удовлетворит.
Зато он очень энергично возражал против включенного в проект воспрещения избирать евреев в члены Думы. Я решительно поддерживал его, вопрос занял два заседания и не был окончен до выезда Витте в Америку.
Перед своим отъездом он особенно просил меня телеграфировать ему в Вашингтон, чем разрешится этот спор, так как он справедливо придавал ему большое принципиальное значение, а резкая оппозиция правых элементов вызывала в нем опасение за судьбу вопроса.
Большинство участников совещания встало, однако, на нашу общую с ним точку зрения, и дело разрешилось вполне благополучно. Телеграмма в Портсмут была мною отправлена, и я получил даже на нее ответ с выражением благодарности, которой не получал потом ни за одну из многочисленных последующих моих депеш.
Глава V
Мирная конференция в Портсмуте. – А. И. Нелидов и Н. В. Муравьев – первые кандидаты на должность главного уполномоченного. – Назначение С. Ю. Витте и его отъезд в Портсмут. – Мои осведомительные телеграммы. – Направление, данное переговорам государем. – Всеподданнейший доклад графа Ламсдорфа по основным вопросам возможного соглашения. – Резолюция государя на этом докладе. – Составленное мною, по приказанию государя, письменное мнение о допустимых уступках Японии. – Решительная депеша государя о недопустимости контрибуции. – Возвращение Витте. – Резкая перемена в его отношении ко мне
В половине июля 1905 года, как известно, президент Северо-Американских Соединенных Штатов Рузвельт предложил нам и Японии свое посредничество в созыве мирной конференции для прекращения войны.
Согласие воюющих последовало, и мы стали спешно готовиться к конференции. Первым кандидатом на должность главного уполномоченного был предложен Министерством иностранных дел и охотно принят государем – наш парижский посол А. И. Нелидов, но он отказался, ссылаясь на свое слабое здоровье (он действительно в это время был болен), а также на незнание им английского языка.
За его отказом этот пост был предложен нашему послу в Риме Н. В. Муравьеву, который был вызван и спешно прибыл в Петербург. Прямо от министра иностранных дел он приехал ко мне на дачу на Елагином [острове] и, не возбуждая никаких вопросов по существу возложенной на него задачи, просил меня только «не урезывать тех кредитов, которые он намерен испросить для себя и своих спутников», ссылаясь на то, что жизнь в Америке безумно дорога, а у него самого совсем нет средств и он не знает даже, как может он продолжать свою службу в Риме.
Мы условились, что завтра же он придет ко мне и привезет подсчет его расходов. Просил он меня также дать ему в помощь кого-либо из моих сотрудников, если он, – как и сам думает об этом, – не ограничится составом чинов Министерства иностранных дел. Прямо от меня Муравьев поехал на том же Елагином к Витте, а наутро получил вызов в Петербург к государю. Что произошло между Витте и Муравьевым и что именно сказал последний государю, – я совершенно не знаю, но на следующий день, около четырех часов, когда я принимал доклады по министерству, Муравьев приехал ко мне и сказал, что, передумав всю ночь, он не решился принять на себя эту задачу, считая себя совершенно не в состоянии выполнить ее с успехом, высказав это откровенно государю, который чрезвычайно милостиво отнесся к его словам, разрешил ему немедленно вернуться в Рим, и когда на прощанье государь сказал ему, что он крайне затруднен выбором кандидата, то Муравьев будто бы сказал, что, по его мнению, есть вполне готовый и подходящий человек – Витте.
В тот же день Витте был вызван в Петергоф, позвонив по возвращении мне по телефону, спросил, не могу ли я прийти к нему, и, когда я пришел, сказал мне, что государь «заставил» его ехать в Америку.
Он прибавил: «Когда нужно чистить канавы, так посылают Витте, а когда предстоит работа почище или полегче, то всегда находятся другие охотники».
Едва ли мы узнаем когда-либо истину о том, как состоялось это назначение. Много разных рассказов ходило об этом потом по городу, но повторять их просто не хочется. Да и к чему! Как бы ни относиться к Витте, справедливость требует сказать, что он вышел с величайшею честью из трудного положения, хотя мало кто знает, какая доля в сравнительно выгодных для России условиях Портсмутского договора принадлежит лично государю. Но об этом речь впереди.
Витте собрался в дорогу очень скоро. Всего через день или через два после его назначения он приехал ко мне в министерство, долго пробыл у меня и в тоне величайшего дружелюбия просил меня помочь ему установлением постоянной связи с тем, что будет делаться в России.
«С той минуты, – говорил он, – как я сяду на пароход, я буду совершенно оторван от России, а между тем знать, что делается здесь, следить за всем и учитывать происходящее для меня крайне необходимо.
Мне будут врать, рассказывая всякие небылицы про Россию, а я должен знать больше, чем кто-либо другой, чтобы парировать выдумки, и если только люди увидят, что я осведомлен лучше их, то мой авторитет будет выше в глазах всех».
Я дал ему самое широкое обещание и выполнил его свято. Не было ни одного обстоятельства в жизни России за это время, о котором я не осведомлял бы его, и немало казенных денег извел я на депеши, но, кроме упомянутой телеграммы о евреях, ни на одну мою депешу я не получил ответа.
Когда он вернулся, я даже спросил его, все ли дошло до него, что я ему телеграфировал, и получил в ответ только: «Кажется, все».
И больше не было им сказано ни одного слова, как не обмолвился он даже простою благодарностью за все, что он получил от меня. Спутник Витте, бывший после моего ухода короткое время министром финансов – Шипов, напротив того сказал мне, что моих депеш они всегда ждали с величайшим нетерпением, и после первой же недели пребывания в Портсмуте Витте разрешил ему сообщать все, что было в них интересного иностранным корреспондентам, которые не раз спрашивали его, какие газеты информируют русскую делегацию так точно и быстро обо всем.
После этого посещения мы больше не виделись с Витте до самого его выезда и расстались с ним в самых теплых, чисто дружеских отношениях. Он обещал мне, в случае заключения мира, остановиться на обратном пути в Париже и попытаться подготовить почву для нового займа, который не состоялся весною, и даже сказал мне на прощанье: «Приезжайте ко мне сами в Париж к моему возвращению, если кончится все благополучно, и мы тут же сделаем все нужное».
Я ответил шутливо, что до октября–ноября Париж пусть [подождет], и не будет же он сидеть так долго в Америке. Я нарочно упоминаю обо всем этом, так как решительно не знаю, что именно произошло во время пребывания Витте в Америке и возвращения его домой, так как он вернулся в самом недружелюбном настроении по отношению ко мне, и с первых же дней после его приезда между нами установились совершенно небывалые отношения, которые и разразились отставкою моею в конце октября.
Не стану говорить о том, что я знаю относительно подробностей заключения Портсмутского договора.
Все детали отлично известны всем, и я могу и даже должен коснуться только того, что известно лично мне, о чем мало кто осведомлен помимо меня и чему до сих пор в широких кругах общественности просто не верят.
Советская власть, опустошая архивы Министерства иностранных дел и вынося наружу то, что она считает нужным в своих целях, почему-то до сих пор не опубликовала ни одной депеши, ни одного письма, относящегося ко времени переговоров в Портсмуте, которые выясняют то, какие инструкции получал Витте из Петербурга, что предлагал он и что ему отвечали, и кому обязаны мы тем, что Россия так мало уступила Японии.
В архиве должно было бы находиться и мое последнее письмо к министру иностранных дел графу Ламсдорфу в ответ на его сообщение мне о повелении государя о том, чтобы я высказал мое мнение по поводу депеши Витте, излагающей необходимость уступок Японии. Письмо это я хранил в копии у себя до самого моего побега из России и глубоко сожалею о том, что его более нет в моем распоряжении и я не могу привести его здесь.
Опубликование его внесло бы немалое изменение в пересказ графа Витте о том, как был заключен мирный договор, да и И. Я. Коростовец, написавший очень интересную монографию о том, чему он был свидетелем и даже участником, должен был бы также внести большие поправки в свое изложение. Не имея же под руками этого документа, я по необходимости должен воспроизвести его по памяти, но думаю, что, несмотря на все протекшие года, моя память удержала все оттенки.
Я пропускаю поэтому все, что касается переговоров в Портсмуте; скажу коротко то, что было перед самым отъездом Витте в Америку, и перейду затем прямо к концу этой эпопеи.
Как только был решен в принципе вопрос о согласии участвовать в мирных переговорах, осторожный и привыкший облекать каждый свой шаг в письменную форму, министр иностранных дел граф Ламсдорф представил государю доклад, испрашивая в нем прямых указаний по основным вопросам, по которым следует ожидать особых настояний со стороны Японии. Проект этого доклада, как и все, что касалось вопросов войны, отношения к Японии, Китаю и Персии, – он прислал мне и просил высказать и мое мнение.
Причина этого заключалась не только в том, что привыкши постоянно иметь самые близкие отношения к Витте, в бытность его министром финансов, граф Ламсдорф перенес часть этой близости на меня, как на его преемника, – но главным образом в том, что все вопросы финансовые, экономические и промышленные сосредоточивались по Китаю, Японии и Персии в Министерстве финансов, и трудно даже сказать, какое ведомство имело наибольшее влияние на дела этих трех стран: дипломатическое ли или финансовое.
За время же войны не было ни одного вопроса, по которому Министерство финансов не было привлечено к самому деятельному и широкому участию, не говоря уже вовсе о делах Китайско-Восточной железной дороги, которые лежали целиком на мне. В этом докладе граф Ламсдорф остановился главным образом на следующих вопросах, которые не могли не быть возбуждены Японией, о чем, как он писал, можно уже теперь судить по статьям английской прессы:
1) Вопрос о Корее, послуживший внешним поводом вооруженного столкновения нашего с Японией.
Граф Ламсдорф говорил, не обинуясь, что нам придется отступить от нашей точки зрения и отказаться от всякого влияния на Корею, если только мы предпочитаем кончить дело миром.
2) Вопрос о контрибуции, который выдвинут прессою на первый план, и следует ожидать, что кредиторы Японии выставят его с особой настойчивостью, ибо финансовое положение Японии не может не озабочивать их в первую голову.
Заключения своего по этому вопросу граф Ламсдорф не высказывал.
3) Вопрос об ограничении наших вооруженных и в особенности морских сил на нашем Дальнем Востоке не может не остановить также особого внимания Японии ввиду преимуществ, достигнутых ею над нами, и, вероятно, стремления ее уменьшить опасность нового вооруженного с нами столкновения.
По этому вопросу я также не помню, чтобы министр иностранных дел выразил определенно свое мнение, и, во всяком случае, удостоверяю, что положительной схемы его разрешения он не предложил.
Доклад графа Ламсдорфа вернулся к нему со следующими надписями государя, которые резко запечатлелись в моей памяти и не изгладились из нее под влиянием пережитых впечатлений.
Наверху доклада государь написал: «Я готов кончить миром не мною начатую войну, если только предложенные условия будут отвечать достоинству России. Я не считаю нас побежденными, наши войска целы, и я верю в них».
Против вопроса о Корее государь написал: «В этом вопросе я согласен на уступки – это не русская земля».
Против вопроса о контрибуции государь написал: «Россия никогда не платила контрибуции, и я на это никогда не соглашусь», причем слово «никогда» было три раза подчеркнуто.
Против вопроса об ограничении наших вооруженных сил на Востоке отметка государя была: «Это не допустимо, мы не разбиты, можем продолжать войну, если нас вынудят к тому неприемлемыми условиями».
Этот доклад и отметки государя, разумеется, были сообщены графом Ламсдорфом Витте, если не до выезда его из России, то, во всяком случае, были ему пересланы в Америку, и можно только пожалеть о том, что никто из его спутников или он сам не упомянули об этом в оставленных ими записях.
Впрочем, справедливость заставляет сказать, что почти никто из спутников Витте или не оставил своих записок, как Шипов, профессор Мартенс, или же их записки и, в частности, записки барона Розена не дошли до меня. И. Я. Коростовец записал только, чему он был свидетелем и участником в Портсмуте. Сам же Витте оставил в своих записках столько неточностей, что нечему удивляться, что в них не нашлось места слову справедливости в пользу государя, а все приписано себе, хотя и отдавая справедливость покойному государю, немало осталось бы заслуг графа Витте в деле заключения Портсмутского договора.
Много раз за время переговоров мне приходилось докладывать о ходе переговоров государю. Еще чаще говорили мы с министром иностранных дел, и потому, когда подошел решительный момент и Витте спросил, что именно может он принять как последнюю уступку, с тем чтобы в случае отклонения его предложения японцами, он был уполномочен прервать переговоры и уехать, предав гласности причину разрыва, – я имел возможность высказать мой взгляд совершенно определенно, не внося никаких оговорок в мой ответ. В этом последнем фазисе я был привлечен выразить мое мнение на письме.
Помню хорошо, что это было в субботу, в первой половине августа. Я кончил мои занятия и собирался уехать в деревню. Жена ждала меня, готовая к отъезду. Мне подали письмо от министра иностранных дел, при котором я нашел копию последней телеграммы Витте на имя государя, с копией на имя министра иностранных дел. В своем письме граф Ламсдорф сообщал мне, что государь желает иметь во вторник утром доклад его по телеграмме Витте и поручает ему представить письменное, как свое, так и мое, заключение, которое он, граф Ламсдорф, представит в подлиннике.
Я взял это письмо с собою в деревню, по дороге в вагоне написал черновик моего ответа, на другой день, в воскресенье, привел его в порядок, перебелил собственноручно и в тот же вечер выехал обратно в город, чтобы в понедельник утром успеть переписать его и вовремя отправить министру иностранных дел. Помню ясно все построение моего письма.
В телеграмме Витте была фраза, что если нам необходим мир, то его нельзя достигнуть иначе, как уступками Японии по некоторым ее требованиям. Я начал поэтому и мое письмо с того, что мир нам, по моему крайнему убеждению, совершенно необходим, но о степени необходимости идти на уступки может судить только тот, кто знает положение дел на фронте.
«Хотя я этого не знаю, тем не менее я не могу высказаться и за то, чтобы запросить об этом главнокомандующего генерала Линевича, так как это может надолго затянуть дело, да и едва ли главнокомандующий в состоянии обнять всю обстановку нашего положения. Поэтому я считаю, что мир нам необходим как по нашему финансовому, так и, в особенности, по нашему внутреннему положению, и высказываюсь открыто за необходимость уступить в том, что не нарушает нашего достоинства».
С этой, последней точки зрения, я особенно решительно возражал против возможности уплатить какую-либо контрибуцию. Россия никогда еще не платила контрибуций, и она не лежит еще окончательно побежденная под пятою врага.
Вместо контрибуции я высказался за возможность уступить южную часть Сахалина и указал, что Япония может найти некоторую материальную для себя выгоду в вознаграждении за содержание наших военнопленных.
В тот же день вечером министр иностранных дел позвонил ко мне и сказал, что мое письмо соответствует тому, что не раз говорил государь, и что он думает, что эту точку зрения будет нетрудно обосновать, тем более что он и сам будет говорить в полном соответствии с этими мыслями. Во вторник днем, снова по телефону, министр иностранных дел сообщил мне, что телеграмма Витте отправлена в этом именно смысле, причем тон депеши был переделан государем лично настолько решительно в смысле недопустимости контрибуции, что он не сомневается в том, что Витте нельзя более вернуться к этому вопросу.
Как известно, через два дня соглашение было достигнуто, и я считаю делом моей совести сказать, что соглашение это состоялось главным образом потому, что государь проявил величайшую настойчивость, которой ему не мог внушить граф Ламсдорф, не способный на решительное сопротивление вообще.
Не было тут никакой заслуги и с моей стороны, так как я не видел государя в последнюю минуту, а письменное изложение тех или иных мыслей никогда не производило на него решающего действия. Я вполне уверен в том, что он ни в каком случае не отступил бы от недопустимости контрибуции и продолжал бы войну, если бы японцы не уступили. К чему бы привело это в конечном результате – это другой вопрос, но справедливость все-таки побуждает сказать, что мы не уплатили контрибуцию только потому, что Витте понял, что государь действительно на нее не согласится.
В пятницу, на докладе, государь был в самом радостном настроении и сказал мне, что он счастлив тому, как окончилось все дело, и что «Витте, очевидно, понял, – подлинные его слова, – что контрибуции я ни в каком случае не оплачу, хотя бы мне пришлось воевать еще два года».
Незадолго до того, как переговоры в Портсмуте привели к окончательному выяснению коренного разногласия между русскими и японскими уполномоченными и наш главный уполномоченный С. Ю. Витте должен был представить их по телеграфу на разрешение государя, испрашивая его последних указаний, – министр иностранных дел граф Ламсдорф и граф Сольский получили от С. Ю. Витте тождественные телеграммы, в которых он высказал свое опасение, что упорство Японии может вынудить нас или сделать тяжелые для нас уступки, или даже прервать переговоры и продолжать приостановленные военные действия.
Такое решение, чреватое своими последствиями, принятое к тому же одним правительством, без всякого участия общественного мнения, естественным образом обратит весь одиум[8]8
Odium (лат.) – ненависть, неприязнь, вражда.
[Закрыть] осуждения непосредственно на верховную власть. Для того чтобы избежать этого, С. Ю. Витте высказал, что было бы крайне желательно созвать в спешном порядке совещание из наиболее видных общественных деятелей – представителей земств, городов и дворянства, – которому и предоставить высказать его мнение по поводу намечаемых оснований мирного договора ранее, нежели они поступят на утверждение государя.
Я узнал об этой телеграмме от графа Сольского, когда он пригласил меня, – как он сказал по телефону, – прибыть немедленно по очень спешному делу.
Я застал у него министра иностранных дел, который успел уже до моего приезда высказаться совершенно отрицательно по поводу предположения С. Ю. Витте, выражая свое недоумение, каким образом можно созвать такое совещание и как согласовать его заключение с пределами власти государя. Он особенно настаивал на том, что положение государя может быть даже гораздо хуже, если, получив заключение совещания, он примет решение, несогласное с ним.
Мнение графа Сольского было тождественно по существу, но шло еще гораздо дальше с точки зрения простой невыполнимости намеченного предположения. По его словам, переговоры в Портсмуте и без того настолько затянулись, что еще на днях была получена телеграмма от нашего главного уполномоченного с извещением, что президент Рузвельт начинает терять терпение.
Созыв совещания, даже если бы он мог быть допущен и осуществлен, настолько замедлил бы ответ России, что вся ответственность за неразрешение вопроса падала бы неизбежно на нее, и это одно делает мысль С. Ю. Витте неприемлемою.
Еще более неосуществимым окажется самый выбор участников совещания и выработка каких-либо справедливых и приемлемых для общественного мнения оснований для участия в таком небывалом совещании.
Особенно подробно останавливался граф Сольский на соображениях об особой щекотливости применения такого приема в данном случае и решительно поддержал графа Ламсдорфа в его резко отрицательном отношении к поднятому вопросу. Он просил нас обоих составить совместно краткое изложение высказанных мнений и представить его в письменной форме не далее как завтра утром, непосредственно государю, с тем чтобы он имел возможность обдумать все высказанное и принять свое решение.
Вечером того же дня содержание телеграммы С. Ю. Витте и мнение, высказанное нами тремя по ее содержанию, было передано графу Сольскому и отвезено за общими нашими подписями в Петергоф.
В тот же день около двух часов пополудни министр граф Ламсдорф сообщал мне, что государь без малейших колебаний утвердил представленное ему заключение и высказал целый ряд соображений, незатронутых в нашем письменном заключении, но вполне совпадавших с сущностью непосредственного между нами обмена мнений.
Телеграмма об этом была послана Витте в тот же день; спустя два или три дня пришла от него и депеша, излагающая последний фазис переговоров, послуживший к описанному уже выше окончательному решению, принятому государем.
В правительственной среде, да и в общественном мнении заключение мира прошло как-то малозаметно. Война велась слишком далеко от всех нас, ее отражение на повседневной жизни было слишком мало, и все жило под влиянием тех непосредственных впечатлений, которые чувствовались на каждом шагу, тем более что эти впечатления становились все более и более грозными, и никто не давал себе ясного представления о том, к чему все это приведет.
Забастовочное движение на фабриках росло и ширилось. Движение по железным дорогам становилось все более неправильным, и остановки в пути стали повторяться часто. Балтийский край был весь в самом тревожном состоянии, и, так сказать, под боком у Петербурга нападения на полицию и воинские части делались все более и более частыми. Курляндия шла в этом отношении впереди своих соседок и вызвала необходимость карательных экспедиций, возложенных на гвардейские части.
Я уверен, что многие помнят до сих пор дикую расправу, учиненную над драгунским отрядом в Газенпоте. Заживо сожженные солдаты не могли не вызвать отпора со стороны военной силы, посланной на усмирение восстания, а сплошные грабежи в имениях, с разорением замков, ясно указывали на то, какое направление принимают эти провозвестники событий 17-го и 18-го годов.
Все эти события наложили особый отпечаток на ту область, которая была мне особенно близка. Государственные доходы стали поступать туго, и в кассовом отношении стали замечаться явления, которых вовсе не знали полтора года войны.
Думать о возможности найти необходимые средства с помощью внутреннего займа не приходилось, и мне оставалось только ждать возвращения Витте, тем более что на посланное мною ему приветствие по поводу заключения мира я получил от него очень любезную телеграмму, в которой он напоминал мне, что хорошо помнит о данном мне обещании и остановится нарочно в Париже с этой целью, будучи твердо уверен в том, что легко достигнет успеха, так как отпало теперь главное препятствие. Затем из Парижа я получил от него некую телеграмму с сообщением, что, несмотря на то, что многих из нужных мне людей он не нашел на месте, он имеет самые положительные обещания и рассчитывает на скорый благоприятный их результат.
Что произошло в короткий промежуток времени между пребыванием Витте в Париже и возвращением его в Петербург, я положительно не знаю. Во всяком случае, очевидно, что произошло нечто необычное, вызвавшее к тому же и неожиданные для меня последствия. Вскружил ли ему голову успех в Портсмуте, пришла ли ему, после свидания с германским императором в Роминтене и оказанного ему там приема, мысль о том, что он спас Россию и призван быть теперь единственным вершителем всех ее судеб, укрепился ли он в той же мысли после приема у государя и возведения его в графское достоинство, захотел ли он под влиянием всех этих успехов просто отделаться от меня, так как считал меня всегда недостаточно покорным его воле, – я этого не знаю, но должен отметить, что после первой же нашей встречи, по его возвращении, Витте стал проявлять на глазах у всех совершенно небывалую резкость по отношению ко мне и просто недопустимую нетерпимость к каждому выраженному мною мнению.
Я поехал к нему поздравить его в день его приезда, не застал его дома и оставил ему несколько слов горячего привета. Он посетил меня на следующий день, пробыл всего несколько минут, не сел даже на предложенное кресло и все ходил по моему кабинету как-то вяло, точно не охотно, отвечая на мои вопросы.
Он не обмолвился ни одним словом о том, что я держал его почти ежедневно в курсе всех событий за время его отсутствия, как будто бы я не послал ему ни одной телеграммы. На мою попытку рассказать ему более подробно о том, что происходит у нас, я ясно видел, что он просто не расположен меня слушать, и прервал меня даже словами: «Все это пустяки по сравнению с тем, что будет дальше, и ничего, кроме глупостей, здесь не делается», а на мой вопрос, что именно разумеет он, Витте ответил раздраженным тоном: «Сами скоро увидите», а на просьбу мою сказать мне, что удалось ему сделать в Париже, он ответил также резко: «Да все сделал, можете послать телеграмму Нетцлину, чтобы он приезжал. Шипов вам передаст. Он в курсе всех моих переговоров». После этих слов он подал мне руку и уехал, оставив меня в полном недоумении по поводу этой нашей встречи.